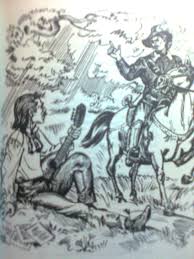Давняя сказка Леси Украинки. Образы поэта и рыцаря
«Давняя сказка» Леси Украинки. Образы поэта и рыцаря
Запоздавшее, но расширенное, по сравнению с планировавшимся, сочинение.
В восьмом классе дело было? Наверное, в восьмом. Классная руководительница, жутко раздраженная преимущественным безразличием класса к главному герою Лесиной поэмы «Давня казка», обещала на следующий раз не сочинение, а контрольную на тему – «Образ поэта» в этой поэме.
Вернувшись домой, я заявила бабушке, что предпочла бы контрольную на тему «Образ рыцаря Бертольдо», так как нахожу этот образ более сложным. Дело в том, что в школьном учебнике отсутствовала вторая часть поэмы, о влюбленности Бертольдо в Изидору, а я поэму уже прочла полностью. Я, правда, на тот момент читала только окончательную редакцию поэмы, в которой поэт – не калека.
На следующий раз, когда предполагалась контрольная, я заболела и об образе поэта не писала. Поэтому сейчас выполню оба замысла – и учительский, и свой.
Тому, кто прочтет поэму от начала до конца, легко заметить, что образ рыцаря – более динамичен и вмещает больше черт. О поэте, – зная, что он задуман калекой – надо сказать, что он при помощи дара слова и фантазии превозмогает телесную немощь, что он олицетворяет свободу (“Сам я волен, и вовеки Не вредил чужой я воле!“, перевод здесь и далее мой), что он беден, но не борется со своей бедностью, довольствуясь той помощью от друзей, какая возможна, что он по-настоящему талантлив, что он щедр (охотно помогает рыцарю, обратившемуся за помощью), что он не чувствует себя одиноким, так как окружен народом (в данном случае – крестьянами), что он способен и сострадать народу и призывать народ к борьбе. Почему именно он – однорукий, не уточняется. Может быть, раньше был на войне, может быть – нет. Можно заметить нелогичную деталь: будучи одноруким, он хоть как-то играет на мандолине.
О рыцаре можно сказать больше. Для начала, у него есть имя. У поэта имени нет, и это, по всей видимости, указывает, что образ его – обобщенный: вот каким должен быть настоящий поэт, верным народу, не продажным. Возраст поэта также не уточняется. Из того, что его окружает сельская молодежь, именно молодежь, можно по принципу противопоставления сделать вывод, что поэт, вероятно, – не юн. У рыцаря собственное имя есть, но употребляется в двух формах, немецкой и итальянской, с окончанием на «о». Это и уступка стихотворной форме рассказа, и напоминание о том, что место действия поэмы условно. Также в первой части поэмы выясняется, что у рыцаря, в отличие от поэта, есть конкретные материальные желания:
“Пусть взлетать умеешь в небо,
Мир тебе покорен тайный,
Я б избрал земное графство
И под небом замок славный.
Пусть считаешь, что богат ты,
Пусть ты выдумал немало,
Для меня есть то, что лучше:
Милая б поцеловала…“
Как для начала, эти желания возмущения вызывать не обязаны, в особенности – второе, и в особенности – у читательниц.
Рыцарь горд, но не настолько, чтоб не обратиться за помощью к поэту, называя его при этом другом. (При этом поэт называет рыцаря гостем). У рыцаря есть любовная история, которой нет у поэта. Если у поэта она была, читатель о ней не узнает. (Не зная, что поэт задуман калекой, я в детстве пыталась придумать ему любимую девушку, которая ухаживает за ним, но на которой он не женится, чтобы не подвергать ее риску). Рыцарь способен бороться за любовь и, по всей видимости, становится хорошим мужем. Жена названа любимой и милой без иронии. Молодой наследник, который остается у Бертольда, по всей видимости, его сын.
Рыцарь обладает голосом и играет на мандолине, но не может писать стихи. Это – деталь, вызванная противопоставлением поэзии и власти в сказке. Именно этот рыцарь Бертольдо не может писать стихи. Рыцарей, которые могли это делать, перечислять долго (привет, для примера, сэру Уолтеру Роли и сэру Филипу Сидни). Но при этом Бертольдо не чужд ораторского искусства: в третьей части поэмы на войне
«Хоть Бертольд разумным словом
Начал к войску обращенье,
Стало от его попытки
Хуже в войске возмущенье».
А могло б и не стать хуже, могло б успокоиться (привет, например, речи о дне святого Криспиана в шекспировском «Генрихе V». Там, правда, не возмущение в войске, но грань возмущения). По решению автора поэмы, главным для усмирения бунта в войске должно быть слово певцов, еще и шуточное.
Небольшая деталь, не имеющая значения для сказки, но имеющая его, если применить исторический подход. Войско, возглавляемое Бертольдо, – явно рыцарское. Для него важен аргумент чести.
«В бой идем! Нас не удержат!
Лучше смерть, чем стыд навечно!»
Но при этом певцы при войске, которых научил песням поэт – главный герой поэмы, обращаясь к рыцарскому войску, говорят «Братья». Это заметное нарушение правил, которое им прощают. Певцы – вряд ли рыцари, но рыцарей называют братьями, а это слово предполагает равенство. Эти певцы при войске – объединители господ и народа в пьесе. Таким же объединителем в данный момент усмирения бунта в войске является и отсутствующий на месте действия поэт-главный герой: на рыцарей воздействуют его словами. Потом он выберет угнетенный народ и перестанет быть таким объединителем.
Рыцарь отважен. На охоте он едет первым, на войне берет несколько городов. Неудачную осаду вражеской столицы он продолжает после четырех отбитых приступов. Сперва он недоволен тем, что тот поэт, чьи слова он слышит на войне, при войске отсутствует:
«Да, – Бертольд промолвил гордо, –
Наш певец отваги – вот он!
Что ж, воюя лишь словами,
Можно не прощаться с домом!»
Но узнав, что высказался так об известном ему поэте-калеке, Бертольдо признает, что был неправ и берет свои слова обратно. Стало быть, на этом этапе он способен извиниться, даже перед неровней.
Самая главная отрицательная черта Бертольдо, которая проявляется в поэме дважды, - его неблагодарность по отношению к поэту. Сперва он просто обещает подать милостыню, но оказывается без денег; затем он дважды обещает наградить за помощь и не награждает. Это должно восстановить читателя против рыцаря и подготовить к печальной развязке. Но в первом случае неблагодарности очень легко предложить логичное объяснение, почему поэт не был приглашен на свадьбу Бертольдо: Изидоре вряд ли бы понравилось, узнай она, что настоящий автор слов обращенной к ней серенады – не ее жених. Во втором случае объяснение предложить куда труднее, но тоже можно. Песня, которая на войне спасла Бертольдо от бунта в войске, – издевательство над трусливым и хвастливым рыцарем. В другой момент Бертольдо мог бы счесть ее оскорбительной насмешкой над рыцарством вообще. Как, вероятно, и произошло после того, как он подумал.
Сделавшись графом, Бертольдо жаден и жесток – не сразу.
«Счастья этого вначале
Был Бертольд достоин, правда.
Суд вершил он справедливо,
Жаловал людей исправно».
Жаден и жесток он становится постепенно, под влиянием того, к чему привык на войне. Бертольдо явно дурнеет под влиянием того, что делается старше. В молодости он был беден, что его раздражало – почему при первой встрече с поэтом он высказал это раздражение.
«Вспыхнул гневом рыцарь гордый.
Смирным стать он не пытался,
Только гордость и упрямство
Были всем его богатством».
Для Бертольдо логично – хотеть разбогатеть, но второй вопрос – как он при этом поведет себя. Он ведет себя дурно. Но и при этом понимает, что лучше для начала высказать милосердие: для начала – певцу под стенами замка, затем – главному герою-поэту, которому он предлагает сделку. Так же понятно, что угрозу своей жизни оставлять без ответа он не должен.
Рыцарь Бертольдо заявлен с самого начала поэмы как отрицательный персонаж, но по мере развития действия складывается впечатление: он мог бы быть лучше, но стал хуже.
У поэта и рыцаря в поэме есть два общих способа характеристики: речь самого героя и речь автора. Речь героев дает выразиться отличию между характерами. Поэт с горя остроумен (учительница в этом случае велела запомнить украинское слово «дотепний» - остроумный). Рыцарь может быть груб, но также обладает образным мышлением и шутит:
“Надо же! И тут охота! –
Дал тут рыцарь волю смеху. –
Слушай, лучше убирайся,
Будет горе, не потеха!”
“Черт возьми! Ну ты и умник! –
Рыцарь говорит. - Найдутся
Молодцы, но вот такого
Не встречал я. Тороплюсь я.
Было б время, я б проверил,
Кто кому добычей станет.
Слуги! Прочь его с дороги!
Умничать пусть перестанет!”
Также надо заметить, что, хотя рыцарь не держит обещаний, и он, и поэт, когда встречаются и беседуют, честны.
Речь автора оказывается главным способом характеристики каждого из героев в поэме. У самого читателя могут быть свои взгляды, но главное для формирования отношения к персонажам, - мнение автора, рассказчицы сказки. Поэт с самого начала – «нещасний» (в моем переводе - «с судьбиной злобной»). Рыцарь с самого начала - «лихий такий, крий боже!» (в моем переводе - «Лих – таких не скоро сыщешь!»). Самое неловкое место: слова рыцаря о том, что он предпочел бы фантазиям настоящие графство, замок и поцелуй от любимой девушки автор характеризует как «недбалу горду мову» (в моем переводе - «небрежную гордую речь»). Она должна такой показаться с точки зрения поэта, но вряд ли такой покажется с точки зрения всякого читателя. Что гордого в том, чтобы пожелать взаимности в любви?
И еще один способ характеристики, который есть только у поэта, но которого нет у рыцаря, – песни. Этот способ должен бы быть главным, но им не становится. Первая песня – в жанре любовной лирики, и из нее следует понимание того, что на героиню серенады должна подействовать лесть. Вторая песня – в жанре гражданской лирики, третья – шуточная. Четвертая призывает к восстанию и убийству.
Все эти четыре песни должны характеризовать своего автора. Они делают его фигуру куда более многообразной, чем может показаться только по его речи и речи автора поэмы. Он может объясниться в любви, хотя – чужой возлюбленной от имени того, кто в действительности в нее влюблен. Может объясниться в любви родному краю – и воспеть такую любовь. Может подшутить над хвастовством труса – то есть, косвенно похвалить храбрость. Может призвать к сопротивлению угнетению – и к убийству угнетателя.
Тут – главное, что делает фигуру вроде бы сплошь положительного, любимого автором поэмы поэта неоднозначной. Делает внезапно, а неоднозначной – сильно.
В первой песне поэт восхваляет красоту неведомой ему Изидоры. В четвертой – призывает пролить кровь барина, чтобы посмотреть, голубая ли прольется кровь. А так как куплетом выше о голубой крови речь зашла потому, что «в пані рученька тендітна» (в моем переводе - «ручка дамы – восхищает!»), очень легко сделать вывод, что теперь поэт призывает убить не только Бертольда, но и Изидору. Которой сперва он посвятил серенаду.
И тут тоже можно предложить объяснения: но ведь серенада – только в подарок Бертольдо, а не о своей любви; но ведь поэт не знал, как Бертольдо поведет себя дальше, он никогда не был знаком с Изидорой… Мог поэт передумать? Есть ли для него какое-то ограничение, если он раньше написал для той же дамы серенаду? Все эти объяснения могут сработать, но все-таки можно содрогнуться. (Особенно если знаешь, что Изидора – еще и имя младшей сестры автора поэмы. Читатель этого знать не обязан, но может). О характере Изидоры – персонажа поэмы мы знаем только то, что похвалы красоте на нее действуют. Содействовала ли она как-нибудь эксплуататорской политике Бертольдо, с точностью неизвестно: можно вообразить, что да, можно – что не слишком. Погибла ли она вместе с Бертольдо, нам также не сообщают.
Но, когда прочтешь заключительную песню поэта, зная о первой – серенаде, в отношении образа поэта срабатывает – в моих глазах – принцип чистой рубашки, на которую нанесено чернильное пятно. Положительный, любимый автором поэт вдруг – страшный калека.
Кажется, «Давняя сказка» могла бы быть и другой. Поэт мог бы не народу адресовать песни, призывающие к кровопролитию, а, напротив, Бертольдо – песни, пробуждающие его совесть. Подобно тому, как его третья песня на войне подействовала на чувство чести рыцарей из войска. Тогда, если бы Бертольдо остался жестоким барином, страшен был бы он, а не поэт стал бы также страшным. Но этого не происходит. Поэт пишет для народа, а придворным поэтом, которого лучше слышал бы Бертольдо, не становится. Это указывает, что поэт возмущен поведением Бертольдо, но не хитер. Наконец, не лишнее – напомнить, что в жизни придворные деятели искусства – необязательно всегда лицемерны. (Привет авторам «Короля Лира» и «Мизантропа», пьес, выражающих протест против лицемерия, двум придворным драматургам. Привет Веласкесу и Гойе, двум придворным живописцам, считающимся великими реалистами).
Что мне точно нравится в «Давней сказке» - легкие заразные, подобающие сказке, стихи и призыв к деятелям искусства не быть продажными.
«Не поэт, - тот, кто забудет,
Как народ страдает много,
Тот, чьи предали свободу
Руки в золотых оковах».
Что мне не нравится – пропаганда революционного террора. Не нравится она мне с точки зрения человека, который разоблачение террора пережил.
Но призыв к людям искусства «не продавайтесь!» должен, по всей видимости, быть главным для впечатления от этой поэмы. Пусть им и останется.
Иллюстрация из учебника А. Бандуры и Н. Волошиной "Украинская литература" для 8 класса. Похожа на ту, что была в моем учебнике, но не такая же. В моем учебнике поэт в национальном костюме не был. Редакция поэмы здесь поздняя, поэтому поэт - с двумя руками.
Свидетельство о публикации №123113007274