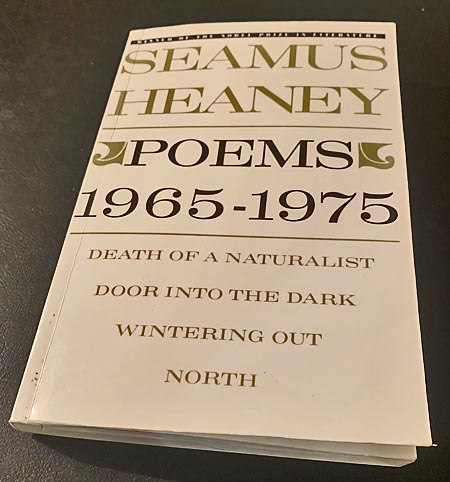Шеймас Хини. Дверь во тьму
Ночная сцена
Тебе это нужно снова?
Глухие тычки в сено,
Смятенное ржанье.
Зубы в окруженьи разверзшихся губ,
Бёдра и мышцы,
Копыт стук
Под крышей ждут.
Night-Piece
Must you know it again?
Dull pounding through hay,
The uneasy whinny.
A sponge lip drawn off each separate tooth.
Opalescent haunch,
Muscle and hoof
Bundled under the roof.
Ушедший
Блестящие преж удила -
Под пеной зелёной
(Покрытой пыльцой травяной),
Изгиб пропотевшей подпруги
Стал жёстким, холодным до жути,
Охвостья шор висят,
Из кожи повылазив.
Так упряж не годна -
Всё в беспорядке.
Зловонье унеслось.
Остался затхлый дух.
Он сгинул так поспешно,
Подковы лишь надев
И в стойле не прибрав.
Gone
Green froth that lathered each end
Of the shining bit
Is a cobweb of grass-dust.
The sweaty twist of the bellyband
Has stiffened, cold in the hand
And pads of the blinkers
Bulge through the ticking.
Reins, chains and traces
Droop in a tangle.
His hot reek is lost.
The place is old in his must.
He cleared in a hurry
Clad only in shods
Leaving this stable unmade.
Сон
Серпом садовым
С кованой тяжёлой рукоятью
Рубил я толстый ствол,
Что с телеграфный столб.
А рукава засучены -
Прохладный ветер руки холодит,
Размах - и лезвие вонзил,
Но мучился потом его извлечь.
Удар ещё,
Пришёлся он по чьей-то голове.
И прогоняя сон,
Услышал явно, как
Под треск и хруст сталь в лоб вошла.
Dream
With a billhook
Whose head was hand-forged and heavy
I was hacking a stalk
Thick as a telegraph pole.
My sleeves were rolled
And the air fanned cool past my arms
As I swung and buried the blade,
Then laboured to work it unstuck.
The next stroke
Found a man's head under the hook.
Before I woke
I heard the steel stop
In the bone of the brow.
Бандит
Келли держал незаконно быка, пряча от глаз,
Тёлку ведя к нему, штрафом рискует каждый из нас,
Но за услугу взималась обычная плата,
Вот я повёл к нему нервную фризу когда-то.
Шли по дорожке, ольха нас серёжкой дразнила,
Там был сарай, где быка содержали, громилу.
Ну а зачем серебра дал монеты я Келли,
Не знаю, только старик мне ворчливо ответил:
"Вот у ворот постоишь". Тут и стал наблюдать
Я за концепцией, бизнес как поднимать.
Дверь распахнулась с ударом о стену,
Выбрался незаконный производитель на сцену,
Неспешно, как паровоз маневровый,
По кругу пошёл, фыркал с храпом суровым,
Непринуждённо, как тёртый торговец он шёл,
Тут неожиданно сделал рывок и - прыжок,
Вот уже фризу он мощью своей оседлал,
Невозмутимо обрушил свой арсенал,
Как несмотря на преграды двигает танк.
Келли похлопал прутом ей по заду: "Итак,
Справится ваша, а нет, так назад приводи".
Мы пошагали домой, я трусил впереди.
Келли под гиканье грубо бандита толкал:
Тот установленный срок в темноте отбывал.
The Outlaw
Kelly's kept an unlicensed bull, well away
From the road: one risked a fine, but had to pay
The normal fee if cows were serviced there.
Once I dragged a nervous Friesian on a tether
Down a lane of alder, shaggy with catkin,
Down to the shed the bull was kept in.
I gave Old Kelly the clammy silver, though why
I could not guess. He grunted a curt "Go by.
Get up on that gate." and from my lofty station
I watched the businesslike conception.
The door, unbolted, whacked back against the wall.
The illegal sire fumbled from his stall
Unhurried as an old steam engine shunting.
He circled, snored, and nosed. No hectic panting,
Just the unfussy ease of a good tradesman;
Then an awkward unexpected jump, and
His knobbled forelegs straddling her flank,
He slammed life home, impassive as a tank.
Dropping off like a tipped-up load of sand.
"She'll do," said Kelly and tapped his ash-plant
Across her hindquarters. "If not, bring her back."
I walked ahead of her, the rope now slack
While Kelly whooped and prodded his outlaw
Who, in his own time, resumed the dark, the straw.
Рыболов - лососю
Вверх по теченью ты стремишься
От моря прочь в родные воды,
Под притяжением родной земли
Изгнанник так же рвётся к дому.
В стремнине я стою бурлящей -
На мелководье жду сраженья,
Свою я вижу острогу, сачок -
Искажено их отраженье.
Мне подсказали надушить червей
Пахучим маслом дикого плюща -
Приманка лучшая, чтоб ты попал в беду,
Когда от голода расширятся глаза.
Течение бьёт в ноги, огибает,
И за спиной проходит рябь,
Хореографией объятый водной,
Я, как и ты, в струе готов петлять.
И нанесу удар, когда ты прыгнешь.
Нас сокрушит обоих на лету:
Ты сталь не сможешь проглотить - погибнешь,
А я весь в чешуе домой приду.
The Salmon Fisher to the Salmon
The ridged lip set upstream, you flail
Inland again, your exile in the sea
Unconditionally cancelled by the pull
Of your home water's gravity.
And I stand in the centre, casting.
The river cramming under me reflects
Stung gaff and net and a white wrist flicking
Flies well-dressed with tint and fleck.
Walton thought garden worms, perfumed
By oil crushed from dark ivy berries
The lure that took you best, but here you come
To grief through hunger in your eyes.
Ripples arrowing beyond me,
The current strumming water up my leg,
Involved in water's choreography
I go, like you, by gleam and drag
And will strike when you strike, to kill.
We're both annihilated on the fly.
You can't resist a gullet full of steel.
I will turn home fish-smelling, scaly.
Кузница
Хотелось бы знать, что за дверью во тьму.
Снаружи железки ржавеют фатально.
Внутри молот бьётся о наковальню
И россыпью искр породит кутерьму,
Иль, фыркнув, подкова в воде остывает.
Наверное, в центре стоит наковальня,
Рогатая, как единорог,
Стоит неподвижно, будто алтарь,
Где Он весь во власти звуков и формы,
И кожаный фартук Его не утешит -
Припомнит печально, припав к косяку,
Копыт стук, где ныне машин до зарезу,
Кряхтя, Он вернётся, раздует мехи
И с грохотом будет долбить по железу.
The Forge
All I know is a door into the dark.
Outside, old axles and iron hoops rusting;
Inside, the hammered anvil's short-pitched ring,
The unpredictable fantail of sparks
Or his when a new shoe toughens in water.
The anvil must be somewhere in the centre,
Horned as a unicorn, at one end square,
Set there immoveable: an altar
Where he expends himself in shape and music.
Sometimes, leather-aproned, hairs in his nose,
He leans out on the jamb, recalls a clatter
Of hoofs where traffic is flashing in rows;
Then grunts and goes in, with a slam and flick
To beat real iron out, to work the bellows.
Тэтчер
Недели ждали мы его, и вот
Он появился, велосипед был снаряжён
И лестницей, и коробом с ножами.
Работу начал он с осмотра крыши.
Потом он развернул пучки соломы,
Взял связку прутьев: ива и орешник,
Их важно постучал, для прочности скрутил,
Он будто утро проводил в разминке:
Поставил лестницу и разложил ножи,
И прутья заострил, и обкорнал солому,
Согнув пруты, из них наделал скобы,
Чтобы пучки скреплять за горстью горсть.
Он ковырялся день за днём между стропил,
Он резал и сшивал, сшивал и резал,
Укладывал на скат соломы лоскуты,
Нас изумлял - как будто их Мидас касался.
Thatcher
Bespoke for weeks, he turned up some morning
Unexpectedly, his bicycle slung
With a light ladder and a bag of knives.
He eyed the old rigging, poked at the eaves,
Opened and handled sheaves of lashed wheat-straw.
Next, the bundled rods: hazel and willow
Were flicked for weight, twisted in case they'd snap.
It seemed he spent the morning warming up:
Then fixed the ladder, laid out well honed blades
And snipped at straw and sharpened ends of rods
That, bent in two, made a white-pronged staple
For pinning down his world, handful by handful.
Couchant for days on sods above the rafters
He shaved and flushed the butts, stitched all together
Into a sloped honeycomb, a stubble patch,
And left them gaping at his Midas touch.
Полуостров
Когда тебе нечего больше сказать,
Прокатись по всему полуострову на день.
Высокое небо взлетать приглашает,
Назад же не сесть: не зацепится взгляд,
Видна только берега полоса,
А в сумерках море слилось и холмы,
Во вспаханном поле дома потерялись,
И ты будто снова во тьме заперся.
Но вспомни завесу над берегом, скал
Крутых очертанья, где волны рвёт в клочья,
Где длинноногие птицы ходульно шагают,
И камни, сокрыв, туман всплыть обрекал.
По-прежнему не знаю, что сказать,
Кроме подсказки, как читать пейзажи:
Взгляд с чистотой природных форм нам важен -
Вода с землёй на собственном краю.
The Peninsula
When you have nothing more to say, just drive
For a day all round the peninsula.
The sky is tall as over a runway,
The land without marks so you will not arrive.
But pass through, though always skirting landfall.
At dusk, horizons drink down sea and hill,
The ploughed field swallows the whitewashed gable
And you're in the dark again. Now recall
The glazed foreshore and silhouetted log,
That rock where breakers shredded into rags,
The leggy birds stilted on their own legs,
Islands riding themselves out into the fog
And drive back home, still with nothing to say
Except that now you will uncode all landscapes
By this: things founded clean on their own shapes,
Water and ground in their extremity.
В Оратории Галларус*
Здесь всё ещё чувствуешь общность:
Вошли в груду торфа, возможно,
Тьма в коконе старого камня,
Вы в нём одиноки, бесправны,
Ничтожность свою осознали,
На самое дно тут упали,
Отсюда и Бог не достанет.
Герои в могильном кургане
В глазах властелина искали себя,
Дыханьем своим придавились, скорбя.
Он вышедших доброй улыбкой встречал,
Где море - кадило, а травы - свеча.
Примечание: * ораторий - культовое сооружение, ораторий Галларус - старейшая христианская церковь в Ирландии
In Gallarus Oratory
You cam still feel the community pack
This place: it's like going into a turfstack,
A core of old dark walled up with stone
A yard thick. When you're in it alone
You might have dropped, a reduced creature
To the heart of the globe. No worshipper
Would leap up to his God off this floor.
Founded there like heroes in a barrow
They sought themselves in the eye of their King
Under the black weight of their own breathing.
And how he smiled on them as out they came,
The sea a censer, and the grass a flame.
Купающиеся девушки,
Голуэй, 1965
Они барахтались средь пены волн,
Взлетали руки с фейерверком брызг;
Как мячики качался ряд голов,
На берегу едва их слышен визг.
Венера здесь на берег не взошла,
Чудесной розы нежное дитё.
Здесь Грейс среди ветров и мглы жила -
Пиратов королевы тут чертог.
Друг друга волны мстительно крушат,
За горизонт года испепелит,
И в море пивом пенистый каскад
Одежды королевы растворит.
В солёной пене поколений след,
Где бьются волны, тут бунтует плоть,
Страшась греха и веруя в рассвет,
Когда его уж время утекло.
А ласточки в купальниках стройны,
Они порхают - маленький каприз,
Бегут на берег, весело галдят,
Наверно, так Венера славит жизнь.
Girls Bathing,
Galway 1965
The swell foams where they float and crawl,
A catherine wheel of arm and hand;
Each head bobs curtly as a football.The yelps are faint here on the strand.
No milk-limbed Venus ever rose
Miraculous on this western shore.
A pirate queen in battle clothes
Is our sterner myth. The breakers pour
Themselves into themselves, the years
Shuttle through space invisibly.
Where crests unfurl like creamy beer
The queen's clothes melt into the sea
And generations sighing in
The salt suds where the wave has crashed
Labour in fear of flesh and sin
For the time has been accomplished
As through the swallows in swimsuits,
Brown-legged, smooth-shouldered and long-backed
They wade ashore with skips and shouts.
So Venus comes, matter-of-fact.
Реквием по кроппи*
Карманы наши полны ячменя -
Нет кухонь походных, мы движемся быстро
По нашей стране, не разбив лагеря.
В пути по обочинам пьют моралисты.
В походном строю тяжелы наши копья,
Все мысли о том, как мы будем сражаться:
Рубить, колоть всадников, резать поводья,
Панически скот направлять на пехоту,
От кавалерии можно втыкать в землю пики.
Только при Винегар-Хилле** наш роковой был конклав:
Тысячи гибли, тряся перед пушками косы,
Холм покраснел, где кровавая билась волна.
Нас хоронили без савана, гроба.
В августе вырос ячмень на могилах сполна.
Примечания: *"Кроппи" (Croppy) - это прозвище, данное в Ирландии в XVIII веке ирландским националистам, выступавшим против британского владычества
**"Винегар-Хилл" (Vinegar Hill) - место в графстве Уэксфорд, Ирландия, где произошло одно из ключевых сражений Ирландского восстания 1798 года.
Requiem for the Croppies
The pockets of our great coats full of barley -
No kitchens on the run, no striking camp -
We moved quick and sudden in our own country.
The priest lay behind ditches with the tramp.A people, hardly marching - on the hike -
We found new tactics happening each day:
We’d cut through reins and rider with the pike
And stampede cattle into infantry,
Then retreat through hedges where cavalry must be thrown.
Until, on Vinegar Hill, the final conclave.
Terraced thousands died, shaking scythes at cannon.
The hillside blushed, soaked in our broken wave.
They buried us without shroud or coffin
And in August the barley grew up out of the grave.
Весенний ритуал
Итак, зимы кулак
Застрял вконец в насосе.
Встал плунжер в гиблой позе -
В насоса горловине
Застыл лёд, рукоятка
Параличом разбита знатно.
Скрутили мы солому
И обмотали косы
Вокруг всего насоса.
Огонь пылал азартно,
Остыв, насос ожил.
Она пришла, и ладно.
Rite of Spring
So winter closed its fist
And got it stuck in the pump.
The plunger froze up a lump
In its throat, ice founding itself
Upon iron. The handle
Paralysed at an angle.
Then the twisting of wheat straw
Into ropes, lapping them tight
Round stem and snout, then a light
That sent the pump up in a flame.
It cooled, we lifted her latch,
Her entrance was wet, and she came.
Ундина*
Он вереск рубил, разгребал серый ил,
Чтоб дать моим водам свободно идти,
Откликнулась я, от коросты светлея,
Он замер, увидев нагою меня,
Бегущую чистой, свободной, бесстрастной,
Вблизи он ходил, я струилась, плескалась.
И там, где канава с рекою сошлись,
Вонзил он лопату, меня пригласив,
И я отдалась, забегая в канаву,
Любезно себя растворив для любви,
Взбираясь по саженцев наглым волокнам.
Однажды он понял - я рада ему,
Способствуя росту, создам нежный образ.
Он мною проникся и, трогая стебли,
Согрел он меня, наполняя душой.
Примечание: *Ундина - водяная фея, которая не может обрести душу, пока не сможет уговорить человеческого мужчину жениться на ней.
Undine
He slashed the briars, shoveled up grey silt
To give me right of way in my own drains
And I ran quick for him, cleaned out my rust.
He halted, saw me finally disrobed,
Running clear, with apparent unconcern.
Then he walked by me. I rippled and I churned
Where ditches intersected near the river
Until he dug a spade deep in my flank
And took me to him. I swallowed his trench
Gratefully, dispersing myself for love
Down in his roots, climbing his brassy grain -
But once he knew my welcome, I alone
Could give him subtle increase and reflection.
He explored me so completely, each limb
Lost its cold freedom. Human, warmed to him.
Рассказ жены*
Когда я всё на скатерти накрыла
У края поля, я их позвала.
Гул и жужжанье молотилки стихли,
Конвейер смолк и лента замерла,
Застрявшая в клещах висит солома.
Внезапная повисла тишина,
Так что доносится хруст по стерне шагов.
Он лёг, сказав: "Парням давай сперва.
Я не спешу", - к чему-то рвал траву,
Подбрасывал. - "А выглядят неплохо.
(На скатерть, улыбнувшись, он кивнул).
Уверен, женщина накрыть могла бы поле,
Хотя парням, как мы, и скатерть не нужна".
Он с удовольствием глядел, как наливаю в чашку
Намазываю толстые ломти, как любит он.
"А молотьба ведь лучше, чем я думал,
И зёрна, погляди, чисты и хороши".
Считаю, что проверить не мешает,
Хоть и не знаешь, как и что смотреть.
Но запустила руку я в мешки -
Они там были твёрдые, как дробь,
Прохладные, не счесть, как капель в море.
Мешки у жёлоба стояли барабана,
А рядом вилы вразнобой торчат в земле,
Как копья побеждённых на полях.
Обратно я вернулась по стерне.
Лежали парни, разбросав очистки,
Курили молча. Гордо он сказал,
Как будто сам землёй был: "Урожай хорош,
Достанет для помола и посева".
И это было всё. Он показал,
Что больше нечего мне с ними делать.
Я чашки собрала, сложила скатерть
и пошла. Они же всё лежали
Устало, благодарно на земле.
Примечание: *Один из критиков писал: "Мужчина в стихотворении, по сути, отводит женщине роль богини зерна Деметры, хотя она об этом и не подозревает. Это показатель того, как сильно он ее любит, но она озадачена".
The Wife's Tale
When I had spread it all on linen cloth
Under the hedge, I called them over.
The hum and gulp of the thresher ran down
And the big belt slewed to a standstill, straw
Hanging undelivered in the jaws.
There was such quiet that I heard their boots
Crunching the stubble twenty yards away.
He lay down and said, ‘Give these fellows theirs.
I’m in no hurry,’ plucking grass in handfuls
And tossing it in the air. ‘That looks well.’(He nodded at my white cloth on the grass.)
‘I declare a woman could lay out a field
Though boys like us have little call for cloths.’
He winked, then watched me as I poured a cup
And buttered the thick slices that he likes.
‘It’s threshing better than I thought, and mid
It’s good clean seed. Away over there and look.’
Always this inspection has to be made
Even when I don’t know what to look for.
But I ran my hand in the half-filled bags
Hooked to the slots. It was hard as shot,
Innumerable and cool. The bags gaped
Where the chutes ran back to the stilled drum
And forks were stuck at angles in the ground
As javelins might mark lost battlefields.
I moved between them back across the stubble.
They lay in the ring of their own crusts and dregs
Smoking and saying nothing. ‘There’s good yield,
Isn’t there?’ - as proud as if he were the land itself -
‘Enough for crushing and sowing both.’
And that was it. I’d come and he had shown me
So I belonged no further to the work.I gathered cups and folded up the cloth
And went. But they still kept their ease
Spread out, unbuttoned, grateful, under the trees.
Мама
Работаю насосом,
Хлещет дождь,
мочалит трос, которым я качаю.
И шлёт последыш воздуха
При каждом (буль!) глотке (ой!) поршня.
Устала скот поить,
Работая, как вечер, ручкой,
Пока из свих мисок
Коровы жадно пьют.
Я тщетно уровень поднять стараюсь,
Они ж так пьют, что он уходит вниз.
И вновь они идут через ворота:
Звенящее кровати изголовье.
Оно уж на последнем издыханьи.
Он радостно теперь уж не звенит .
Устала с этим поршнем я ходить,
Играет он, о Боже!, как телёнок,
Привязанный, от этого безумный.
Лежи иль стой, капризы не унять -
В моём колодце бульки.
Когда вратами стану для себя,
Пусть ветер разметает мои воды,
Как беспардонно треплет юбку,
Как воздух втягивает в грудь.
Mother
As I work the pump, the wind heavy
With spits of rain is fraying
The rope of water I'm pumping.
It pays itself out like air's afterbirth
At each gulp of the plunger.
I am tired of the feeding of stock.
Each evening I labour this handle
Half an hour at a time, the cows
Guzzling at bowls in the byre.
Before I have topped up the level
They lower it down.
They've trailed in again by the readymade gate
He stuck into the fence: a jingling bedhead
Wired up between posts. It's on its last legs.
It does not jingle for joy any more.
I am tired of walking about with this plunger
Inside me. God, he plays like a young calf
Gone wild on a rope.
Lying or standing won't settle these capers,
This gulp in my well.
O when I am a gate for myself
Let such wind fray my waters
As scarfs my skirt through my thighs,
Stuffs air down my throat.
Снова посетил Кану
Здесь нет бредущих снуло продавцов,
Привратников, следящих за водой,
Сама вода под пробкою тугой
Не ожидает чудотворных слов.
Но в чреве плоти бурно прорастает,
Ждёт девственная добродетель выход,
И освящает (вашу святость слыша),
Как и вода, красневшая на праздник*.
Примечание: * Речь идет о том, что здесь Иисус сотворил своё первое чудо: претворение воды в вино
Cana Revisited
No round-shouldered pitchers here, no stewards
To supervise consumption or supplies
And water locked behind the taps implies
No expectation of miraculous words.
But in the bone-hooped womb, rising like yeast,
Virtue intact is waiting to be shown,
The consecration wondrous (being their own)
As when the water reddened at the feast.
Элегия о мертворождённом ребёнке
I
Пустой корзиной ходит твоя мать,
Забывшая сакральные толчки
И груз из плоти семенной - творог
С костями - этот мир был изгнан,
В истории лишь оставляя шрам.
День страшного суда так наступил -
Огонь твою планету погубил,
Отяжелела мать от легкости своей.
II
Полгода ты лепил своё лицо,
Мой друг уже готов был стать отцом.
Гадал он, что там скрылось за холмом.
Но пала вдруг звезда, сравняв с землёю холм.
III
В своих прогулках одиноких
Я в мыслях о рождении и смерти,
Венке из маленьких одежд, коляске детской,
Родителях, за призраком бегущих.
Веду машину по этой пустой дороге
Под моросящим небом, грач кружит,
Вокруг холмы, в их цепь вцепились облака,
над озером замерзшим катят волны.
Elegy for a Still-born Child
I
Your mother walks light as an empty creel
Unlearning the intimate nudge and pull
Your trussed-up weight of seed-flesh and bone-curd
Had insisted on. That evicted world
Contracts round its history, its scar.
Doomsday struck when your collapsed sphere
Extinguished itself in our atmosphere,
Your mother heavy with the lightness in her.
II
For six months you stayed cartographer
Charting my friend from husband towards father.
He guessed a globe behind your steady mound.
Then the pole fell, shooting star, into the ground.
III
On lonely journeys I think of it all,
Birth of death, exhumation for burial,
A wreath of small clothes, a memorial pram,
And parents reaching for a phantom limb.
I drive by remote control on this bare road
Under a drizzling sky, a circling rook,
Past mountain fields, full to the brim with cloud,
White waves riding home on a wintry lough.
Викторианская гитара
Посвящается Дэвиду Хаммонду
Надпись: "Принадлежала Луизе Кэтрин Коу до её замужества с Джоном Чарльзом Смитом, март 1852 года".
Я ожидал, что в надписи той будет,
Когда вручили дар (как бы крещенье),
А эта - будто на на гробу табличка.
Луиза Кэтрин Смит вряд ли была беспечной
И поступилась в первую же ночь
Не только именем девичьим честным.
А виртуозных гитаристов руки,
Ни Джона Чарльза, ни кого другого,
Её не трогали - так ясно это.
Ведь очевидно, что она для женских рук:
Звучащий корпус будто девушка в корсете,
Миниатюрный гриф под нежное касанье.
За инструментом, думаешь, нелепо
Ухаживать так? Где найти мужчину
Кому не жалко времени на это?
Victorian Guitar
For David Hammond
Inscribed ‘Belonged to Louise Catherine Coe before her marriage to John Charles Smith, March 1852.’
I expected the lettering to carry
The date of the gift, a kind of christening:
This is more like the plate on a coffin.
Louisa Catherine Smith could not be light.
Far more than a maiden name
Was cancelled by him on the first night.
I believe he cannot have known your touch
Like this instrument - for clearly
John Charles did not hold with fingering -
Which is obviously a lady’s:
The sound-box trim as a girl in stays,
The neck right for the smallest span.
Did you even keep track of it as a wife?
Do you know the man who has it now
Is giving it the time of its life?
Ночная поездка
Смесь запахов нова в поездке
По Франции ночной порой:
Дождём и сеном пахнет, лесом,
Машина тёплый воздух режет.
Мелькали указатели:
Монтрей и Аббевиль, Бове -
Вдруг появлялись, исчезали,
Их обоснованно назвали.
Вон сеялка во тьме ещё кряхтит,
Как светлячки, летают семена.
Лесной пожар совсем истлел.
Закрылись вдоль дорог кафе .
А мои мыли только о тебе,
В тысяче миль южнее - там,
Где Франция с Италией сходились
На тёмной сфере, где ты возродилась.
Night Drive
The smells of ordinariness
Were new on the night drive France:
Rain and hay and woods on the air
Made warm draughts in the open car.
Signposts whitened relentlessly.
Montreuil, Abb;ville, Beauvais
Were promised, promised, came and went,
Each place granting its name’s fulfilment.
A combine groaning its way late
Bled seeds across its work-light.
A forest fire smouldered out.
One by one small caf;s shut.
I thought of you continuously
A thousand miles south where Italy
Laid its loin to France on the darkened sphere.
Your ordinariness was renewed there.
На мысу Ардбо
Вдоль берега залива
Хмарь мошкары
Клубит в лучах заката.
В стекло бьют лобовое
Тихо, мягко
Шуршат решётка и капот
Под миллионом столкновений -
Под градом будто едешь
Мельчайшего зерна.
Мы в туче не оставили следа:
Она, раскрывшись, схлопнулась за нами,
Как споро пропускает воздух.
А вот когда погасим ночью свет -
По покрывалом целоваться,
Услышим надоедливый гудёж
Там, за окном,
И пеленой незримой
Ослабит лунный свет.
Они покроют стены,
Зеленою пыльцой
И пропитают нам одежду.
Возьмите одного под линзу -
Качается тут тельце с лопастями
Огромными, что вместо крыльев,
И это сильно впечатляет,
Бледнее фараон,
Так это, говорят, москиты.
В лесах, среди болот
Поверить просто в них - ,
Невинные, кружащиеся хоры
Что умирают
В собственным круженьи, назойливом,
Как тонкие покровы танцовщицы.
At Ardboe Point
Right along the lough shore
A smoke of flies
Drifts thick in the sunset.
They come smattering daintily
Against the windscreen,
The grill and bonnet whisper
As their million collisions:
It is to drive through
A hail of fine chaff.
Yet we leave no clear wake
For they open and close on us
As the air opens and closes.
To-night when we put out our light
To kiss between sheets
Their just audible siren will go
Outside the window,
Their invisible veil
Weakening the moonlight still further
And the walls will carry a rash
Of them, a green pollen.
They'll have infiltrated our clothes by morning.
If you put one under a lens
You'd be looking at a pumping body
With such outsize beaters for wings
That this visitation would seem
More drastic than Pharaoh's -
I'm told they're mosquitoes
But I'd need forests and swamps
To believe it
For these are our innocent, shuttling
Choirs, dying through
Their own live empyrean, troublesome only
As the last veil on a dancer.
Реликвия памяти
Вода обращает
Дерево в камень:
И вёсла, и сваи
В озёрах
С годами твердеют
И дух заточают
Растений,
Их жизненных сил.
Мелководье вверх-вниз
Своим омовеньем
Бревно превратит
В обелиск.
Застывшая лава,
Осколок
Остывшей звезды,
Алмаз или уголь,
След жизни
В кусочке слюды.
В реликвии
Всё будто просто,
Нет в ней обмана,
Таков лежит
В школе на полке
Кусок серый камня.
Relic of Memory
The lough waters
Can petrify wood:
Old oars and posts
Over the years
Harden their grain,
Incarcerate ghosts
Of sap and season.
The shallows lap
And give and take -
Constant ablutions,
Such a drowning love
Stun a stake
To stalagmite.
Dead lava,
The cooling star,
Coal and diamond
Or sudden birth
Of burnt meteor
Are too simple,
Without the lure
That relic stored.
A piece of stone
On the shelf at school,
Oatmeal coloured.
Эпизоды на озере Лох-Ней
Посвящается рыбакам
("Эпизоды на озере Лох-Ней" - сборник из семи стихотворений Шеймаса Хини, впервые опубликованный в виде брошюры в 1969 году, а позже вошедший в его второй сборник "Дверь во тьму". Приводится сначала перевод всех стихотворений, а потом оригинал. Далее приведены последующие стихотворения сборника "Дверь во тьму" - в той последовательности, какая установлена автором.)
1. Вверх по берегу
I
Дух озера ждёт жертву каждый год.
В нём дерево преобразится в камень.
Там город скрыт под стылою водой.
Так остров Мэн свой след в земле оставил.
II
У деревушки Тумбридж - новый шлюз,
Теченье в море он перекрывает,
Угрям, порой, он закрывает ход,
Большой напор он выдержит, вставая.
III
Но вверх по берегу, Антрим где и Тайрон,
По чести там идёт игра и славно -
Там рыбаки им противостоят,
Уйдут на мили, не умея плавать.
IV
"Так мы быстрее спустимся на дно", -
Они так скажут тем, кто в шторм не верит,
Считает - безопасно плавать тут.
Дух озера, он каждый год ждёт жертву.
2. За пределами Саргассова моря
(В стихотворении изображено путешествие угря, ведомого инстинктом, от места его нереста в Саргассовом море до озера Лох-Ней.)
Слизь вперемежку с илом,
от берега - миль двести,
на коже
океана чешуя,
из устьев рек дрейфует
через Атлантику
в пути настойчивом,
так безусловна
тяга в океан -
так же верна, как связь у спутника
с орбитой.
Борясь с отливами,
теченьями в порогах,
со льдами, скалами
в холодных струях вод,
он добирается
и прячется скорее
от света, от прилива
скрывшись в ил, в песок
среди, корней. А днём
дренажщика лопата
иль взбаламутит ил гребец -
приют нарушат,
каждое волненье
его заставит голодать.
3. Приманка
В полночь в поле загорятся фонари.
Три человека ловят запахи в траве.
Луч фонаря - компас на корабле.
Стучать ведёрка ручкой им не стоит,
Приманку тишина и блеск влечёт,
Коль повезёт.
Он присосётся к пальцу, вы дождитесь,
Вот в норке стал спокоен, как питон,
Тут потяните - выйдет он.
Средь миллионов, вьющих грязевые кольца
Под листьями опавшими, в земле
Иные, соблазнившись, шебуршат во мгле.
Невинных вентиляторов земли,
Что улучшают шар земной,
Обман ждёт, неминуемый и злой:
Когда в ночь в поле вспыхнут фонари,
Когда нужна приманка рыбакам,
Они возьмут его из ила и песка.
4. Окружение
I
Из сердца вон и с глаз долой уходит леска -
Она на рыхлом дне песка и ила,
Охотника её там ловкость рук водила.
Букет крючков свернулся на корме
В свое правдивой, хоть колючей, форме,
Пока не будет спрятан в червяке.
Гремя, в уключине вращается весло,
И лодка катит, леску натянув,
Беззвучно угорь выпишет дугу.
II
Летают чайки, и как только леска
Выходит из воды, то для защиты ловко
Взлетает ширма - от помощников над лодкой.
Не знают рыбаки молитв,
Им чужды поклонения, призывы,
Как предначертано судьбой, работой одержимы.
Ведро с остатками червей
Подбрасывают выше - град земляной,
Там чайки кружат над водой.
5. Подъём
Они плывут в высокой лодке
К Антриму, где электрика давненько ждут,
А нить накала - чёрный жгут -
Натянут на кулак,
На нём через три ярда есть крючки,
Там, где за них вцепились смельчаки,
Он толще стал,
Взмах -вот уже он в бочке.
Угрей поодиночке
Радушно от крючков освободят,
Застрявших в пасти жадной,
И в бочку бросят заурядно
Переплетённый,
Скользкий боевой трофей
Из чёрных спин и оловянных брюх угрей.
Случается так всякий раз,
Когда с крючками жгут
Вытягивает их, как будто спрут.
Бывает и обидно, коль с рассветом
Пришёл к воде, а там уже с уловом:
Так что за лодка?
А началось когда?
А прошлый год когда случился нерест?
"Когда сезон приходит", - рыбаки ответят.
6. Возвращение
В прудах, каналах, стоках
оглянется назад,
оставив в прошлом их,
уходит, не спеша,
пока не выйдет в море и траву,
и будет проклята,
когда вернётся,
чтобы исследовать ручьи,
канавы новые, болота.
Живот прилип к спине,
но оживилась в девственной воде.
И день за днём быстрее вьётся.
Она не знает
глубину и направленье -
инстинкт ведёт, вот позади Малина
и остров Тори пройден безучастно,
блуждает огоньком
в сгущающейся тьме.
Где ей однажды суждено
погибнуть, она опустится
на десять тысяч фунтов вниз -
к своим истокам, а теченье
осиротевшие икринки унесёт.
7. Видение
Волосы если не расчесать,
Вши, говорил он, сплетались
В грязную плеть и тащили его,
Жалкого, к мутной воде.
Он осторожен был
Там, где у рек есть поля.
Толстого троса петля
Подло скрывалась в траве.
Годы спустя в тех полях
Ночью стоял он, угри
В травах к болотам ползли -
Вьётся крадущийся страх.
В ступоре стоя, глядишь -
Поле в тумане плывёт,
Залита студнем дорога,
Сушей змеятся угри,
Боль причиняя душе.
Слизь, что мерцает в ногах,
Памяти путы в долгах,
Время их тянет со мной.
A Lough Neagh Sequence
for the fishermen
1. Up the Shore
I
The lough will claim a victim every year.
It has virtue that hardens wood to stone.
There is a town sunk beneath its water.
It is the scar left by the Isle of Man.
II
As Toomebridge where it sluices towards the sea
They've set new gates and tanks against the flow.
From time to time they break the eels' journey
And lift five hundred stone in one go.
III
But up the shore in Antrim and Tyrone
There is a sense of fair play in the game.
The fishermen confront them one by one
And sail miles out, and never learn to swim.
IV
'We'll be the quicker going down,' they say -
And when you argue there are no storms here,
That one hour floating's sure to land them safely -
'The lough will claim a victim every year.'
2. Beyond Sargasso
A gland agitating
mud two hundred miles in -
land, a scale of water
on water working up
estuaries, he drifted
into motion half-way
across the Atlantic,
sure as the satellite's
insinuating pull
in the ocean, as true
to his orbit.
Against
ebb, current, rock, rapids
a muscled icicle
that melts itself longer
and fatter, he buries
his arrival beyond
light and tidal water,
Investing silt and sand
with a sleek root. By day
only the drainmaker's
spade or the mud paddler
can make him abort. Dark
delivers him hungering
down each undulation.
3. Bait
Lamps dawdle in the field at midnight.
Three men follow their nose in the grass,
The lamp's beam their prow and compass.
The bucket's handle better not clatter now:
Silence and curious light gather bait.
Nab him, but wait
For the first shrinking, tacky on the thumb,
Let him re-settle backwards in his tunnel.
Then draw steady and he'll come.
Among the millions whorling their mud coronas
Under dewlapped leaf and bowed blades
A few are bound to be rustled in these might raids,
Innocent ventilators of the ground
Making the globe a perfect fit,
A few are bound to be cheated of it
When lamps dawdle in the field at midnight,
When fishers need a garland for the bay
And have him, where he needs to come, out of the clay.
4. Setting
I
A line goes out of sight and out of mind
Down yo the soft bottom of silt and sand
Past the indifferent skill of the hunting hand.
A bouquet of small hooks coiled in the stern
Is being paid out, back to its true form,
Until the bouquet's hidden in the worm.
The boat rides forward where the line slants back.
The oars in their locks go round and round.
The eel describes his arcs without a sound.
II
The gulls fly and umbrella overhead,
Treading air as soon as the line runs out,
Responsive acolytes above the boat.
Not sensible of any kyrie,
The fishers, who don't know and never try,
Pursue the work in hand as destiny.
They clear the bucket of the last chopped worms,
Pitching them high, good riddance, earthy shower.
The gulls encompass them before the water.
5. Lifting
They're busy in a high boat
That stalks towards Antrim, the power cut.
The line's a filament of smut
Drawn hand over fist
Where every three yards a hook's missed
Or taken (and the smut thickens, wrist-
Thick, a flail
Lashed into the barrel
With one swing). Each eel
Comes aboard to this welcome:
The hook left in gill or gum,
It's slapped into the barrel numb
But knits itself, four-ply,
With the furling, slippy
Haul, a knot of back and pewter belly
That stays continuously one
For each catch they fling in
Is sucked home like lubrication.
And wakes are enwound as the catch
On the morning water: which
Boat was which?
And when did this begin?
This morning, last year, when the lough first spawned?
The crews will answer, "Once the season's in".
6. The Return
In ponds, drains, dead canals
she turns her head back,
older now, following
whim deliberately
till she's at sea in grass
and damned if she'll turn so
it's new trenches, sunk pipes,
swamps, running streams, the lough,
the river. Her stomach
shrunk, she exhilarates
in mid-water. Its throbbing
is speed through days and weeks.
Who knows now if she knows
her depth or direction;
she's passed Malin and
Tory, silent, wakeless,
a wisp, a wick that is
its own taper and light
through the weltering dark.
Where she's lost once she lays
ten thousand feet down in
her origins. The current
carries slicks of orphaned spawn.
7. Vision
Unless his hair was fine-combed
The lice, they said, would gang up
Into a mealy rope
And drag him, small, dirty, doomed
Down to the water. He was
Cautious then in riverbank
Fields. Thick as a birch trunk
That cable flexed in the grass
Every time the wind passed. Years
Later in the same fields
He stood at night when eels
Moved through the grass like hatched fears
Towards the water. To stand
In one place as the field flowed
Past, a jellied road,
To watch the eels crossing land
Re-wound his world's live girdle.
Phosphorescent, sinewed slime
Continued at his feet. Time
Confirmed the horrid cable.
Нота в дар
На самом западном из островов
В лачуге из иссушенных камней
Он наслаждался воздухом ночным.
До тех, кто следовал за ним,
Сонм странных звуков
Ветер доносил с прибоем,
Которые мелодии чужды.
Он обвинял их, пальцы их и слух
В неопытности, простоте игры,
Ведь он отправился на остров,
Чтобы припасть к истокам.
Дом восторгался мощью скрипки.
Была ли это музыка души
Иль ветром принесло из океана,
Не всё ли нам равно?
Он утверждает, что "из ниоткуда"
Пришло и поднялось из-под смычка,
Из воздуха и в воздух возвращаясь.
The Given Note
On the most westerly Blasket
In a dry-stone hut
He got this air out of the night.
Strange noises were heard
By others who followed, bits of a tune
Coming in on loud weather
Though nothing like melody.
He blamed their fingers and ear
As unpractised, their fiddling easy
For he had gone alone into the island
And brought back the whole thing.
The house throbbed like his full violin.
So whether he calls it spirit music
Or not, I don't care. He took it
Out of wind off mid-Atlantic.
Still he maintains, from nowhere.
It comes off the bow gravely,
Rephrases itself into the air.
Земли утёсника
За целый год утёсник
Лишь пару раз цветёт,
Сейчас же он цветёт.
Как будто бы желтки
От птичьих всех яиц
Со всех весенних гнёзд
Развешаны повсюду
На солнце дозревать.
В ногах притухла зелень,
Колючки засыхают,
Над ними обжигают
Янтарные цветы.
Когда зажжёте спичку,
Утёсник нетипично
Не вспыхнет, он от жара
Лишь только задрожит,
И он испепелится,
Как и колючек горсть,
И будут жёстко стебли
Торчать, как рог иль кость.
С колючей позолотой
Цепляются корнями
В холмах между камнями,
Где стлались войн невзгоды.
Whinlands
All year round the whin
Can show a blossom or two
But it's in full bloom now.
As if the small yolk stain
From all the birds' eggs in
All the nests of the spring
Were spiked and hung
Everywhere on bushes to ripen.
Hills oxidize gold.
Above the smoulder of green shoot
And dross of dead thorns underfoot
The blossoms scald.
Put a match under
Whins, they go up of a sudden.
They make no flame in the sun
But a fierce heat tremor
Yet incineration like that
Only takes the thorn.
The tough sticks don't burn,
Remain like bone, charred horn.
Gilt, jaggy, springy, frilled
This stunted, dry richness
Persists on hills, near stone ditches,
Over flintbed and battlefield.
Лесная колония
Точка любая в лесу
Центром была, а берёзы
Тайно за вами следили
И колдовство мастерили:
Вроде вы шли по прямой,
Только реально - по кругу,
Корни, поганки и пни
Всё попадаются те же.
Ходите всё мимо них:
В ягодах куст ежевики,
И головешки костра
В тех же причудливых позах.
Ты их однажды найдя,
Знаешь, что снова увидишь,
Кажется, есть кто-то рядом,
Глянешь вокруг - ты один.
То ли влюблённые,
То ли туристы, бродяги,
То ли любители птиц
Здесь без стыда наследили.
Чуть приоткроется вход
И приглашает войти
В купол лесной тишины,
Где лишь дорожка шуршит.
Думаешь как-то, входя, -
Рощица небольшая,
Ну а вокруг всё гудят
Улицы и дороги.
И всякий, кто свинячит тут,
Он должен изгнан быть немедля,
А всё, что скрыл туман,
Быть может жизненным ключом.
Чтоб научиться потерять,
Уйти ты должен и вернуться,
Проводником быть и заблудшим
В одном, своём, лице.
The Plantation
Any point in that wood
Was a center, birch trunks
Ghosting your bearings,
Improvising charmed rings
Wherever you stopped.
Though you walk a straight line
It might be a circle you travelled
With toadstools and stumps
Always repeating themselves.
Or did you re-pass them?
Here were bleyberries quilting the floor,
The black char of a fire
And having found them once
You were sure to find them again.
Someone had always been there
Though always you were alone.
Lovers, birdwatchers,
Campers, gypsies and tramps
Left some trace of their trades
Or their excrement.
Hedging the road so
It invited all comers
To the hush and the mush
Of its whispering treadmill,
Its limits defined,
So they thought, from outside.
They must have been thankful
For the hum of the traffic
If they ventured in
Past the picnickers' belt
Or began to recall
Tales of fog on the mountains.
You had to come back
To learn how to lose yourself,
To be pilot and stray - witch,
Hansel and Gretel in one.
Береговая линия
Свернув за угол, дальше вниз
До деревушки, там увидим море,
Оно уходит вбок и дальше
Исчезает за оградой.
Иль серая поверхность в лужах,
Как рыбин мёртвые глаза,
А приливных воронок пятна,
Как кукурузные поля.
Вокруг Антрима и на запад,
Аж до утёсов Мохер -
Всё высится базальт.
И океан в проливе
Пенится у чёрных скал
Ирландии. Где Майо,
Где Уиклоу, там берега
С покорностью шипят.
Прислушайтесь -
Прилив бушует
У подножья всех полей,
Всех скал, утёсов.
Датчане. Парус чей?
Там чёрный ястреб?
Иль трескотня норманнов?
Иль скрежет лодок рыбаков
По гальке?
Странгфорд, Арклоу, Каррикфергус,
Белмаллет и Вентри -
Покинутые часовые.
Shoreline
Turning a corner, taring a hill
In Country Down, there's the sea
Sidling and settling to
The back of a hedge. Or else
A grey bottom with puddles
Dead-eyed as fish.
Haphazard tidal craters match
The corn and the grazing.
All round Antrim and westward
Two hundred miles at Moher
Basalt stands to.
Both ocean and channel
Froth at the black locks
On Ireland. And strands
Take hissing submissions
Off Wicklow and Mayo.
Take any minute. A tide
Is rummaging in
At the foot of all fields,
All cliffs and shingles.
Listen. Is it the Danes,
A black hawk bent on the sail?
Or the chinking Normans?
Or currachs hopping high
On to the sand?
Strangford, Arklow, Carrickfergus,
Belmullet and Ventry
Stay, forgotten like sentries.
Глина у реки Банн
Рабочие пыхтят над рычагами,
Белёсые от пыли,
Одежда их, ботинки -
Все в неприглядных пятна порошка.
Корпят весь день в карьерах,
На берег выгружают
Бруски, на сгустки крема
Похожие немало.
Веками под травой
Копилась, а на солнце
Белеет, облегчившись
От внутренней воды.
Проходит под долиной,
Где прежде было русло,
И где сейчас болото,
Мхи, паутина, топь
И даже камни мезолита.
Однажды, прочищая стоки,
Я выгребал каштановые сгустки,
Пока не потекла вода
Прозрачной по былому дну.
Всё тут, смешавшись, перегнило,
Я продолжаю чистить,
Канава наполняется водой.
Bann Clay
Labourers pedalling at case
Past the end of the lane
Were white with it. Dungarees
And boots were its powdery stain.
All day in open pits
They loaded on to the bank
Slabs like the squared-off clots
Of a blue cream. Sunk
For centuries under the grass
It baked white in the sun,
Relieved its hoarded waters
And began to ripen.
It underruns the valley,
The first slow residue
Of a river finding its way.
Above it, the webbed marsh is new,
Even the clutch of Mesolithic
Flints. Once, cleaning a drain
I shovelled up livery slicks
Till the water gradually ran
Clear on its old floor.
Under the humus and roots
This smooth weight. I labour
Towards it still. It holds and gluts.
Болотистая местность
Посвящается Т.П. Фланагану
Нет прерий у нас,
Где вечером яркое солнце -
Везде, куда бросишь свой взгляд,
На горизонт посягнув,
Заворожит глаз циклопа
Той, ледниковой, эпохи. Нашей стране
Нет защиты - только болота
Держат осадки, а солнце - в пути.
Был из болот торфяных
Вынут гигантского
Лося скелет,
В ящик его поместили.
Больше ста лет под землёй
Масло коровье лежало,
И возродили его белым, солёным,
Так и земля тут, как чёрное масло,
Сплошь проседает, ползя под ногами -
Совсем не похожа на то,
Чем миллион лет её полагают.
Тут и добыче угля не бывать,
Только затопленные стволы,
Лёгкие, как кашица.
Первопроходцы
Вглубь продолжают идти,
Слой раскрывая за слоем,
Прежде была здесь стоянка.
Может, в болота сочится Атлантика,
Кажется, сердцевина без дна.
Bogland
for T.P. Flanagan
We have no prairies
To slice a big sun at evening -
Everywhere the eye concedes to
Encroaching horizon,
Is wooed into the cyclops' eye
Of a tarn. Our unfenced country
Is bog that keeps crusting
Between the sights of the sun.
They've taken the skeleton
Of the Great Irish Elk
Out of the peat, set it up
An astounding crate full of air.
Butter sunk under
More than a hundred years
Was recovered salty and white.
The ground itself is kind, black butter
Melting and opening underfoot,
Missing its last definition
By millions of years.
They'll never dig coal here,
Only the waterlogged trunks
Of great firs, soft as pulp.
Our pioneers keep striking
Inwards and downwards,
Every layer they strip
Seems camped on before.
The bogholes might be Atlantic seepage.
The wet centre is bottomless.
Свидетельство о публикации №125092505986