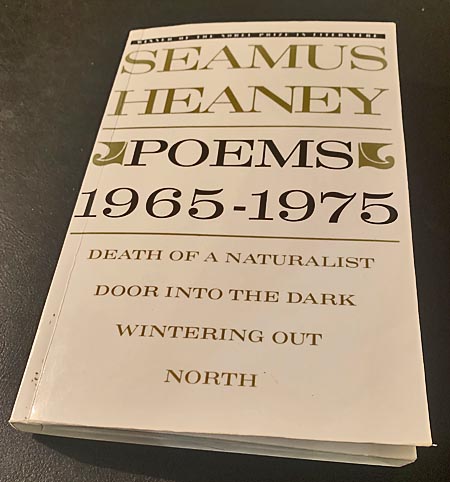Шеймас Хини. Смерть натуралиста
Копающие
Меж пальцев ручка ждёт побед,
Влитая, точно пистолет.
А под окном чья лопата скрежещет,
Втыкаясь штыком в каменистую землю?
Копает отец. Я смотрю так, без цели.
Гнётся спина, напрягаясь на грядке,
Вот уж лет двадцать сутулится он
Над картофельной этой ботвой
В размеренном ритме.
Башмак, надетый на ручку лопаты -
Упор под колено - вот и рычаг,
Так ковырнёт он штыком, за ботву вырывает,
Клубни рассыпет, а мы собираем,
Лаская холодную твёрдость в руках.
Ей-Богу, старик мой был в копке велик,
Ну как и его старик.
Мой дед больше торфа за день добывал,
Чем кто-либо на болоте Тонера.
Однажды принёс я ему молоко
В бутылке с бумажною пробкой. Он разогнулся,
Чтоб выпить его, и тут же упал.
Копая, он нарезал ловко торфа куски,
На плечи их клал и спускался всё ниже -
Там торф был получше.
Картофельной плесени запах холодный
И хлюпанье мокрого торфа
В моей голове пробуждаются, но
Лопаты своей не имею, чтоб следовать им.
А то, что сжимают пальцы мои, -
Это моя авторучка,
Так буду копать ей.
Digging
Between my finger and my thumb
The squat pen rests; snug as a gun.
Under my window, a clean rasping sound
When the spade sinks into gravelly ground:
My father, digging. I look down
Till his straining rump among the flowerbeds
Bends low, comes up twenty years away
Stooping in rhythm through potato drills
Where he was digging.
The coarse boot nestled on the lug, the shaft
Against the inside knee was levered firmly.
He rooted out tall tops, buried the bright edge deep
To scatter new potatoes that we picked,
Loving their cool hardness in our hands.
By God, the old man could handle a spade.
Just like his old man.
My grandfather cut more turf in a day
Than any other man on Toner’s bog.
Once I carried him milk in a bottle
Corked sloppily with paper. He straightened up
To drink it, then fell to right away
Nicking and slicing neatly, heaving sods
Over his shoulder, going down and down
For the good turf. Digging.
The cold smell of potato mould, the squelch and slap
Of soggy peat, the curt cuts of an edge
Through living roots awaken in my head.
But I’ve no spade to follow men like them.
Between my finger and my thumb
The squat pen rests.
I’ll dig with it.
Смерть натуралиста
Весь год льняная плотна прела в пруду,
Набухший лён медленно гнил,
Придавленный гнётом пластов дерновины.
А солнце палило, да так, что пылал лён,
И буйство гниенья звучало оркестром
Мух синих жужжанья и бульканья газов,
И в танце безумном неслись мотыльки.
Восторг мой - наваристая слюна
Икры лягушачьей, пухнущей
В тени берегов, где я каждой весной
Желе это в банки палкой сгребал,
Раскладывал дома на подоконник
И в школе на полки, ждал, наблюдал,
Лопнут икринки когда, и из них
Проворные головастики выпрыгнут.
Мисс Уоллс объясняла: "лягушкой-быком"
Папу назвали, а мама отложит
Крошечные сотни яиц - лягушачья икра.
Ещё говорила: квакушки цвет свой меняют с погодой -
Желтеют на солнце, а бурые
В дождь.
Однажды жарким днём, когда
В полях несло помётом, лягушки
Злобные заполонили дамбу.
Меня влекло их необычное урчанье:
Наполнен воздух был басовым хором.
По льну гниющему взметались мерзком брюхом,
В прыжке тряслись их шеи, дулись парусами.
Одни, подпрыгнув, непристойно хлюпали,
Другие пукали тупой своей башкой.
Меня стошнило, я бежал от них.
Те слизи короли собрались там для мщенья:
Лишь руку опущу - икра в неё вопьётся.
Death of a Naturalist
All year the flax-dam festered in the heart
Of the townland; green and heavy headed
Flax had rotted there, weighted down by huge sods.
Daily it sweltered in the punishing sun.
Bubbles gargled delicately, bluebottles
Wove a strong gauze of sound around the smell.
There were dragonflies, spotted butterflies,
But best of all was the warm thick slobber
Of frogspawn that grew like clotted water
In the shade of the banks. Here, every spring
I would fill jampotfuls of the jellied
Specks to range on window sills at home,
On shelves at school, and wait and watch until
The fattening dots burst, into nimble
Swimming tadpoles. Miss Walls would tell us how
The daddy frog was called a bullfrog
And how he croaked and how the mammy frog
Laid hundreds of little eggs and this was
Frogspawn. You could tell the weather by frogs too
For they were yellow in the sun and brown
In rain.
Then one hot day when fields were rank
With cowdung in the grass the angry frogs
Invaded the flax-dam; I ducked through hedges
To a coarse croaking that I had not heard
Before. The air was thick with a bass chorus.
Right down the dam gross bellied frogs were cocked
On sods; their loose necks pulsed like sails. Some hopped:
The slap and plop were obscene threats. Some sat
Poised like mud grenades, their blunt heads farting.
I sickened, turned, and ran. The great slime kings
Were gathered there for vengeance and I knew
That if I dipped my hand the spawn would clutch it.
Амбар
Тут кукурузы молотой гора
Крупинками костей иль как цемент в мешках,
Здесь в затхлой темноте крестьянский инвентарь:
Плуги и упряж, лемехи, лопаты.
Мышино-серый пол бетонный гладкий,
А окон нет, лишь узких два луча
Из прорезей вверху, под самой крышей,
Крестом искрят, пылинки золотя.
Всё лето раскалялось тут, как в печке.
Войдёшь - всплывают блёсткие предметы:
Коса, штыки лопат и вил зубцы.
Но тут в рот лезут плесень, паутина.
Тогда скорей бежишь во двор, на солнце.
А в ночь - мышей летучих хлопотанье
Над паутиной сна, и хищные глаза
Из куч зерна глядят и не мигают.
В мякину тело превращает темнота,
Её клюют влетающие птицы,
Я вниз лицом лежу - так страх глушу,
В то время как мешки ползут, как крысы.
The Barn
Threshed corn lay piled like grit of ivory
Or solid as cement in two-lugged sacks.
The musky dark hoarded an armoury
Of farmyard implements, harness, plough-socks.
The floor was mouse-grey, smooth, chilly concrete.
There were no windows, just two narrow shafts
Of gilded motes, crossing, from air-holes slit
High in each gable. The one door meant no draughts
All summer when the zinc burned like an oven.
A scythe's edge, a clean spade, a pitchfork's prongs:
Slowly bright objects formed when you went in.
Then you felt cobwebs clogging up your lungs
And scuttled fast into the sunlit yard-
And into nights when bats were on the wing
Over the rafters of sleep, where bright eyes stared
From piles of grain in corners, fierce, unblinking.
The dark gulfed like a roof-space. I was chaff
To be pecked up when birds shot through the air-slits.
I lay face-down to shun the fear above.
The two-lugged sacks moved in like great blind rats.
Успех обучения
По набережной тихо шёл,
Река бежала рядом.
(Я мост, конечно, обошёл)
Река была помятой
Домами, звеньями цепей,
Я подошёл к ограде -
Глядел на диких лебедей
С чумазыми крылами.
Что прошлёпало тут рядом,
Тишину запачкав? Крыса! -
Из воды пахнуло смрадом,
Тошнота меня накрыла.
Отскочив в поту холодном,
Я увидел вдруг другую -
Там, на противоположном
Берегу, она танцует.
Создал я плацдарм страшенный,
Сам дрожал с тревожным пылом:
Вон он там, грызун презренный -
Наблюдал я неотрывно.
Он бессмысленно мотался,
Вдруг он встал и выгнул спину,
Он оскалился, поджался,
Напрягая слух зверино.
Я рассматривал упорно:
Клиновидный хвост упругий,
Капли глаз, в морщинах морду.
Мы следили друг за другом.
Я позабыл, как сам паниковал,
Услышав за курятником - скребутся,
И над моей кроватью потолок
Обхаживали серые те плутни.
Он отступил, взбираясь по трубе,
С собою ужас унося и когти,
Я лишь минуту посмотрел во след
И по мосту пошёл, ничуть не дрогнув.
An Advancement of Learning
I took the embankment path
(As always, deferring
The bridge). The river nosed past,
Pliable, oil-skinned, wearing
A transfer of gables and sky.
Hunched over the railing,
Well away from the road now, I
Considered the dirty-keeled swans.
Something slobbered curtly, close,
Smudging the silence: a rat
Slimed out of the water and
My throat sickened so quickly that
I turned down the path in cold sweat
But God, another was nimbling
Up the far bank, tracing its wet
Arcs on the stones. Incredibly then
I established a dreaded
Bridgehead. I turned to stare
With deliberate, thrilled care
At my hitherto snubbed rodent.
He clockworked aimlessly a while,
Stopped, back bunched and glistening,
Ears plastered down on his knobbed skull,
Insidiously listening.
The tapered tail that followed him,
The raindrop eye, the old snout:
One by one I took all in.
He trained on me. I stared him out
Forgetting how I used to panic
When his grey brothers scraped and fed
Behind the hen-coop in our yard,
On ceiling boards above my bed.
This terror, cold, wet-furred, small-clawed,
Retreated up a pipe for sewage.
I stared a minute after him.
Then I walked on and crossed the bridge.
Сбор ежевики
Посвящается Филипу Хобсбауму
Дожди и солнце на исходе лета
Сильны так, что созрела ежевика.
Вот первый фиолетовый комок
Среди зелёных, красных вызреть смог.
Съедаете его - он сладкий, терпкий,
Как тёмное вино - густа кровь лета,
Язык окрасит, жажду возбудит -
Скорее зрели бы ещё плоды.
И вот идём мы с банками в обход
Полей крестьянских - всяк здесь ценен всход,
Туда, где нас шипами будет ранить,
Но не уйдём так просто с поля брани,
Пока не будут банки все полны:
Внизу зелёные, а сверху так темны,
Что будто бы глядят, как в нас шипы тверды,
Ладони липнут, как у Синей Бороды.
Запасы ягод свежих делали в хлеву,
Когда ж наполнили корыто, наяву
Увидели крысиную в нём плесень,
И сок вонял - плоды так забродили,
Вся мякоть скисла - так нас наградили.
Хотелось плакать, разве справедливо,
Что собранное всё воняет гнилью?
Так каждый год я мучился бессильно.
Blackberry-Picking
For Philip Hobsbaum
Late August, given heavy rain and sun
For a full week, the blackberries would ripen.
At first, just one, a glossy purple clot
Among others, red, green, hard as a knot.
You ate that first one and its flesh was sweet
Like thickened wine: summer's blood was in it
Leaving stains upon the tongue and lust for
Picking. Then red ones inked up and that hunger
Sent us out with milk cans, pea tins, jam-pots
Where briars scratched and wet grass bleached our boots.
Round hayfields, cornfields and potato-drills
We trekked and picked until the cans were full,
Until the tinkling bottom had been covered
With green ones, and on top big dark blobs burned
Like a plate of eyes. Our hands were peppered
With thorn pricks, our palms sticky as Bluebeard's.
We hoarded the fresh berries in the byre.
But when the bath was filled we found a fur,
A rat-grey fungus, glutting on our cache.
The juice was stinking too. Once off the bush
The fruit fermented, the sweet flesh would turn sour.
I always felt like crying. It wasn't fair
That all the lovely canfuls smelt of rot.
Each year I hoped they'd keep, knew they would not.
День взбивания
Толстая крупнозернистая корка
твердела поверху шеренги горшков -
будто бы бомбы стояли в кладовке.
Вот так после сливок проварки бродила
в хладных горшках маслянистая масса
до важного дня, а пока маслобойку
чистят скребками и щётками, эхо
скользит в благородной её древесине -
ставят её на помеченном месте на кухне.
Вот из горшков выливают тяжёлые сливки -
белое чрево горшков уже в маслобойке,
палка большая (такой же виски мешают)
внутрь установлена, и крышка закрыта.
Мама вращает с ритмом часов,
руки болят, на ладонях вспухли мозоли,
вся, с головы и до ног, мама обрызгана
масла отходами.
Вот золотые крупинки
начали танцевать. Маленькие лопатки
в гладкой берёзовой миске
обдали горячей водой.
Взмахи мешалки взбодрились,
жирная масса, вбирая
солнечный свет, загустела,
каплями в сито текла оловянное,
сыпясь песком золотым прямо в миску.
Долго вонял днём взбивания дом,
будто сернистый едкий рудник.
Стали вдоль стен вновь пустые горшки,
масла бруски - на полках в кладовке.
Мы с облегченьем вернулись домой,
полные знанья работы с мешалкой,
пляски прокисшего молока,
шмяков лопаток по влажным брускам.
Churning Day
A thick crust, coarse-grained as limestone rough-cast,
hardened gradually on top of the four crocks
that stood, large pottery bombs, in the small pantry.
After the hot brewery of gland, cud and udder
cool porous earthenware fermented the buttermilk
for churning day, when the hooped churn was scoured
with plumping kettles and the busy scrubber
echoed daintily on the seasoned wood.
It stood then, purified, on the flagged kitchen floor.
Out came the four crocks, spilled their heavy lip
of cream, their white insides, into the sterile churn.
The staff, like a great whisky muddler fashioned
in deal wood, was plunged in, the lid fitted.
My mother took first turn, set up rhythms
that slugged and thumped for hours. Arms ached.
Hands blistered. Cheeks and clothes were spattered
with flabby milk.
Where finally gold flecks
began to dance. They poured hot water then,
sterilized a birchwood-bowl
and little corrugated butter-spades.
Their short stroke quickened, suddenly
a yellow curd was weighting the churned up white,
heavy and rich, coagulated sunlight
that they fished, dripping, in a wide tin strainer,
heaped up like gilded gravel in the bowl.
The house would stink long after churning day,
acrid as a sulphur mine. The empty crocks
were ranged along the wall again, the butter
in soft printed slabs was piled on pantry shelves.
And in the house we moved with gravid ease,
our brains turned crystals full of clean deal churns,
the plash and gurgle of the sour-breathed milk,
the pat and slap of small spades on wet lumps.
Своевременное избавление
В шесть лет я увидел, как топят котят:
Дэн Таггарт их бросил, "никчёмная дрянь",
В ведро, по металлу их тушки долбят.
К насоса трубе поднесли их когда,
Их мягкие лапки безумно скреблись.
В ведро очень быстро качалась вода.
"А разве не лучше им там?" - сказал Дэн,
На кучу навозную кинул он их -
Блестящих, когда колыхались в воде.
Слонялся я несколько дней грустный, жалкий,
Кружа по двору и на кучу смотря,
Как там разлагаются рыхло останки.
Я долго их помнил. Страх был мне знаком,
Когда Дэн капканы снимал и силки
И курам сворачивал шеи рывком.
А жизнь, она ложные чувства теснит,
Теперь пожимаю плечами, когда
Котят топят - в этом и есть здравый смысл.
В городе смерть неестественна будто -
Там о жестоком твердят обращеньи,
Ну а сельчанам вредитель - не шутка.
The Early Purges
I was six when I first saw kittens drown.
Dan Taggart pitched them, 'the scraggy wee shits',
Into a bucket; a frail metal sound,
Soft paws scraping like mad. But their tiny din
Was soon soused. They were slung on the snout
Of the pump and the water pumped in.
'Sure, isn't it better for them now?' Dan said.
Like wet gloves they bobbed and shone till he sluiced
Them out on the dunghill, glossy and dead.
Suddenly frightened, for days I sadly hung
Round the yard, watching the three sogged remains
Turn mealy and crisp as old summer dung
Until I forgot them. But the fear came back
When Dan trapped big rats, snared rabbits, shot crows
Or, with a sickening tug, pulled old hens' necks.
Still, living displaces false sentiments
And now, when shrill pups are prodded to drown
I just shrug, 'Bloody pups'. It makes sense:
'Prevention of cruelty' talk cuts ice in town
Where they consider death unnatural
But on well-run farms pests have to be kept down.
Тот, кто идёт следом
Развёрнутым плечам отца,
Когда работал с конным плугом,
Завидовали б паруса,
А лошади шли цугом.
Специалист он был во всём:
Так лемех надевался -
Переворачивался дёрн,
Как стружка, не ломаясь.
Упряжка, употев, сама
На поле развернулась.
Он лишь прищурился слегка,
Чтоб точно борозда легла.
За ним, сбиваясь, я шагал,
След в след попасть старался,
Иной раз он меня сажал
На плечи - я качался.
Хотел я, повзрослев, пахать,
Сжимая руки крепко,
А всё, что делать мог, - шагать
В тени отца по ферме.
Я был обузой, в спотыках,
И нюнил постоянно.
Сегодня ж мой отец в летах,
За мной он ходит рьяно.
Follower
My father worked with a horse-plough,
His shoulders globed like a full sail strung
Between the shafts and the furrow.
The horses strained at his clicking tongue.
An expert. He would set the wing
And fit the bright steel-pointed sock.
The sod rolled over without breaking.
At the headrig, with a single pluck
Of reins, the sweating team turned round
And back into the land. His eye
Narrowed and angled at the ground,
Mapping the furrow exactly.
I stumbled in his hobnailed wake,
Fell sometimes on the polished sod;
Sometimes he rode me on his back
Dipping and rising to his plod.
I wanted to grow up and plough,
To close one eye, stiffen my arm.
All I ever did was follow
In his broad shadow round the farm.
I was a nuisance, tripping, falling,
Yapping always. But today
It is my father who keeps stumbling
Behind me, and will not go away.
Семейная фотография
Челюсти массивные дугой, как репа,
Как у статуи глаза мертвы иль слепы,
Губы пухлые нависли, как подкова,
Шляпа - щеголяют в этакой актёры,
Взгляд таит презренье, постный, невесёлый,
От часов цепочка виснет, как оковы.
Это дядя моего отца премудрый -
У него отец учился беспробудно,
Фото на стене, а не в альбоме,
Потускнело, и теперь там бляшка,
Будто с кожи содрана повязка,
Пусто там - итог паденья дома.
Двадцать лет назад в загоны скот я собирал
Или у стены в рядочек их держал,
Рядом мой отец пред группой скотоводов
Правильность цены внушал им артистично,
Ну а те животных щупали практично
И скрепляли сделку выпивкой в итоге.
Много лет назад племянник с дядей часто
На базаре спорили, толкались страстно.
Этот бочковатый человек на фото
В шляпе щегольской он выглядел, как сокол,
Высунув из-под жилета пальцы, хлопал
По рукам. Отец ты так же делал строго.
Видел я, как ты грустил, когда однажды
Прекратились ярмарки, страдал от жажды,
Наступили трудные года в торговле,
Трость твоя потеряна за дверью шкафа.
Завершая нашей хроники параграф,
Уношу портрет тот на чердак, под кровлю.
Ancestral Photograph
Jaws puff round and solid as a turnip,
Dead eyes are statue's and the upper lip
Bullies the heavy mouth down to a droop.
A bowler suggests the stage Irishman
Whose look has two parts scorn, two parts dead pan.
His silver watch chain girds him like a hoop.
My father's uncle, from whom he learnt the trade,
Long fixed in sepia tints, begins to fade
And must come down. Now on the bedroom wall
There is a faded patch where he has been -
As if a bandage had been ripped from skin -
Empty plaque to a house's rise and fall.
Twenty years ago I herded cattle
Into pens or held them against a wall
Until my father won at arguing
His own price on a crowd of cattlemen
Who handled rumps, groped teats, stood, paused and then
Bought a round of drinks to clinch the bargain.
Uncle and nephew, fifty years ago,
Heckled and herded through the fair days too.
This barrel of a man penned in the frame:
I see him with the jaunty hat pushed back
Draw thumbs out of his waistcoat, curtly smack
Hands and sell. Father, I've watched you do the same.
And watched you sadden when the fairs were stopped.
No room for dealers if the farmers stopped
Like housewives at an auction ring. Your stick
Was parked behind the door and stands there still.
Closing this chapter of our chronicle
I take your uncle's portrait to the attic.
Перерыв в середине семестра
В медпункте колледжа всё утро просидел,
Звонки считая о конце уроков,
И в два часа соседи отвезли меня домой.
Я встретил на крыльце отца в слезах,
К похоронам он прежде был спокоен,
А Джим Большой сказал: "Удар тяжёлый".
Малышка ворковала у коляски,
Когда вошёл я, и меня смутили
Седые люди, встав пожать мне руку.
Они сказали, что скорбят со мною,
Мне незнакомые, шептали, что я старший,
А моя мать держала мою руку,
Не проронив слезинки, лишь вздыхала.
А вечером приехала медслужба
С тем мёртвым телом, что мне было братом.
Я в комнату поднялся уже утром,
Внушали свечи и подснежники покой,
С "того" дня шесть недель его не видел.
Он, бледный, на виске кровоподтёк,
Лежал так в ящике, как будто бы в кроватке.
Его сбил бампер с неокрепших ног.
Четыре фута ящик - фут за жизни год.
Mid-Term Break
I sat all morning in the college sick bay
Counting bells knelling classes to a close.
At two o'clock our neighbours drove me home.
In the porch I met my father crying —
He had always taken funerals in his stride —
And Big Jim Evans saying it was a hard blow.
The baby cooed and laughed and rocked the pram
When I came in, and I was embarrassed
By old men standing up to shake my hand
And tell me they were 'sorry for my trouble'.
Whispers informed strangers I was the eldest,
Away at school, as my mother held my hand
In hers and coughed out angry tearless sighs.
At ten o'clock the ambulance arrived
With the corpse, stanched and bandaged by the nurses.
Next morning I went up into the room. Snowdrops
And candles soothed the bedside; I saw him
For the first time in six weeks. Paler now,
Wearing a poppy bruise on his left temple,
He lay in the four-foot box as in his cot.
No gaudy scars, the bumper knocked him clear.
A four-foot box, a foot for every year.
Охота на рассвете
Облака известковым раствором шпаклюют рассвет.
Мы по шпалам идём, иногда,
Промахнувшись, стучим по камням
И молчим. Мы одни на дороге.
Вместо пара пыхтят тут коровы,
Свой зад вывалив за ограду
И, в раздумьях, исправно жуя.
Впереди рельсы тянутся в арку моста.
Коростель, как охрипший дозорный,
Нас окликнул внезапно, тут же бекас,
Будто ждал нас, взлетел на разведку.
С рюкзаком, патронташем, как два диверсанта,
Мы проникли в ржавый проход -
Вниз на луг, где и вереск, и пахнет росой.
Всего в двух сотнях ярдов от путей
Песчаный вал, корнями укреплённый,
На брюхо мы удобно возлегли в кустарнике
И вперились глазами алчно.
Глаза, привыкнув, различили норы.
Вот логово, куда их ждали мы,
Они сейчас петляют где-то в травах,
Глазницами сверкая по полям.
Над горизонтом истончалась штукатурка,
Побелка исчезала на домах.
Ещё мгновенье - огласит зарю
Крик петуха
Тут дёрнул Доннелли рукой,
И ей накрыл мой чёрный ствол. "Тот" был его!
"Не торопись! Он не один", - шепнул я.
Это был гуляка, он подлетел к норе, но нет:
"Бродяги больше точно нет", - так Дон сказал
И два ствола в "бродягу" разрядил.
Но третьим я его добил.
Ещё один бекас взлетел на свет.
Заржали где-то по полям кобылы.
Три выстрела - других теперь не жди,
И мы, поднявшись, двинули обратно.
По рельсам шли, дешевизну кляня,
Свободно, от души себя ругая.
Вот прояснится - кто-нибудь из них
Скользнёт к норе, "его" увидит первым.
Dawn Shoot
Clouds ran their wet mortar, plastered the daybreak
Grey. The stones clicked tartly
If the missed the sleepers but mostly
Silent we headed up the railway
Where now the only steam was funneling from cows
Ditched on their rumps beyond hedges,
Cudding, watching, and knowing.
The rails scored a bull's-eye into the eye
Of a bridge. A corncrake challenged
Unexpectedly like a hoarse sentry
And a snipe rocketed away on reconnaissance,
Rubber-booted, belted, tense as two parachutists,
We climbed the iron gate and dropped
Into the meadow's six acres of broom, gorse and dew.
A sandy bank, reinforced with coiling roots,
Faced you, two hundred yards from the track.
Snug on our bellies behind a rise of dead whins,
Our ravenous eyes getting used to the greyness,
We settled, soon had the holes under cover.
This was the den they all would be heading for now,
Loping under ferns in dry drains, flashing
Brown orbits across ploughlands and grazing.
The plaster thinned at the skyline, the whitewash
Was bleaching on houses and stables,
The cock would be sounding reveille
In seconds.
And there was one breaking
In from the gap in the corner.
Donnelly's left hand came up
And came down on my barrel. This one was his.
"For Christ's sake", I spat, "Take your time, there'll be
More"
There was the playboy trotting up to the hole
By the ash tree, "Wild rover no more",
Said Donnelly and emptied two barrels
And got him. I finished him off.
Another snipe catapulted into the light,
A mare whinnied and shivered her haunches
Up on a hill. The others would not be back
After three shots like that. We dandered off
To the railway; the prices were small at that time
So we did not bother to cut out the tongue.
The ones that slipped back when the all clear got round
Would be first to examine him.
На копке картофеля
I
Картофелекопалка втыкает глухо лемех,
Выбрасывает землю и всё, что в ней, наверх.
В земле роятся люди с корзиной, на коленях,
И отмерзают пальцы, и свет в глазах померк.
Как будто бы на поле кишит воронья стая
Нестройной вереницей до края и опять,
С наполненной корзиной идут назад, шатаясь,
И, в яму сбросив, могут мгновенье постоять.
И, спотыкаясь, возвратятся в поле,
Чтоб копошиться снова, грязь меся,
Склоняя головы, сгибая спины с болью,
И волочить корзины, скорбь грызя.
Так каждой осенью бредут они в полях,
Где богу голода склоняются в почтеньи,
Покорные их мышцы закаляет страх,
Встав пред сезонным алтарём здесь на колени.
II
Лиловые, светло-жёлтые
разбросаны, как галька,
туземцы, урождённые
в чёрной сырой землянке,
бугристые клубни с глазками -
будто окаменелые сердца,
А разрубишь лопатой - сверкает.
Дышат рыхлые пласты,
восстают из перегноя
непорочные плоды,
чья кора тверда и внутри хранит
вкус земли и зёрен предков,
а "живые черепа" в ямы сбросят их.
III
"Живые черепа" идут,
"скелеты", спотыкаясь, их несут,
в том самом сорок пятом,
жрут корни и мрут клято.
Картофель звучный, как камень,
гниёт, свалившись в яму,
недолго - всего три дня,
у "черепов" глаза слепя.
А губы сжаты, лица -
как замороженные птицы,
в корзинах плетёных бойки,
клювы вгрызлись в кишки.
Люди, голодающие с рожденья,
землю скребущие, как растенья,
привиты горем безмолвным, безбрежным.
Как мозг костный, сгнила надежда.
Землю загадил картофель вонючий,
в ямах гниющие кучи,
копаешь картошку - дразнит
запах запущенной язвы.
IV
Под шум стаи чаек беспутный
Рабочий поток замирает.
Хлеб чёрный, чай в банках мутный -
Обед для смертельно горбатых.
Свалившись без сил в канаву,
Нелепый здесь пост нарушают
И, распластавшись с размаху,
В грязь корки свои рассыпают.
At a Potato Digging
I
A mechanical digger wrecks the drill,
Spins up a dark shower of roots and mould.
Labourers swarm in behind, stoop to fill
Wicker creels. Fingers go dead in the cold.
Like crows attacking crow-black fields, they stretch
A higgledy line from hedge to headland;
Some pairs keep breaking ragged ranks to fetch
A full creel to the pit and straighten, stand
Tall for a moment but soon stumble back
To fish a new load from the crumbled surf.
Heads bow, trunks bend, hands fumble towards the black
Mother. Processional stooping through the turf
Recurs mindlessly as autumn. Centuries
Of fear and homage to the famine god
Toughen the muscles behind their humbled knees,
Make a seasonal altar of the sod.
II
Flint-white, purple. They lie scattered
like inflated pebbles. Native
to the black hutch of clay
where the halved seed shot and clotted
these knobbed and slit-eyed tubers seem
the petrified hearts of drills. Split
by the spade, they show white as cream.
Good smells exude from crumbled earth.
The rough bark of humus erupts
knots of potatoes (a clean birth)
whose solid feel, whose wet inside
promises taste of ground and root.
To be piled in pits; live skulls, blind-eyed.
III
Live skulls, blind-eyed, balanced on
wild higgledy skeletons
scoured the land in ‘forty-five,
wolfed the blighted root and died.
The new potato, sound as stone,
putrefied when it had lain
three days in the long clay pit.
Millions rotted along with it.
Mouths tightened in, eyes died hard,
faces chilled to a plucked bird.
In a million wicker huts
beaks of famine snipped at guts.
A people hungering from birth,
grubbing, like plants, in the earth,
were grafted with a great sorrow.
Hope rotted like a marrow.
Stinking potatoes fouled the land,
pits turned pus into filthy mounds:
and where potato diggers are
you still smell the running sore.
IV
Under a gay flotilla of gulls
The rhythm deadens, the workers stop.
Brown bread and tea in bright canfuls
Are served for lunch. Dead-beat, they flop
Down in the ditch and take their fill
Thankfully breaking timeless fasts;
Then, stretched on the faithless ground, spill
Libations of cold tea, scatter crusts.
Посвящение капитану "Элизы"
"... другие, с измождёнными лицами и выпученными кричащими глазами, очевидно, были крайне истощены. Офицер доложил о сэре Джеймсе Домбрейне... и сэр Джеймс "весьма некстати", как писал Рауф, "только мешал".
Сесил Вудхэм-Смит: "Великий голод".
У Западного Майо наш патруль
Лодку заметил, идущую в море,
Я курс изменил и окликнул гребцов.
Гребки их заметно ослабли -
Быть может, вина или стыд их щемят,
Но тут увидал я, о милый Христос!
На самом дне лодки шесть взрослых мужчин
Со ртами разинутыми и глазами,
Безумно торчащими из глазниц,
Как лук по весне в буртах.
Шесть скелетов с натянутой кожей.
"Еда, еда".
В жалобном их скулеже отчаянье
Билось, как стая голодных чаек.
Мы знали о голоде, на борту
У нас был запас и муки, и мяса,
Но чувства наши поймите - у нас
Не было права оказывать помощь:
Помощь была доступна в Вестпорте,
Но этим животным нет хода туда.
Я отказал, они проклинали,
Выли, как битые палкой собаки,
Злобно в меня запустили весло.
И я отчалил: к чему инциденты!
С того дня по судну брели черепа
Сквозь люки и жутко смердели.
Избавил корабль я от силы нечистой,
Лишь рапорт подав коменданту в порту.
Сэр Джеймс, как я знал, призывал помогать
Бесплатно от смерти голодной в Вестпорте,
Но окрик из доброго Уайтхолла был:
Пусть жители сами себе помогают,
Кто плавать не может - пойдёт тот ко дну,
А Береговая охрана усердна,
Но так расточительно грабит казну.
For the Commander of the "Eliza"
... the others, with emaciated faces and prominent, staring eyeballs, were evidently in an advanced state of starvation. The officer reported tj Sir James Dombrain... and Sir James, 'very inconveniently', wrote Routh, 'interfered'.
Cecil Woodham-Smith: The Great Hunger
Routine patrol off West Mayo; sighting
A rowboat heading unusually far
Beyond the creek, I tacked and hailed the crew
In Gaelic. Their stroke had clearly weakened
As they pulled to, from guilt or bashfulness
I was conjecturing when, O my sweet Crist,
We saw piled in the bottom of their craft
Six grown men with gaping mouths and eyes
Bursting the sockets like spring onions in drills.
Six wrecks of bone and pallid, tautened skin.
'Bia, bia,
Bia'. In whines and snarls their desperation
Rose and fell like a flock of starving gulls.
We'd known about the shortage but on board
They always kept us right with flour and beef
So understand my feelings, and the men's,
Who had no mandate to relieve distress
Since relief was then available in Westport -
Though clearly these poor brutes would never make it.
I had to refuse food: they cursed and howled
Like dogs that had been kicked hard in the privates.
When they drove at me with their starboard oar
(Risking capsize themselves) I saw they were
Violent and without hope. I hoisted
And cleared off. Less incidents the better.
Next day, like six bad smells, those living skulls
Drifted through the dark of bunks and hatches
And once in port I exorcised my ship
Reporting all to the Inspector General.
Sir James, I understand, urged free relief
For famine victims in the Westport Sector
And earned tart reprimand from good Whitehall.
Let natives prosper by their own exertions;
Who could not swim might go ahead and sink.
'The Coast Guard with their zeal and activity
Are too lavish' were the words, I think.
Предсказатель
Рогатый свежий ореховый прут
Он крепко держал и кружил по полям -
Искал он источник воды и мрачнел,
Но дело своё безупречно он знал.
Рывок резким был, будто жалил,
Ритмично прут стал колебаться -
Так тайное место вода в роднике
Орешнику вдруг открывает.
Зеваки просили попробовать прут,
Он молча его отдавал,
И прут неподвижно лежал в их руке,
Но вздрагивал, лишь он запястье хватал.
The Diviner
Cut from the green hedge a forked hazel stick
That he held tight by the arms of the V:
Circling the terrain, hunting the pluck
Of water, nervous, but professionally
Unfussed. The pluck came sharp as a sting.
The rod jerked with precise convulsions,
Spring water suddenly broadcasting
Through a green hazel its secret stations.
The bystanders would ask to have a try.
He handed them the rod without a word.
It lay dead in their grasp till, nonchalantly,
He gripped the expectant wrists. The hazel stirred.
Наблюдение за индюшками
Наблюдаешь и размышляешь:
Синегрудые кой-как в покойницкой ждут,
На холодной плите кто из них голышом,
Кто в бесстыжем белье с бахромою из перьев.
Рядом красные тёлок пласты
Дурно пахнут величием жизни:
Туша статно висит на крючке,
Кровь и мясо - нетленная ценность.
Смерть цинично сожмёт индюка,
Ощипайте его, посмотрите -
Это жалкое существо,
Он - мешок, набитый шпатлёвкой.
Он брезгливо осматривал грязь под когтями
Серым взглядом, как древний мудрец,
Он заважничал безгранично
Перед тем, как его проглотили.
И теперь, проходя вдоль гирлянд Рождества,
Вижу мёртвенные эскадрильи:
Хвост оторван вчистую, гол фюзеляж,
Грубо сломаны гордые крылья.
Turkeys Observed
One observes them, one expects them;
Blue-breasted in their indifferent mortuary,
Beached bare on the cold marble slabs
In immodest underwear frills of feather.
The red sides of beef retain
Some of the smelly majesty of living:
A half-cow slung from a hook maintains
That blood and flesh are not ignored.
But a turkey cowers in death.
Pull his neck, pluck him, and look -
He is just another poor forked thing,
A skin bag plumped with inky putty.
He once complained extravagantly
In an overture of gobbles;
He lorded it on the claw-flecked mud
With a grey flick of his Confucian eye.
Now, as I pass the bleak Christmas dazzle,
I find him ranged with his cold squadrons:
The fuselage is bare, the proud wings snapped,
The tail-fan stripped down to a shameful rudder.
Телёнок в корове
А может, она проглотила бочонок?
Свисает живот, как гамак,
от задних ног аж до передних.
Я шлёпал её, выводя из коровника,
будто стучал по мешку с семенами,
рука онемела,
но бью её снова,
шлепок отдаётся глубинною бомбой
где-то там, в брюхе.
Вымя растёт, и будто мехи
волынок туда запихнули -
когда замычит она, всё в ней гудит.
Жуёт, молоко принося и тепло,
телята придут и уйдут.
Cow in Calf
It seems she has swallowed a barrel.
From forelegs to haunches
her belly is slung like a hammock.
Slapping her out of the byre is like slapping
a great bag of seed. My hand
tingled as if strapped, but I had to
hit her again and again and
heard the blows plump like a depth-charge
far in her gut.
The udder grows. Windbags
of bagpipes are crammed there
to drone in her lowing.
Her cud and her milk, her heats and her calves
Keep coming and going.
Форель
Подвешен, словно пушки ствол,
под арочным мостом
или скользит, как масло,
в артерии реки.
Как слива, гладкокожий
из глубины торпедой
в мишень воткнётся мордой -
проглотит мотыльков.
Там, где вода резвится
на мелководье русла,
сверкает белым брюхом,
играя с быстриной,
как пуля пролетает
между камней узорных
и никогда не скиснет
холодной крови залп,
пронзающий теченье.
Trout
Hangs, a fat gun-barrel,
deep under arched bridges
or slips like butter down
the throat of the river.
From depths smooth-skinned as plums
his muzzle gets bull's eye;
picks off grass-seed and moths
that vanish, torpedoed.
Where water unravels
over gravel-beds he
is fired from the shallows
white belly reporting
flat; darts like a tracer-
bullet back between stones
and is never burnt out.
A volley of cold blood
ramrodding the current.
Докер
Сидит в углу, уставившись в напиток,
Торчит, как балка крана, кепка,
Лоб скрыт капотом, челюсть - как кувалда,
Тисками губ зажата речь.
Кулак свой молотом обрушить может
Опять и снова на католика,
А вот ошейник римский кротко терпит,
И, с кружкой портера, всему вокруг он рад.
Веленья власти в дом вбивают гвозди.
Бог - дела своего умелый мастер:
Жизнь строит, чередуя труд и отдых,
Гудком фабричным возвестив о Воскрешеньи.
Сидит прямой, тугой, как кельтский крест,
Он заработал тишину и кресло:
Жена и дети вечером замолкнут,
Едва дверь хлопнет и раздастся кашель.
Docker
There, in the corner, staring at his drink.
The cap juts like a gantry's crossbeam,
Cowling plated forehead and sledgehead jaw.
Speech is clamped in the lips' vice.
That fist would drop a hammer on a Catholic-
Oh yes, that kind of thing could start again;
The only Roman collar he tolerates
Smiles all round his sleek pint of porter.
Mosaic imperatives bang home like rivets;
God is a foreman with certain definite views
Who orders life in shifts of work and leisure.
A factory horn will blare the Resurrection.
He sits, strong and blunt as a Celtic cross,
Clearly used to silence and an armchair:
Tonight the wife and children will be quiet
At slammed door and smoker's cough in the hall.
Притяжения
Воздушные змеи парят в вышине,
Хоть связаны нитью с землёй,
А голуби могут и вдаль улететь,
Но точно вернутся домой.
Влюблённые, прячась от жгучих обид,
Лицо своё могут калечить,
Иного, кто вдрызг безнадёгой разбит,
Объятья родные излечат.
Блиставший в Париже на празднествах Джойс
И в Дублине и на священном Айоне
Давал магазинам названья душой,
Ища утешенье в ирландском каноне.
Gravities
High-riding kites appear to range quite freely
Though reined by strings, strict and invisible,
The pigeon that deserts you suddenly
Is heading home, instinctively faithful.
Lovers with barrages of hot insult
Often cut of their nose to spite their face,
Endure a hopeless day, declare their guilt,
Re-enter the native port of their embrace.
Blinding in Paris, for his party-piece
Joyce named the shops along O'Connell Street
And on Iona Colmcille sought ease
By wearing Irish mould next to his feet.
Двойная застенчивость
Шарф её а-ля Бардо,
Для прогулки башмачки -
Как-то вечером со мной
На прогулку у реки
Вышла воздуха вдохнуть,
Обсуждали пустяки.
Дуновенье. Лёгкий шаг.
В небе нарастает гнёт,
Там на сумеречный фон
Тенью лебедь наплывёт,
Робко, будто хищник, ждёт -
Страшен, как немой полёт.
Эхо гулкое нужды
Сдавит следопыту грудь,
Зверь добычу так ведёт -
Порознь вместе их маршрут,
Помня роль приличий всех,
Болтовни нелепа суть.
С детства мы впитали то,
Что не нужно торопить,
Нежных чувств не выдавать
И о прошлом не судить -
Сборщик ревностный грибов
Нас осудит, может быть.
Тяжело, взволнованно,
С ястребом сплетённый дрозд,
В сумерках, дрожа, мы шли,
Не взлетевшие из гнёзд.
Воды катят в глубине -
Их никто не упрекнёт.
Twice Shy
Her scarf a la Bardot,
In suede flats for the walk,
She came with me one evening
For air and friendly talk.
We crossed the quiet river,
Took the embankment walk.
Traffic holding its breath,
Sky a tense diaphragm:
Dusk hung like a backcloth
That shook where a swan swam,
Tremulous as a hawk
Hanging deadly, calm.
A vacuum of need
Collapsed each hunting heart
But tremulously we held
As hawk and prey apart,
Preserved classic decorum,
Deployed our talk with art.
Our juvenilia
Had taught us both to wait,
Not to publish feeling
And regret it all too late -
Mushroom loves already
Had puffed and burst in hate.
So, chary and excited
As a thrush linked on a hawk,
We thrilled to the March twilight
With nervous childish talk:
Still waters running deep
Along the embankment walk.
Прощание
Леди в кофточке с жабо
И практичной, в клетку, юбке,
Ты ушла, и дом с тех пор
Пустотой болит в скорлупке.
Дом на якоре стоял
Ласковой твоей улыбки,
А теперь разлуки вал
Время гонит, как обрывки.
Дни листают календарь,
Как сплетает ветер волос,
Только им не передать,
Как цветок, твой нежный голос.
Волны унесли меня
И швыряют в бурном море.
Берег, в чём моя вина?
Кинь мне якорь, дай опору.
Valediction
Lady with the frilled blouse
And simple tartan skirt,
Since you have left the house
Its emptiness has hurt
All thought. In your presence
Time rode easy, anchored
On a smile; but absence
Rocked love's balance, unmoored
The days. They buck and bound
Across the calendar
Pitched from the quiet sound
Of your flower-tender
Voice. Need breaks on my strand;
You've gone, I am at sea.
Until you resume command,
Self is in mutiny.
Влюблённые на Аране
Бесконечные волны, сверкая,
Бьются в скалы, взлетают осколки,
От Америки шли, не смолкая.
Но Аран не даёт овладеть им -
Он раскинул по скалам объятья,
Волны будто смягчились отливом.
Может, суша предел даёт морю,
Или море границы даст суше?
Море в схватке становится морем.
Lovers on Aran
The timeless waves, bright, sifting, broken glass,
Came dazzling around, into the rocks,
Came glinting, sifting from the Americas
To possess Aran. Or did Aran rush
to throw wide arms of rock around a tide
That yielded with an ebb, with a soft crash?
Did sea define the land or land the sea?
Each drew new meaning from the waves' collision.
Sea broke on land to full identity.
Поэма для Мари
Любимая, ты мне поможешь
В моём мозгу ребёнка воспитать,
Лопатой кучу он копает,
А то в грязи наладится играть.
Я ежегодно сеял грядку,
А дёрн снимал, чтоб стену возвести -
Как от козлов и кур защиту,
А те топтать старались, колотить.
Иль в молоке грудном плескался
И с наслажденьем сдерживал поток,
Запруды из земли и каши
Осенний дождь всегда разрушить мог.
Любовь моя, учи ребёнка,
Его несовершенства - на лице,
Устрой мир новый и границы
В домашнем нашем золотом кольце.
Poem
For Marie
Love, I shall perfect for you the child
Who diligently potters in my brain
Digging with heavy spade till sods were piled
Or puddling through muck in a deep drain.
Yearly I would sow my yard-long garden.
I'd strip a layer of sods to build the wall
That was to keep out sow and pecking hen.
Yearly, admitting these, the sods would fall.
Or in the sucking clabber I would splash
Delightedly and dam the flowing drain
But always my bastions of clay and mush
Would burst before the rising autumn rain.
Love, you shall perfect for me this child
Whose small imperfect limits would keep breaking:
Within new limits now, arrange the world
Within our walls, within our golden ring.
Полёт в медовый месяц
Внизу - земли лоскутные мотивы,
Разлуки-встречи лент дорог белёсых,
Деревни и поля в случайном браке.
Вот дом у озера, мы делаем вираж,
И мир с ног на голову устремился,
Ландшафт привычный в прошлом, позади.
Мотора шум иной. Ты на меня глядишь.
Там б;рега черта уходит под крылом.
Огня усильем подняты с земли,
Чудесным образом мы над водой парим,
Незримый воздух нам благоволит -
Он самолёт и нас уносит дальше.
Небесный гейзер будто впереди.
Мы в облаках, возможно, потерялись.
В воздушных ямах - страх, мы вниз летим,
И только верить нам осталось.
Honeymoon Flight
Below, the patchwork earth, dark hems of hedge
The long grey tapes of road that bind and loose
Villages and fields in casual marriage:
We bank above the small lough and farmhouse
And the sure green world goes topsy-turvy
As we climb out of our familiar landscape.
The engine noises change. You look at me.
The coastline slips away beneath the wing-tip.
And launched right off the earth by force of fire,
We hang, miraculous, above the water,
Dependent on the invisible air
To keep us airborne and bring us farther.
Ahead of us the sky’s a geyser now.
A calm voice talks of cloud but we feel lost.
Air pockets jolt our fears and down we go.
Travellers, at this point, can only trust.
Строительные леса
Каменщик прежде, чем дом начать строить,
Строго проверит леса все, их стойки,
Доски должны не скользить на местах,
Лестницы закреплены на болтах.
Снимут всё после работ постепенно,
И мы увидим надёжные стены.
Так что не бойся, моя дорогая,
Если мост старый меж нами сломают.
Сбросив леса, дом избавим от плена -
Мы ведь построили прочную стену.
Scaffolding
Masons, when they start upon a building,
Are careful to test out the scaffolding;
Make sure that planks won’t slip at busy points,
Secure all ladders, tighten bolted joints.
And yet all this comes down when the job’s done
Showing off walls of sure and solid stone.
So if, my dear, there sometimes seem to be
Old bridges breaking between you and me
Never fear. We may let the scaffolds fall
Confident that we have built our wall.
В малых городках
Посвящается Колину Миддлтону
В малых городках клин свиной щетины
От несносной глины отделит гранит,
Обнажив в породе искристый кристалл,
Груз на камне даст сочную картину:
Вересковый с горным синим в ней разлит,
Вознеся природы труд на пьедестал.
Спектр взорвётся, как яркая граната,
Стоит только снять стопора кольцо
На дожде, росе и белых облаках.
Расщеплённый свет режет, как лопата,
Очищает землю от гнилых зубцов
До кости, зажав в горе, как в тисках.
Это поразит, атакуя сердце,
Из-под толстых линз взгляд его зажёг
Пустоту пейзажа в белый, красный цвет,
Яростно горит, взмоет пепел серый,
В погребальных углях явится цветок -
Время возвестит сказочный рассвет.
In Small Townlands
For Colin Middleton
In small townlands his hogshair wedge
Will split the granite from the clay
Till crystal in the rock is bared:
Loaded brushes hone an edge
On mountain blue and heather grey.
Outcrops of stone contract, outstared.
The spectrum bursts, a bright grenade,
When he unlocks the safety catch
On morning dew, on cloud, on rain.
The splintered lights slice like a spade
That strips the land of fuzz and blotch,
Pares clean as bone, cruel as the pain.
That strikes in a wild heart attack.
His eyes, thick, greedy lenses, fire
This bare bald earth with white and red,
Incinerate it till it's black
And brilliant as a funeral pyre:
A new world cools out of his head.
Личный Геликон
Посвящается Майклу Лонгли
В детстве меня увлекали колодцы,
Вёдра, насосы, ручные лебёдки,
Скважины тёмные, тучи, болотца,
Запахи сырости, мхов и грибов.
Был вековой на заводе кирпичном -
В этот колодец бросал я ведро
И смаковал рёв и лязг фантастичный,
Так был глубок он - бездонно темно.
Был мелководный колодец в канаве,
Он, как аквариум, зелень кормил,
Длинные корни из мульчи таская,
Я в нём виднелся бледным лицом.
Эхо в одном мне однажды открылось
Музыкой, раньше не слышанной мной,
Ну а другой напугал меня: крыса
По отраженью прошлась моему.
Пялиться в воду и в слизи копаться
Не позволяет нам взрослая жизнь,
Чтобы мрак эхом склонить отозваться
И там увидеть себя, я пишу.
Personal Helicon
For Michael Longley
As a child, they could not keep me from wells
And old pumps with buckets and windlasses.
I loved the dark drop, the trapped sky, the smells
Of waterweed, fungus and dank moss.
One, in a brickyard, with a rotted board top.
I savoured the rich crash when a bucket
Plummeted down at the end of a rope.
So deep you saw no reflection in it.
A shallow one under a dry stone ditch
Fructified like any aquarium.
When you dragged out long roots from the soft mulch,
A white face hovered over the bottom.
Others had echoes, gave back your own call
With a clean new music in it. And one
Was scaresome, for there, out of ferns and tall
Foxgloves, a rat slapped across my reflection.
Now, to pry into roots, to finger slime,
To stare, big-eyed Narcissus, into some spring
Is beneath all adult dignity. I rhyme
To see myself, to set the darkness echoing.
Свидетельство о публикации №125071507075