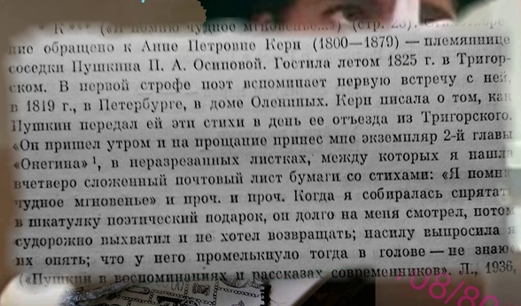Классик
"Я помню чудное мгновенье".
Хрестоматийное восприятие по инерции создает из первой строки ощущение, связанное с чувством восхищения, потому что про "гений чистой красоты" знают почти все русскоязычные. Но здесь есть два ньюанса, первый, "чудное" не равнозначно "чудесному", которое стоит в одном лексическом ряду с восхищениями и восторженностью. Слово "чудный" ближе к такому чувству как удивление ("чудны дела твои, господи") или мете "непонимания" ("чудной ты").
Автор описывает не явление, автор сканирует свои ощущения, оставшиеся в памяти. И именно память и его собственное восприятие, вот настоящая цель, смысл и мотивация стиха. Он восхищается созданным образом, как это потом проявится еще в одном хрестоматийном "Я памятник себе воздвиг", и это все очень неплохо ассоциируется с байкой про "Ай да сукин сын".
Если сместить этот акцент с прототипа (Анна Петровна Керн) на художественный образ, созданный на его основе, то все стихотворение легко прочитывается как гимн возможности с помощью слова создавать в своем внутреннем мире целые галереи. Такой вариант поэтической любви чем-то напоминает Захаровскую "Формулу любви", только там герой влюбляется в статую, а поэт статую создает из увиденного настоящего.
"О подвигах, о доблестях, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной стояло на столе"..
Блок не ставил этих амортизационных заглушек в виде: памяти, восприятия, образа, хотя тоже играл со словом. Но его коммуникация, аппликативность равновелика, он пишет не из кладовки памяти, акцентируя на этом внимание, а пытается описывать реальные события, которые близки и понятны: кто не мечтал о подвигах, о доблестях и о ней, игрушке богов, славе. А Блоку посчастливилось об этом забыть, благодаря автору портрета. И здесь речь идет об образе, созданном другим — о чем свидетельствует деталь портрета. Расстояние между чувствами лирических героев не масштабируется, как у Пушкина, а просто живет, как часть реальных событий, отраженных словом формата почти что хроники. Ибо портрет на столе, куда как естественней, чем "гений чистой красоты". Этот эпитет о "чистой красоте" часто вызывал улыбку. Хотелось посмотреть на грязного гения...
После строфы "Во как я удивился" автор выстраивает целый лабиринт тайников, чтобы запрятать в него образ, чем-то напоминающий о праве на частную собственность:
- троп "мимолетное виденье" вновь подчеркивает, что перед читателем не нечто плотное, в смысле физическое и осязаемое из плоти, а видение — иллюзия, мираж, оазис вдохновения, повод для открытого поэтического крана. Эпитет "мимолетное" отрывает его и от земли, и от времени, и от плоти. Это мир грез и фантазий, болезненного воображения, желания, возведенного в степень потребности.
- использование слабых глаголов, в том смысле слабых, что они были продолжением не лирической героини, а только комплектующими красок, которыми она создана "звучал мне долго голос", "снились черты". То есть точкой сборки является не жизнь с ее событиями, а только память и воображение поэта, плюс желание все это оформить в виде лексического слепка внутреннего переживания.
Автор любил гиперболизировать проблемы. История с "Кишиневской ссылкой", где он скучал между барышень под шампанское и игрой в карты, иногда посещая тюрьму, чтобы потом написать "Узника", научила трезво смотреть на "страдания". Не обошлось без сгущения красок и здесь. Повествователь подводит свой образ к барьеру стагнации, настолько сильному, что созданный "гений чистой красоты" забывается. После прочтения строк "В глуши, во мраке заточенья" возникает подсознательный барьер. Есть строчки, написанные из глубины, а есть, пустые, как прием контраста или некая лексическая фича, чтобы воспользоваться амплитудой. И так воспринимается "мрак заточения", за словами не стоит реальность. Вот если бы об этом написали декабристы, слова бы наполнились. В состоянии упадничества образ "видения" уходит на второй план. Что может говорить только о том, что доминанта удивления была слабее, чем мрак жизненных событий.
Но и даже после того, как "героиня" вдохнула в лирического героя "жизнь", она по-прежнему осталась в статусе только видения. То есть частного образа, созданного поэтом, а не действующим самостоятельным лицом.
Последние шесть строф выглядят как неоправданно растянутый рефрен, повторяющий слова первого катрена:
"Как мимолетное виденье
Как гений чистой красоты.
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь,
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь"*
Финальный навязчивый ассонанс и анафора соединительным "и" выглядит как ритмическая беспомощность, на седьмом "и" это уже навевает тоску.
Образ как явление типологическое, бывает сильно отличим от прообраза. Иногда с ним происходит то, что хотел описать Андерсен в "Тени", сказке, сюжет которой экспроприировал Е.Шварц для своей пьесы, исказив концепцию ценностей сказочника. Там тень вымещает живого человека. В истории с "видением", образ вытеснил своего прототипа. Оригинал утратил право на свою судьбу в жизни человека, который его боготворил, опять же, только образ. А образ не может ни умереть, ни обмануть, ни изменить, ни полюбить... Но и разлюбить он тоже не может, пока ему не разрешит его хозяин.
Не существует науки или направления, которое бы изучало влияние творчества на судьбы прототипов. Ведь человек, послуживший кому-то прообразом, расщепляется реальностью на себя и на образ. Зная силу мысли и влияние слов, можно предположить, что это влияние существует. Но мы ничего об этом не знаем, но и здесь, незнание не освобождает.
Поэт может спрятаться за ширмой "лирического героя". Тогда прообразу нужно вооружиться щитом "образа", открещиваясь от литературы или искусства поступками и реальной жизнью, чтобы жить, а не быть копией. Кому нравится, пусть будет. Но мне кажется, есть те, кому это досаждает.
Когда "мимолетное виденье" ("я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я" - шикарный лексический косплей от Л.Максимова) захотела выпустить джина своего эго из лампы пушкинской поэзии и решилась взяться за переводы Ж.Занд, она вышла из под контроля через дверь нового образа — дуры. По воспоминаниям современников и интонации писем было известно, что автор "видения" нравился будущей переводчице, только как создатель романа в стихах и лирики. Так бывает, что стихи становятся самодостаточны и живут отдельно от своего создателя.
______________________________________-
Стихотворение анализируется без использования информации сети интернет по изданию: А.С.Пушкин, СС в 10-ти томах, Т.2, М.:"Художественная литература,1974 — С.23.
Свидетельство о публикации №122071103150