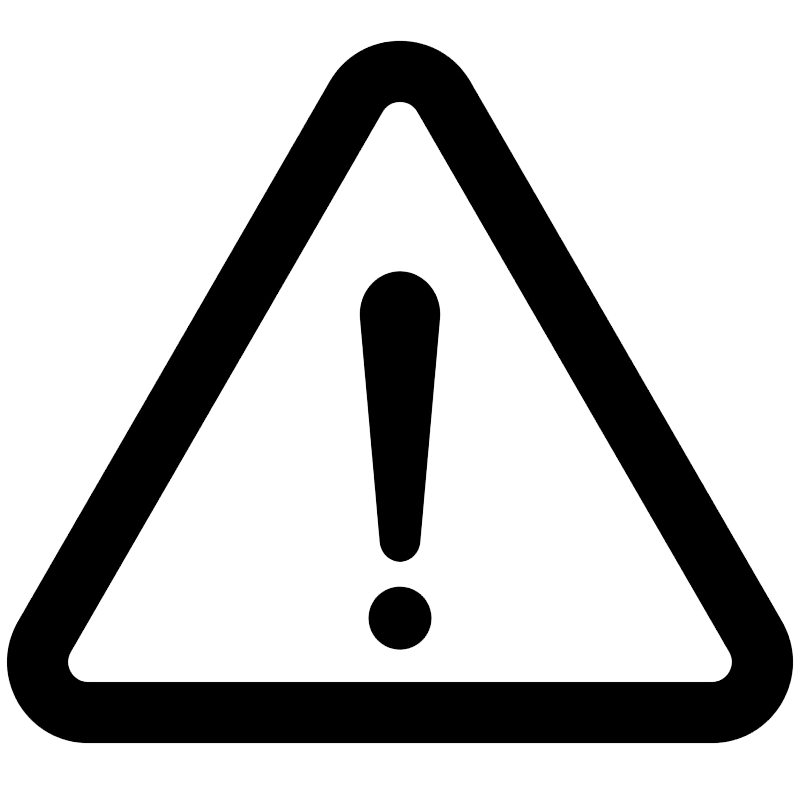
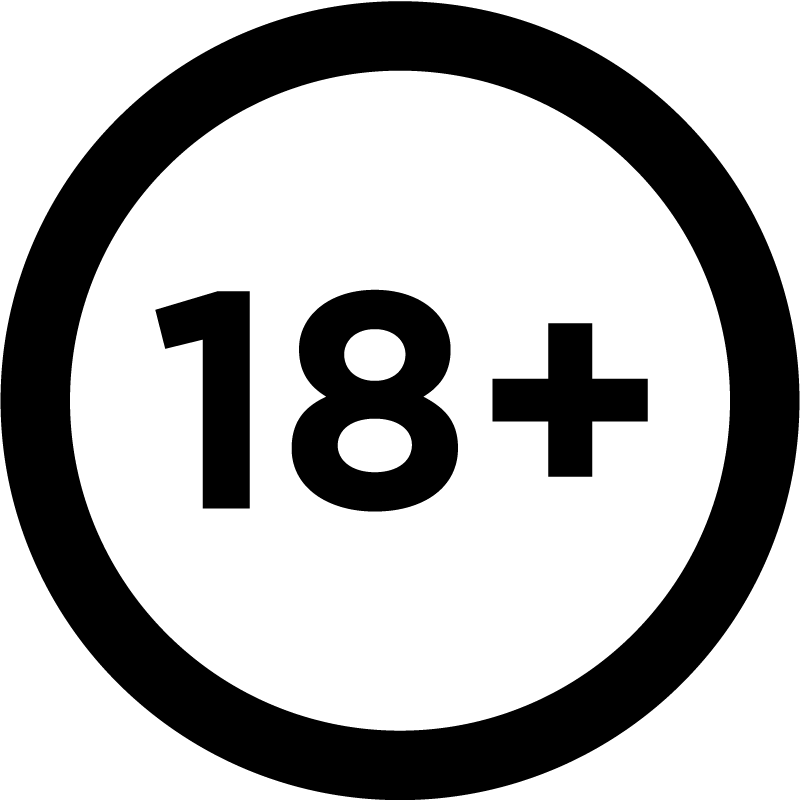 Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Из цикла Кошельковый лов
Жизнь северян – не слащавые пончики,
Нрав здесь, как климат, суров.
Словно Одесса без Мишки Япончика
Старый наш порт без воров.
Мир городской разукрасим картинами,
Будто рассветом Восток:
Кражи карманные, кражи квартирные
И в переулках гоп-стоп.
Толпы на рынках, галдяще-орущие:
- Вот он, держите вора’!
Ловят карманников, ищут мокрушников
В злачных местах опера’.
Что обыватели – жалкие кролики.
Что нам судья-фарисей.
Города жизнь – криминальная хроника
Круче всех летописей.
НЕВЕСТА
И девицы, и вдовы
Помнят Степу Инькова –
Он Соломбалы главный герой.
На Французской, Ирландской –
Поцелуи да ласки.
И поклонницы вились как рой.
Как-то зол и простужен
От свирепого мужа
Удирал, сапоги прихватив.
Мчал, по лужицам вешним,
А на нем из одежды
Только шапка и презерватив.
Степка парнем был видным,
Не сидел дома сиднем,
С малолетства ходил по морям.
Как с отцом весновал он,
Коль наваги навалом!
Был Степан по-поморски упрям.
Но однажды в апреле
Приключился в артели
Неизвестной причины конфликт.
Вместе с Федькою Босых
Он товарищей бросил
И навек из артели свалил.
Вот пришел на Двину и
Жизнь повел он шальную.
Пообтерся, набил синяков.
Сколотивши команду,
Стал ловцом по карманам
Прежде честный поморец Иньков.
Раз проник с Ваней Кемским
В дом богатого немца,
Но заслышав условный сигнал,
Бросив ценные штуки,
Процедив слово «шухер»
Из мансарды на клумбу сигал.
Тут завел он зазнобу,
Что клялася до гроба.
Дорогого Степана любить.
Дарит розы невесте,
Вместе с будущим тестем
Ходит рыбку на Курье удить.
Дело двигалось к свадьбе,
Его младшие братья
Поздравляли уже молодца.
Прежде плыл он без весел,
Но грабительство бросил.
Пить – не пил, окромя молока.
Степа действовал шустро,
Коль нежнейшие чувства
К соломбалочке Марье питал.
Но в любви как на фронте:
Вырос на горизонте
Белобрысенький швед-капитан.
Был июнь белоночный.
В день и час неурочный
Заявился к любимой Степан.
И в прихожей увидел
Чей-то форменный китель.
И, запнувшись, едва не упал:
Ведь в сенях этой леди
Средь туфлей и уледей
Не отцовы стоят сапоги.
А в гостиной, он чует,
Кто-то нежно воркует.
И Степан прошептал: «Я погиб…»
Но, опомнившись, парень,
Прошипел: «Этой твари
С моей Машенькой в браке не жить».
Шасть - в гостиную с ходу,
А там пьют виски с содой.
И блестят на тарелке ножи.
Задыхаясь, он шведу:
- Я тебе в рыло въеду!
И в кармане нащупал наган.
Стали щеки Степана,
Вдруг белее сметаны:
- Уходи – иль стрельну по ногам.
Но и швед был не промах.
Хвать он ножик огромный
И в Степана бросает без слов.
Не попал! У Степана
Сжались пальцы спонтанно,
Грянул выстрел – и брызнула кровь.
Стал стонать иностранец
В ляжку пухлую ранен.
Марья крикнула Степке: - Ты – враг!
Не ревнуй, не старайся.
Мне милей иностранец
Соломбальца Степана, вора’.
Взяв платочек из ситца,
Начала тут возиться
Над простреленной шведской ногой,
На Степана не глядя,
Проклинаючи гада.
И поплелся несчастный домой.
Ну а после – облава
И Степанова слава
Закатилась как солнечный диск.
По доносу невесты
Он в узилище тесном
Приговор ожидая, сидит.
АДВОКАТ
Защитнику спасибо
От всех лихих парней.
Святой угодник с нимбом,
Неважно, что еврей.
Сложить бы песню, оду
О том, как ты речист.
Ведь вышел на свободу
Я первозданно чист.
Твой голосок протяжный
Любого убедит.
Ты разъяснил присяжным,
Что Степка не бандит.
Бумаг собрал ты стопку,
И даже прокурор
Уверился, что Степка
Не грабил фраеров.
- Он кошелек с деньгами
Совсем-таки не крал.
Лежал тот под ногами,
Степан же подобрал.
А что купчишку в губы
Кулак поцеловал,
Так потерпевший грубо
Сам спро-во-ци-ро-вал.
Спасибо, друг-приятель,
Златая голова,
Хоть на тебя потратил
Все, что наворовал.
В моих карманах убыль
Большая – ну и пусть!
И на последний рубель
Я в честь тебя напьюсь.
***
Хмурит следователь брови, битый час ведет допрос.
- Дорогой Степан Петрович, поступил на вас донос.
Приведен в бумаге данной полный список всей братвы.
Главный чистильщик карманов на Поморской – это Вы!
Мол, изучен и прочитан на досуге список весь
Я же строю, знай, защиту из мыслишек и словес.
А с портрета смотрит броский, не такой, как на деньгах
Кольки-форточника тезка при мундире, в орденах.
- Ни один-то обыватель от меня не пострадал.
За меня бы дед Савватий зуб единственный отдал!
Летом много-то ныряет пьяных купчиков в Двину.
Кольца, часики теряют, а вменяют мне в вину.
Я ль виновен, что, купаясь, обронил их обормот?
Что узоры моих пальцев есть на множестве банкнот?
Эти самые банкноты через сотни рук шуршат.
И следы ладошек потных на поверхности деньжат.
Пламя лампочки мерцает, на Двине гудит баржа.
Ручки белые мелькают над бумагами, дрожа.
Засыхает пальма в кадке. Сел комар на протокол.
Вокруг пальца с отпечатком я полицию обвел.
Извините, мол, простите, доказательств как бы нет.
Как обычный посетитель покидаю кабинет.
***
Сивуха в рюмке – мутная отрава,
А на тарелке – хилый окунек.
Кричит шалава: «Караул! Облава!
Ныряй в окно! А дальше – со всех ног».
Надел пенсне, как подобает франту, -
Недаром я у барышень в цене! -
Да прихватить забыл гитару с бантом –
Теперь бренчит полиция на ней.
Жизнь воровская – вовсе не забава.
Схватил пальто, хлебнул на посошок.
А в спину мне свистит, кричит облава:
- Бросай волыну, скидывай мешок!
Вчера я кассу брал в управе земской –
А мой напарник в банке пошалил.
Как корабли мы нынче с Ванькой Кемским
Затейливыми галсами ушли.
***
В портсигаре папиросы, спички в коробках.
Убаюкивают Тромсё скрипки в кабаках.
А в карманах у норвежцев мелодичный звон.
Мы облегчим иноверцев от излишних крон.
Скандинавы и поморы падали под стол -
Свалит с ног кого угодно двадцать первый «скол».
Будь ты капитан почтенный или юнга-шкет,
С утреца погано будет, «плотники в башке».
Мы трезвее многих прочих – и без лишних слов
Начинаем незаметно кошельковый лов.
Потрошил, бывало, трюмы кормщик-атаман.
Мы проворнее пиратов вычистим карман.
Девки, жирные, как семги – пальцы оближи.
Захмелев маленько, Семка тотчас заблажил.
Про родные палестины позабыть готов.
Онежанку Алевтину вспомнишь ли потом?
Шепчет он: «Кого б пристукнуть?», меж зубов цедя.
Вот уж нет! Хоть и преступник – не убивец я.
Чисты руки без мокрухи. Не марай клешней,
Раздобудешь для марухи золотых вещей.
Что заморские законы, коль своих не чтим!
У меня в карманах кроны, в голове - мечты!
От Нордкапа до Тронхейма мгла как молоко.
Горьким выдастся похмелье бравых моряков.
***
Сырость, мгла промозглая, хмурый март.
Улица Поморская: шум, гам, мат.
Хлебушка подового каравай.
Эй, ряды торговые открывай!
Мореход из Бремена перебрал.
Шишка возле темени, слом ребра.
Где колечко-золото, где брегет?
Подобрали голого: «Эй, привет!»
А британский шкипер-то – вот орел! –
От бутылки выпитой форс обрел.
Топал вдоль Обводного. Доски – хрясь!
И нырнул в болотную жижу-грязь.
Конь несет попутчика, в мыле конь.
За душой у купчика миллион.
В кожаном бумажнике сотни три.
Аккуратно, Машенька, посмотри.
Был торговец пьяненький, задремал.
Из корзины пряников аромат.
Мы гостинцы сладкие не берем.
Лишь на деньги падкие, их сопрем!
Фыркает и цокает белый конь.
Вот крыльцо высокое, тут – балкон.
Занавески парусом, теремки.
Вспомню ли под старость я те деньки?
Укатил извозчика тарантас.
Он меня, сообщника, не продаст.
Выдам долю щедрую, Маш, тебе.
Ну а мелочь медную – нищете.
Заскочу к Писахову на часок,
Чтоб вприкуску с сахаром пить чаек.
Чашечки да вазочки – все фарфор.
Любит твои сказочки тезка-вор.
Не седеет буйная голова.
Во селенье Уйме я сам бывал.
И деньки в весеннюю пору там
Я с Малиной Сенею коротал.
***
На углу Американской* был гоп-стоп. И разбой, и хулиганство – грабь господ!
Дребезжат часы, браслеты, кошельки. Разбежались, брысь – и нету, кошаки.
Светом ярким озарился край восток. Тотчас яростно залился злой свисток.
А еще тяжелый топот, крик «стоять!». Ох, не стоило к гоп-стопу приступать!
Друг мой мчался, догоняя экипаж. Но споткнулся, извиняюсь – эх, упал!
Сей же миг пяток легавых на «ура» за разбой и хулиганство брать вора!
Усть-цилём Данила Коткин, что сгорел, за железную решетку вдаль смотрел.
Если б был в проулке ровный тротуар, от погони братец кровный вмиг удрал.
* Ныне улица Советская в Соломбале
***
Меж Олонецкою и Вологодской
На Набережной был шикарный скок.
Быть может, мне еще тянуть придется
Весьма немалый в сибирских тюрьмах срок.
А следователь курит, а следователь курит,
А следователь курит норвежский табачок.
А я сижу, а я молчу в натуре,
Как будто совершенно ни при чем.
Ведь мы ж такие, шитые не лыком.
Но шиты белой ниткою дела.
И, сколь ни вьется, рвет защитник Быков
Все, что сыскная контора наплела.
А следователь курит, а следователь курит,
А следователь курит норвежский табачок.
А я сижу себе и маюсь дурью,
Как будто совершенно ни при чем.
Без доказательств нет и преступленья,
А, значит, наказанья тоже нет.
«Я – невиновен! – заявляю без соплей я.
Верни к любимым детишкам и жене».
А он жует так нервно, а он жует так нервно
А он жует так нервно норвежский влажный снюс.
Я этой летней ночкою наверно
В кошмарном, тяжком сне ему приснюсь.
***
Случилось раз: бывалый вор, карманник Васька Пестерев
Решился вытащить на спор бумажник полицмейстера.
Ему в ответ: мол, это риск, малейшая небрежность – и
Сгоришь, браток! К чему каприз? Опять вожжа в промежности?…
А он упертый, он такой… Он смотрит хищной птицею.
Пришел на рынок за треской начальничек полиции.
Едва нагнулся над лотком – то правда, а не россказни –
Ванюшка - шасть за кошельком как хитроумный фокусник.
Бумажник наш! В нем письмецо, духами пахнет – смейтесь-ка!
Могу представить я лицо бедняги-полицмейстера.
Конверт – виньетки, голубки, сердечки прострелённые.
Картинка – очи глубоки, как малахит зеленые.
Листок бумаги – нежно желт, как бабочка-лимонница.
Василий ахнул: - Я нашел посланье от любовницы.
Нет ни рублишка – вот нахал! Зато лежит «сокровище»!
Я от друзей давно слыхал, что ходит он ко вдовушке.
В кармане держит – это ж нать! – портрет такой прелестницы.
А вдруг найдет его жена? Иль выпадет на лестнице?
Скандал, и брань, и браку крах. Была семья – и нет ее.
Большой начальник, а дурак. Пусть на судьбу не сетует.
Никто письма не прочитал – мы джентльмены гордые,
И каждый честно начихал на ваши шашни чертовы.
Письмо красавицы сожгли – и дружно в ресторацию.
Начальник, мы тебе спасли супружью репутацию.
***
Мучит жажда, и голод – не тетка.
Колокольня в оконце видна.
В мое горло вливается водка,
Будто в Белое море Двина.
Закусил ее кислой капустой,
Зажевал ее рыбкой речной.
Словно карбас в Никольское устье
Входит в рот бутерброд с ветчиной.
Кто на морюшке Белом не плавал,
Тем сравненья мои не близки.
Громкий шепот по залу: «Облава!» -
Как шелоник по водам морским.
Зычный бас: - Попрошу документы! -
Словно боцман на шхуне вскричал.
Убираю салфетку с колен-то,
Чтобы тотчас покинуть причал.
Уходя от облавы-погони,
Я оставил немедленно бар:
На ходу пересек подоконник
Как нагруженный парусник бар.
Не впервой же мне прыгать из окон.
Я фартовый – ребята правы.
И утек переулком-протокой
Капитан соломбальской братвы.
ОРКЕСТР ВОЛЫНЩИКОВ
Оркестр волынщиков заказывали? Нет?!
Милей романс о «ровныя долине»?
Мы вам устроим замечательный концерт,
Блатную музыку сыграем на волынах.
Мы перед публикой немного пошалим,
Истопчем пол – он все равно не мытый.
Ах, вас смущает, что не в юбочках пришли.
Мы ж соломбальцы, дядя, а не содомиты.
Спокойно, публика! Прожуйте блинчики.
Сейчас сыграет вам оркестр волынщиков.
С прищуром светится фонарик газовый.
Плати за музыку, хоть не заказывал.
Прошу простить, мы по-шотландски ни бум-бум,
Зато отлично ботаем по фене.
Чинов полиции мы видели в гробу,
А «Свод законов» даже в медный грош не ценим.
Ответь нам, парень, с чувством, с толком, не части’ –
Ведь ты ж не пулеметчик в Порт-Артуре! –
Где золотишко, где банкноты и часы?
Сдавай-ка ценности – не стой как та стату’я!
Спокойно, публика! Прожуйте блинчики…
Иван в картузе, а Василий в цебаке -
Как не по-божески, не по понятьям!
Мы в ресторане, а не в жалком кабаке.
Снимите шляпы и приступимте к изъятью.
Эй, не отлынивай, волынщик, не волынь –
И где твоя поморская ухватка?..
Тугой бумажник пред тобой, что жирный линь,
На блюде золото – ну как треска на латке.
Спокойно, публика! Прожуйте блинчики…
Уймитесь-то, здесь не теракт и не погром!
Лишь в крайнем случае применим силу:
Как Лев Толстой мой друг орудует пером,
Предпочитая только красные чернила.
Не надо, дедушка, как в юности орать,
Тем паче, крик у вас сродни шипенью.
Мы тоже нервные и можем вам сыграть
Волыной соло похоронный марш Шопена.
Спокойно, публика! Прожуйте блинчики…
Пардон приносим джентльменам и ледя’м,
Иль – как там по-шотландски будет: ле’дям? -
За то, что сделали такой большой бедлам,
В разгаре пиршества вломившись, как медведи.
Для понту выстрелил Степан в стеклянный шкаф -
Салют прощальный дал лихой молодчик.
По люстрам грянуло веселое пиф-паф,
И погрузился зал во мрак осенней ночи.
Спокойно, публика! Прожуйте блинчики…
ОБЫСК
Полдня в дому скрипели половицами.
- Бегом по лестнице, налево вверх!
К нам с обыском нагрянула полиция
Искала вещи, деньги, левольверт.
На улице весна. Набухли почками
Все деревца, что во дворе растут.
А им одно – отдай часы с цепочками.
Весь дом вверх дном они перетрясут.
Буфета створки напоказ распахнуты –
Как извращенец в парке городском.
И обе грядки, и цветник распаханы,
Там сыскари работают ползком.
В моей гостиной понятые топчутся,
А следователь пишет протокол.
- Не брал я кассы страхового общества.
Брульянтов нету, гол я как сокол!
Вы про чего? Какие кольца с перстнями? –
Цежу сквозь зубы, пялясь, как балда.
Мой граммофон, что травит душу песнями,
Разобран до последнего болта.
Вот принесли гостей незваных лешие!
Везде суют свой любопытный нос.
Конфисковали нож для резки хлебушка,
Не бывший в деле заурядный нож.
В моем белье копались эти сволочи,
Вот наизнанку вывернут совик.
Изъят графин с недопитою водочкой
И свернут в трубку грязный половик.
Трудилась тщетно шатия и братия.
Все, что украл, я затолкал в матрац.
А он лежит под дедушкой Савватием,
А у родного дедушки маразм.
Дед с боку на бок нервно заворочался,
Лишь подмигнуло солнце из-за штор.
Вот подошли, спросили имя-отчество.
А он в ответ прошамкал черт те что.
На спину шкаф взвалив, бедняга тащится,
Тот погрузился в нужник с головой.
Но не посмели вы нарушить старческий –
На том спасибо! – дорогой покой.
Полдня возились – ничего не добыли,
Начальник сыска зол, как Сатана:
Зазря вскрывали каблуки у обуви,
И в чемодане нет второго дна.
Гостиный Двор с двумя большими башнями
Уныло проступает сквозь туман…
Они ушли, несолоно хлебавшие.
Скучай по мне, губернская тюрьма!
***
Вот была облава. Фраера кричала: «Браво»!
Брали нас по праву ствола и кулака.
Прихватили Сеньку, что сумел запрятать деньги
В тайник в простенке заместо кошелька.
Ясным утром рано всех подняли, будто краном.
И Равиль Акрамов взят – спаси меня, Иисус!
Тот ширмач-татарин, как мулла свой том Корана
Знал «Уложенье о наказаньях» наизусть.
Прошло два дня, как раскололи Пашку Зуева.
Он на допросе корешей всех скопом сдал.
А на меня дел навалилась туча…черная.
И этим утром я на хату опоздал.
Ох, судьбина злая…Наблюдал из-за угла я,
Как сосед базлает, полиция спешит.
Подлый пес, подельник, чтоб те ку’тило в пердельник,
Вложил, бездельник, всех наших, аж тошнит.
Я тогда дворами, все прознав об этой драме,
Поспешил не к маме, а к старому дружку.
Там на дно залягу, будет брага, водки фляга,
И кокаина раздобуду порошку.
Однажды выпустят на волю Пашку Зуева…
Как только гад перешагнет тюрьмы порог,
В безлюдном темном переулке подожду его.
И сердце труса взрежет острое перо.
САНЬКА ХАБАРОВ
Не к лицу поморам жить в хижине, в каморке,
Не пристало им носить рваные опорки.
Загляденье – над Двиной избы-терема,
Между бревен мох седой словно бахрома.
В краткой жизни наломал я костей и дров.
Невзлюбил меня за то Санька Хабаров.
Перед носом у меня двери на запор:
- Убирайся с глаз долой, вор и бузотер!
В георгинах цветники, доится корова.
Жизнь – малина и лафа Саньке Хабарову.
Я ж карманы фраеров вечером дою,
А потом про те дела песенки пою.
Дали грамоту, медаль Саньке за труды.
Смотрит лоцманский значок из-под бороды.
Зря ль на Северной Двине проводил суда…
Мне ж «наградой» - кандалы, приговор суда.
На столе из хрусталя тонкие бокалы,
Носит бархатный жилет с рыжими «боками».
И играет вечерком новый патефон,
И танцуют под него девки андельфон.
Уважаем и ценим корабельный вож.
Не нарвется он на мель, как купец на нож.
Он уверенно держал весла и штурвал.
Я ж в Архангельском порту матросню шмонал.
Встречусь с родичем своим, Санькой Хабаровым,
Он небрежно оглядит и нахмурит брови.
Чайки розовой ему выпало перо.
У меня ж стальное, чтоб распороть нутро.
У него просторный дом, счастье в доме том.
У меня тюряга и воровской притон.
За порог и от ворот гонит Хабаров,
Мол, архангельский народ – злейший враг воров.
Ох, разжился Хабаров, разжирел, как боров!
Делал вклады – вот богач! – нашему собору.
Он в улыбке скалит рот полумесяцем,
И здоровается с ним полицмейстер сам.
Не на старом корабле шухер и аврал –
Хабаро’вскую избу кто-то обобрал:
Взял с кукушкою часы, кольца, самовар.
Даже шторки на окне вор ночной сорвал.
Хабаров летит ко мне как морская чайка.
- Еле дышит, а кричит: - Братец, выручай-ка!
Помоги мне разыскать кучу барахла,
Что супруга пуще глаз в доме берегла.
Поспешил я к корешам, все перетряхнул.
Саньке через пару дней то, что смог вернул.
Уважа’т меня с тех пор Санька Хабаров:
- Хоть ты вор, а все ж помор и родная кровь!
***
Чиновник департаментский
Ругался не парламенстки,
Он говорил поносные слова:
- Ах, гады, черти, ироды!
Карман мундира вывернут,
Там шарила поморская братва!
Пропали ассигнации,
Казенные, сенатские,
Которые потратить не успел.
Нет, сумма не огроменна…
Еще был ключ от номера.
Чиновничек пыхтел, потел, сопел.
- Письмо лежало Катечки,
Визитка, то есть карточка
От доктора, что триппер исцелял.
Был коробок со спичками,
Открытки неприличные,
А также министерский циркуляр!
В трактире у Минаева,
Дым курева как марево,
Я отдыхал. Карман мой без прорех!
Достойные как рыцари
Служители полиции
Внимали, еле сдерживая смех.
- Пел граммофон, и свет мерцал,
А я пошел проветриться.
Да, видит Бог, чуть-чуточку был пьян.
Прилег соснуть у пристани,
И там меня обчистили.
Тут шепчет пристав: - Знать, Иньков Степан…
…Что ж, мы ребята дошлые,
Хитрющие, дотошные,
И вскрыли столь секретный документ.
А там – образчик тупости,
Насчет борьбы с преступностью.
Ломает бюрократия комедь.
Чиновничек в полиции
Крыл на чем свет провинцию,
Отправил телеграмму в МВД.
Помор не любит питерских
Посланников правительства.
Утоплен циркуляр в двинской воде…
***
Клуб не спит – играют в вист; полицейский слышен свист:
Хулиганов на проспекте нынче ловят.
Ну а к нам явился спец Фридрих Людвигович Пец,
А по-русски, по-простецки Федор Львович.
Он покинул экипаж, он раскрыл свой саквояж,
И в наборе инструментов ручкой шарит.
А потом отмычкой сей деликатно вскроет сейф,
Будто барышню невинности лишает.
Есть кусачки, долото, ножевое полотно,
Дрели, сверла и отвертки всех калибров.
Плюс немецкий педантизм. Был папаша Пец дантист,
Но сынок его стезю другую выбрал.
Медвежатник, не ленись. Ты, как иллюзионист,
Распечатаешь любой замок с секретом.
Дверцу сейфа распахнет, вынет стопочки банкнот
И монеты с государевым портретом.
Снег белей, чем чистый бланк. Но чернее ночи банк.
Тишина и темнота на нервы давят.
Сын Немецкой слободы от куриной слепоты
К счастью общему, конечно, не страдает.
И не зря Степан Иньков, враг запоров и замков,
Уважает медвежатника и ценит.
Если б сам вскрывал замок, наш Степан от пота взмок,
Но не добыл вожделенных пачек денег.
Фридрих Людвигович Пец в этом деле жнец и швец.
Хорошо работать с профессионалом!
Уверяет блатата: даже райские врата,
Если б надобность возникла, то взломал он.
Меткость глаза, ловкость рук. Виртуозно, как хирург,
Потрошит замок и смотрит в лупу Цейса.
Хитроумен, сноровист… За окошком снова свист.
Не до нас сегодня глупым полицейским.
Степа, Ваня и Сашок деньги ссыпали в мешок,
Аккуратно отсчитали долю Пеца.
Преступления следы сын Немецкой слободы
Чистой тряпочкою стер с железной дверцы.
Мелкий сыплется снежок, за спиной висит мешок.
Мы уходим, переулками петляя.
Вот и Троицкий проспект. Пецу, умнице, респект!
На ворованные деньги погуляем!
***
Я шагаю мимо рынка, с тростью длинною в руке.
Хорошо, что есть в кармане финка, и финка Марта в бардаке.
Я гуляю, гордый Вова, и топчу речной песок.
Вот бы стырить у городового из карманчика свисток.
А весенний дождик бойко капал, орошал Гостиный Двор.
Мама-Одесса и Ростов-папа, да Архангельск, дедушка-помор.
Кочегар, чья рожа в саже, важно на берег сошел.
Вот промчался мимо в экипаже мой старинный корешок.
Мы друг другу помахали, как ветвями вязу клен.
На проспекте бронзовый Михайло. Ломоносову – поклон.
Славный город вырос на болоте: с севера – море, с юга – бор.
Питер – дядя, а Москва нам тетя, да Архангельск – дедушка-помор.
С нашей барышней в обнимку ходит англицкий матрос.
А в моих карманах ствол и финка да в руке играет трость.
Мне бы даму взять под локоть, вдоль реки пройтись вот так.
За спиною слышен громкий цокот, брань и щелканье кнута.
Не страшна Сибирь, ребята. Как известно с давних пор:
Омск и Томск – двоюродные братья, да Архангельск – дедушка-помор.
Вот и снова рыбный рынок. Ну и запах-аромат!
С корабля несутся звоны рынды, боцманяги ярый мат.
Год назад ушел от пирса мореплаватель Седов.
На Поморской публика толпится, гости с разных городов.
Я куплю поморский пряник, да кулебяку – трескоед!
Вологда-бабушка, Котлас нам – племянник, Вардё – добрый друг-сосед.
***
По Набережной шел я, пальто на мне надето,
Еще парик шатена и борода брюнета.
Я тросточкой разжился, пенсне на нос для понта.
«Привет!» - кричат мне чайки Архангельского порта.
Царь Петр Алексеич, торчащий над водою.
Башку мне оторвал бы совместно с бородою.
Когда б назад лет двести на деле меня сцапал,
Палач его за кражи десницу бы оттяпал.
Свернул я на Поморской и постучался в лавку.
- Не видишь, что ль - закрыто? – приказчик шавкой тявкнул.
Но мой наган увидев, согнулся он в поклоне:
«Извольте», «проходите» – пардоны на пардоне.
Ввалился в лавку нагло, как настоящий ухарь.
А мой напарник Ваня привычно встал на шухер.
Приказчик, знай, трясется, мне под ноги бросая
Горжетки, лисьи муфты, манто из горностая.
Свой саквояж наполнил я ценною пушниной.
А тот скользнул к конторке. – Спокойно! Стоп, машина!
Извлек из секретера я пистолет евонный
И финкой перерезал я провод телефонный.
В полиции узнали особые приметы:
Шатенские кудряшки и борода брюнета.
А я смеялся долго и выкинул в Двину я
Парик свой темно-рыжий, бородку накладную.
КОШЕЛЬКОВЫЙ ЛОВ
От трактира отчалил извозчик,
Богачей по домам развозить.
Мы к тебе, ценный кладезь-источник,
Регулярно наносим визит.
Там в окне – абажуры-тюльпаны,
И на вывеске – кит-кашалот.
Подышать вышел воздухом пьяный.
А в кармане его – кошелек!
Афанасий, Ванюха и Лева,
Мы не просто пришли погостить.
Мастера кошелькового лова,
Хоть не любим моря бороздить.
Был наш пращур ушкуйник-ватажник,
Смело брал все, что в руки плывет.
Ловкость рук - и буржуйский бумажник
Друг Ванюха в кармашек кладет.
Мы не ходим на промыслы. Проще
Сухопутная ловля парней.
Есть бумажники палтуса площе,
А другие трещочки жирней.
Попадались такие, что тоньше
Самой мелкой речной камбалы.
Этот маленький, легкий и тощий,
Тот – увесистый как кандалы.
КОРЧМА
Моя судьба – этапы да тюрьма,
А все за то, что через край хватил.
Когда б не эта чертова корчма,
То я сейчас на воле бы ходил.
А мы в корчме сидели придорожной,
Где за окном негромкий скрип телег.
Она – приют каликам перехожим,
Отрада пьяниц и калек.
Стоит полумрак от потертых штор,
Сквозь дыры в шторах – солнышка лучи.
А на столе у нас пузатый штоф,
Телятина, капуста, калачи.
И тут к столу подходит некто наглый,
Вслед за которым семенит второй.
А у обеих бороды как пакли.
И злые, черти – только тронь.
Один пропитым голосом сипит:
- Освободите место за столом.
Второй варнак гундосит и скрипит,
И смотрит как бывалый костолом.
А я ему: - Местов на всех хватает.
Поди, присядь, мужик, вон в том углу.
Вы от какой отбилися ватаги?
А друг поддакивал: – Угу!
Сиплоголосый друга хвать за грудь,
И норовит от стула оторвать.
А мой дружок горазд подковы гнуть
И кулачищем по лбу его – хвать!
А тот второй – чернявый, нос-картошка,
Кому бы доски голосом пилить.
Откинув лихо полу макинтоша,
Из револьвера палить.
Пошел по зале дым пороховой,
Как в Порт-Артуре – я не стану врать.
Забился под прилавок половой,
И стал кабатчик фараонов звать.
Мой друг Сергей был пулею ужален,
Рассечена его густая бровь.
Как бык взревел Серега-устюжанин
И на врага обрушил штоф.
Очнулся первый – на меня попер
И прохрипел: - Уйди, ядрена вошь!
Ах, мне бы в руки взять сейчас топор
Или метнуть в него столовый нож.
Передо мной шатается, маячит,
Расставив ноги, словно буква «аз».
И я ногой тяжелою телячьей
Детине врезал между глаз.
Когда варнак свалился, то виском
Он угодил случайно в край стола.
Нет, я с убитым прежде не знаком,
И наша встреча роковой была.
Второй лежит – увечен и ужасен,
Кровавой кашей стала голова.
Благим-то матом друг мой, устюжанин,
Вопил, очухавшись едва.
Нет, не было свидетелей у нас,
Народец разбежался при стрельбе.
Затих детина, взор его угас.
И друг дрожит, и мне не по себе.
А в результате так построил факты,
В своих речах лукавый прокурор,
Что я в цепях влачусь теперь по тракту
К востоку от Уральских гор.
***
Поутру покров туманца распластался на воде.
Безмятежно спят германцы во Немецкой слободе.
Там похрапывает сладко Генрих Линдман, фабрикант.
Мне не Бог, так бес поможет, а не бес, так адвокат.
Я покой не потревожу иноземной слободы.
Я перчатки надеваю, не оставить чтоб следы.
У меня отмычек связка, штучек с двадцать – красота!
Если надо, отопру я даже райские врата.
Точно знаю, где червонцы и где камушки лежат.
Зря ли горничную Глашу вечерами тискал-жал?
А потом дарил конфекты, монпасье и марципан.
Я сообщницу не выдам – не таков Иньков Степан.
Было время, я рыбачил, но с котляною порвал.
Все равно хотелось в море, где шумит девятый вал.
Будто в ро’манах пираты взял суденышко с треской.
Было совестно порато, но улов зато какой!
А теперь тружусь на суше, это дело по нутру.
Коль идет война с германцем, надо чистить немчуру.
Расплатись, за то, что кайзер, хрыч усатый, обнаглел.
Ведь не зря я взял отмычки и перчаточки надел.
Ах, у Генриха бумажник – ладно скроен, крепко сшит.
Вдруг в окно сосед заметил, всем известный доктор Шмидт.
Он рванулся к телефону, жонка – звать городовых.
Как вороны фараоны налетели, бьют под дых.
Объяснял потом в участке: - Я – российский патриот!
А мне следователь фигу: - Ты - урод и обормот!
Патриоты – кто на фронте кровь в борьбе с германцем льет.
А тебя в Сибирь отправят проливать вонючий пот.
ТАНЕЧКА
От Кузнечихи и до Смольного Буяна
Народ наслышан о достоинствах Татьяны.
И по Соломбале о ней летела слава.
И слаще не было в Архангельске шалавы.
Спешили воры к ней, и вслед городовые,
И шли рабочие весьма передовые,
Назло полиции готовые опять
На забастовку лесопильщиков поднять.
Их всех обслуживала Танечка за плату:
Таможню, банки и судебную палату.
И заходивший в порт норвежский капитан
К Танюшке издавна симпатию питал.
Купцы, промышленники, русские и немцы.
И попадались средь клиентов извращенцы.
Один такой к ней в номера вошел с хлыстом,
И, бит Танюшкою, потом лежал пластом.
Братве архангельской сказал домушник Леша:
- Она деньжата зарабатывала лежа,
Пока работницы стояли у станка,
Чтоб прокормить старушку-маму и сынка.
Когда пришли большевики в году двадцатом,
Бандершу сбросили решительно с крыльца-то.
За сутенерство сел Карбасников Потап,
И Мойша Либман был отправлен на этап.
В цвет фонаря надела Танечка косынку,
У ней теперь все пролетарки на посылках.
Она возглавила рабочий женсовет,
И просто так к ней не залезешь под корсет.
Бандерша чалится на нарах в крае Коми.
А нашу Таню часто видели в райкоме.
Партийцы тоже ведь, в натуре, мужики.
Ей за любовь дают пайки большевики.
***
Пожрала тьма ночная заката киноварь.
Лишь светит, зазывает багряный глаз-фонарь.
Да свищет, завывает на улице метель.
Явились делегаты в архангельский бордель.
Как фонари алеют их красные банты:
Товарищ из губкома, чекисты и менты,
Посланец ледокола, отчаянный матрос,
Золотаря Николу направил горкомхоз.
Сергей и Афанасий, водители машин,
И три оленевода из северных меньшинств.
- Приветствуем работниц постельного труда.
Сбежала с беляками в Норвегию мадам.
Готовьтесь новой власти по-старому служить.
По вызову партийцев уважить-ублажить.
Как пишут в старых книжках, покровы совлеки…
А если нет – в два счета пошлем на Соловки.
***
На вокзале Новониколаевск,
Где в три слоя семечки лежат,
Где галдеж и визг пушистых лаек,
Можно много раздобыть деньжат.
И в карман залезть, и стибрить узел
На вокзале – минимален риск.
Город расцветет при краснопузых,
Назовут его Новосибирск.
Там мелькали шапки, шубки, бурки,
Соболей меха и черных лис.
В этот день со всей Сибири урки
На совет в шалмане собрались.
Шел у них дележ в питейном зале,
Сто голов набилось в тот шалман.
Сашка Талагай из-под Рязани,
Из Одессы Хаим Шнейдерман.
Там домушник был Демьян Уральский,
С ним поморский вор Степан Иньков –
Все, кто революцией февральской
Вызволен из темных рудников.
Отвыкали парни от баланды,
Вспоминали вкус былой жратвы,
И блатные горькие баллады
Выжимали слезы из братвы.
Речь держал Ерема Красноярский,
Он в авторитете у блатных.
Говорит браткам с акцентом барским,
Медленно, не гонит вороных.
- При царе нам было не до жиру…
Хватит под гитару сопли лить!
На Транссибе много пассажиров,
Нам дорогу надо поделить.
Пусть имеет Прошка Якутянин
Все, что от Иркутска до Читы.
Старый вор, умен, что твой Потанин. -
Карту взял – участок отчертил.
Целый час совет делил дорогу,
Тыщи верст и необъятный край
От Урала к Дальнему Востоку,
Захватив частично и Китай.
Поглотив два тазика пельменей,
Поднял голос наш Иньков Степан:
- Мне б кусок от Омска до Тюмени,
Я бы пассажиров пощипал.
Близок мне любой сибирский город.
В детстве мы с товарищем прочли,
Что во время оно от поморов
Вы, сибиряки, произошли.
Во главе стола сидел вальяжно
Еремей-чалдон как Чайльд Гарольд,
Утирал лицо салфеткой влажной
И глядел на воровской народ.
Лыбится Ерема полупьяный,
Будто получил мильонный чек:
- Да и я слыхал: от обезьяны
Происходит древний человек.
Не стерпел Степан такую грубость:
- Замолчи, паршивый фармазон!
Родич мой ходил на остров Грумант,
Где прожил шесть лет как Робинзон.
Еремей ответил – прям и резок,
В голосе его звенел металл:
- Что с того? И мой далекий предок
Шесть годов на каторге мотал.
Взвился тут Иньков. - Проси прощенья! –
Прохрипел этапов пассажир.
В Еремея плюнул с отвращеньем
И сверкнули острые ножи.
Стал шалман вокзальный полем бранным,
Только вот не слышен клич «ура».
Загремели выстрелы над баном,
Спрятались в испуге фраера.
И, крутясь по залу в ритме вальса
(У борьбы на ножиках свой стиль),
На перо Степана враг нарвался –
Наш помор за предков отмстил.
Кровь в виски – как в бубны бьют шаманы.
Выдохнул Степан: - Дружок, налей…
Утекали урки из шалмана
От красногвардейских патрулей.
Разорвав туманную завесу,
И, раскрасив пихты серебром,
Полная луна взошла над лесом,
Старым николаевским рублем.
Поезд от перрона, скрипнув, трогал,
Гулко прогудел железный змей.
- Я вернусь в Архангельск, где дорога
Скоро станет полностью моей.
***
Позади Сибирь, тайга – тёрн дорогу вымостил -
Тяжкий труд на руднике, мука без конца.
Здравствуй, милый уголок: церковь, дом терпимости,
Двухэтажный особняк старого купца.
Деревянные столбы с фонарями тусклыми.
Ветер с моря, ты меня крепко закалял.
Подметает сиверок улицу Французскую.
Больше некому мести – дворник загулял.
Здесь торговки голосят, смотрятся матрешками.
Горожанам продают семгу да треску.
Угостили пирожком, брагою морошковой
И плеснули напослед терпкого кваску.
Вот и дом мой. Огонек лампы керосиновой
Отразился, заблистал в фиксе золотой.
Выходила из сеней матушка с корзинами.
На пороге обмерла… – Здравствуй, сын я твой!
Обняла и провела в светлую гостиную.
А сама-то вся в слезах – сколько лет ждала.
Осень смотрится в окно робкими осинами.
- Жаль, отец-то не дожил. А я дожила!
Безмятежно полежу на большой кровати я.
А потом пойду друзей созывать на пир.
Со стены глядит портрет дедушки Савватия:
Бородища, строгий взгляд, лоцманский мундир.
***
Часы Буре с цепочками украсили жилетки,
Торчат в карманах брючных рукояти волын.
В Архангельск едут жулики по Северной железке,
А вдоль пути мелькают елок, сосен стволы.
Удрала власть Советская за станцию Плесецкую,
И самым первым – Кедров, большевик-комиссар.
К буржуям и буржуйкам спешат былые жулики,
Кто фраерам карманы тонкой бритвой кромсал.
Теперь взамен арестов, изъятий, контрибуций –
Налеты на квартиры и банальный гоп-стоп.
Вагончики как души обывателей трясутся.
Состав с локомотивом пустился в галоп.
Не спрячете в кармашки вы пузатые бумажники.
Грабители, налетчики добрались-то к вам.
Домушник из-под Емецка и медвежатник немец-то,
И краденого сбытчик соломбалец Иван.
***
Евгений Карлыч Миллер нынче зол.
Твердит он: «Контрразведке – стыд-позор!
Как партизаны шарят по тылам,
Так шастают бандюги по углам».
- Три дня назад! – он громко прокричал. –
Раздели на причале англичан.
Мне высказал полковник Айронсайд:
Нельзя в беде союзников бросать.
Вчера нашли двух унтерских чинов,
Без обуви и новеньких штанов.
Записки там торчат из-под погон:
«Верну портки в обмен на самогон».
Евгений Карлыч Миллер нынче зол.
Он долго кулаком стучал об стол.
Полез в карман, чтоб глянуть на «бока»…
Извлек записку: «Генерал, пока!»
СЕЙФ
Заколыхалась шторка будто шлейф,
Что тянется за молодой невестой.
Увидел я в окно массивный сейф
И в сторону отбросил занавеску.
Чрез подоконник вмиг перемахнул
И подмогнул соратникам подняться.
Я караул удачно обманул.
Теперь пора удачу брать за яйца.
Дежурный спит – Гоморра и Содом!
Сопит и переваривает ужин.
Военным пахнет полевым судом
Такое нерадение по службе.
Пусть медвежатник Женька отомкнет
Затейливый замок и хитроумный.
Как наслажусь я шелестом банкнот:
Вместителен сей сейф как брюхо трюма!
Не надо контрразведкою пугать
Народ бывалый, ловкий и ученый.
Ах, мне б авто у Миллера угнать -
Катать по Петроградскому девчонок.
Открыли сейф – со скрипом, кое-как.
Увы и ах… Где касса батальона?
Початая бутылка коньяка
Да ржавый хвост селедочки соленой.
Растаявший французский шоколад
И розовая дамская помада.
Еще перчатки, в коих щеголять
Так любит высший свет родного града.
А денег нет! Ну, хоть бы медный грош…
Коньяк стоит, но нет желанья выпить.
Опять у белых - молния и гром! –
Задержка месячных…ну то есть выплат!
Закашлялся дежурный… Я пропал!
Назад, в окошко! Прыгаем в крыжовник!
На нужды белой гвардии Степан
Оставил в сейфе личные «моржовки».
За нами крики, топот, стук подков.
Пиф-паф – и чайки взмыли над водою.
Эх, зря деньжата внес Степан Иньков
На ваше дело белое, святое.
Но даже если арестуют нас,
Решать судьбу доверят строгим судьям,
Простят, надеюсь, пару взятых касс
И не отправят на проклятый Мудьюг.
Полсотни краж имея на счету,
Я обижать не смею бедных ближних.
Мне горько видеть вашу нищету.
Бери, боец, Степановы рублишки!
***
Весь поставлен город на уши.
Слухи-кружева плетут.
Беляки еще вчера ушли,
Завтра красные придут.
Затворяй-ка ставни,
Запирай калитки.
Нам – добыча славна,
А для вас – убытки.
Флаг не буду шить с друзьями, нет,
Из атласов и шелков.
На дела пойдем под знаменем
Цвета ваших кошельков.
Словно Стенька Разин,
Клич «Сарынь на кичку»,
Средь дорожной грязи
Остановим бричку.
Захватили город
Как пираты гичку.
Что замки, запоры?
Есть у нас отмычки!
***
Глядит братва, как тучки плавают
Среди простора русских неб.
Спасибо дядюшке картавому
За то, что ввел в России НЭП.
Большевики мозги нам парили:
Мол, к коммунизму будь готов.
Что было красть у пролетария,
Ну, кроме гаек и болтов?
Как казака лихого степь манит,
Нас завлекает ресторан.
Сидят там пьяненькие нэпманы
С гостями зарубежных стран.
А для простого населения
Мы не враги - как кошке рысь.
И за товарища за Ленина
Готовы контре глотки грызть.
Так говорим: - Спасибо, батенька,
Что ты, не ради праздных слов,
Вновь на Руси развел богатеньких,
И есть грабителям улов.
Шлем телеграмму-поздравление:
Будь весел, счастлив и здоров.
Привет вождю народа Ленину
От всех архангельских воров.
ШУБА
Было дело осенью. Помнят кореша:
- У норвежца Ольсена шуба хороша.
Продадим – не спросим, и - в кабаки гулять!
Неча теплой осенью в шубе щеголять.
Складно сказка бается: лежа на спине
Скандинав валяется русака пьяней.
Ароматы пряные (рядом ресторан).
И раздели пьяного Ванька да Степан.
С этой шубой – к скупщику, чтоб ее продать.
А паскуда в Губчеку пригрозил нас сдать:
- Рухлядь! Молью тронуты оба рукава.
Разошелся – гонор-то, наглость какова!
Ахает и окает…Ствол – из кобуры,
Тычу дуло в бок ему, говорю: - Бери!
Три-то дня мы плавали в морюшке вина.
А потом легавые повязали нас.
Мол, из-за тулупчика был большой атас.
Задержали скупщика – показал на вас.
С ног сбиваясь, бегали – вот звезда и крест!
От посла Норвегии к нам пришел протест.
Дескать, в назидание ихний херр премьер.
Отзовет признание Союза ССР.
Чешут руки потные: - Ваше дело – швах.
Иностранных подданных грабит только враг.
Тут ребром адамовым встал вопрос для нас.
От житейской драмы вам сильный резонанс.
Не рублишки-фантики вам в ладошках мять.
Шубы на фуфаечки предстоит менять.
***
Лежали мирно бошки на подушках.
Вставал рассвет над лесом, желто-розов.
Но, как из пушки, грянул грохот в дверь избушки:
- Откройте, падлы, уголовный розыск!
Еще туман висел над сонным Илесом,
Среди стволов, корявых и замшелых.
А что нам дверь? Мы через крышу вылезли,
И прыг в кусты, чтоб дружно ноги сделать.
И по качающимся кочкам,
Как по архангельским мосточкам,
Под ноги глядя, не дай бог провалиться.
Так убегали мы порою, еще при буржуазном строе,
Прочь от полиции, чтоб не спалиться.
Уверен я – не словят, не посадят,
На дно заляжем – ввек не докопаться.
Не заведи нас, Степа, в топи, как Сусанин.
А выводи нас к свету, яко пастырь.
Куда ни глянь – все поросло черникою,
Эх, прогуляться б не спеша, с лукошком.
Здесь только птицы весело чирикают,
Да смотрит с елки рысь, лесная кошка.
И по качающимся кочкам…
Гроза окраин, воры, хулиганы,
До баб охочи и до бабок падки.
Нас не затравишь злобной сворою легавых –
Ведь мы не зайцы и не куропатки.
В душе звенят, поют гитары струнки,
А в голове шумит как на вокзале.
Вот, наконец, добрались до чугунки.
А там, на юг – и поминай, как звали.
И пусть качаются вагоны,
Не слышно гомона погони.
А если шухер – все кубарем под насыпь.
Так убегали мы порою, еще при буржуазном строе.
Под сень тайги, вдаль от железной трассы.
***
Разоблачив бандитские уловки,
На Соловки отправив свой «улов»,
Спокойно спал начальник уголовки,
Что снес немало удалых голов.
Но пробудился гражданин начальник
И бо’рзая легавая орда.
Теперь на службе вряд ли заскучаешь –
У всех ментов тяжелая страда.
Взошла крутая молодая поросль
На криминальном поле как бурьян.
Ползет, крадется как удав и полоз,
Бросается, как тигр на обезьян.
И вот уже с архангельских окраин,
Насквозь пропавших спиртом и треской,
Слышны средь белой ночи крики «Грабят!»
И громкий милицейский посвист «Стой!»
В одной пижаме выскочив из спальни,
Покинув свой продавленный матрас,
Бежит на службу гражданин начальник,
Как ломовой извозчик матерясь.
И говорит, мозгами пораскинув,
От частых недосыпов бледно-сер:
- Не чтят юнцы законы воровские,
Не только что закон СССР.
А дождичек накрапывает нудный,
Тоскливый, словно песни блатарей.
Начальник говорит: - Пора вернуть бы
Бывалую братву из лагерей.
Мне надоела эта жизнь порато!
Давай назад матерых паханов,
Чтоб навести в Архангельске порядок
И приструнить нахальных пацанов.
НОЖИК
Лежит в кармане ножичек складной,
Отточенное лезвие.
Тобой, товарищ остренький, стальной,
Играю бойко, резво я.
Едва услышит фраер громкий «щелк»,
С овчинку небо кажется.
И отдает свой пухлый кошелек,
Снимает перстень с камушком.
Нет, с потрохами нож мой не знаком
И с мышцею сердечною.
При форс-мажоре токмо кулаком
Я наношу увечия.
Поверят прокурор, судья и мент,
Зачтется на том свете им.
Здесь лишь психологический момент,
То подтвердят свидетели.
Быть может, мне скостят с семи до двух.
А вдруг дадут условное?
Я просто брал сограждан на испуг,
Ведь дело-то бескровное.
Вояка ходит с шашкой наградной –
Внушительное лезвие.
А у меня друг – ножичек складной,
За ним в карман полезу я.
Да что там нож – всего-то сувенир,
Он страшен только олухам.
Перо увидев, Коган-ювелир
Тотчас расстался с золотом.
Под перезвон, мотив шальной, блатной,
Я забавляюсь лезвием.
Тобой, товарищ остренький, складной,
Прохожих резать брезгую.
***
На лужайке бродят козы, дом с изящной резьбой.
За «малиною» - малинник, невысокий забор.
Сколько нам отмерит кодекс за грабеж и разбой?
Из кустов кричит легавый: «Брось оружие, вор».
Храпят у коновязи лошади… А помнишь Ваську, что из Лопшеньги?
Как уходил, петляя, ухарь, сквозь кусты.
Сидел, черпал сметану ложками да лопал шаньги.
Но лишь нутром почует шухер – и уже след простыл.
Акробатом по стропилам я – и с крыши в репей.
Перепрыгивая грядки, через двор в темный лес.
Но пуля ногу зацепила. А вслед нам дед Еремей
Кричит: «Спасетесь, мол, ребятки – вот вам истинный крест!»
А что, ей-богу, пуле-дуре. Простой кусок свинца, в натуре,
Слепой, тупой… Вот острый нож – молодец.
Ментам покажем наши дули – мы их надули!
Так прозябай в участке, «мусор», и соси леденец.
Мама рано умерла-то, брат на каторге сгнил.
А судьба меня бросала через борт как балласт.
И хромее Тамерлана я бреду, свет не мил.
Мне в дремучих дебрях воля, в городах – кабала.
А были годы: при царе я как благородный сокол реял.
Ловили тщетно и в капкан, и в силки.
Поклон защитнику-еврею да немцу-брадобрею,
Что сбывал часы и кольца, теперь попал в Соловки.
Угощали бабки щами, на дорогу – пирог.
Я для них несчастный грешник, а не конченый вор.
Перевез меня дощаник, переправил паром,
Ковылял я сквозь болото, шкандыбал через бор.
И у кострища ногу голую я тыкал острою иголкою,
В крови запачкался да пулю извлек.
Потом лакал из фляжки горькую на пару с Колькою.
И с голодухи мы сожрали сыроежек кулек.
***
Здравствуй, дорогая! Я живой, хотя больной.
Десять лет неволи мне виски посеребрили.
В Соловках томился и мотался по Сибири.
Топал по этапам белоснежной целиной.
А еще в Карелии копал я тот канал.
Пролетарским молотом меня перековали.
И вилась стезя моя кривая-роковая,
Спотыкаясь на ухабах, я по ней канал.
Лататы, бывало, задавала блатата,
Операм оставив всевозможные улики.
Прятались, как в раковину скользкие улитки,
В избы потаенные, в лесную благодать.
Прошлое полно забав, немало знал шалав.
Но приличных дам не домогался, как маньяки.
…Вот прибрел в село родное: Троица без глав,
Посадили батюшку злодеи-коммуняки.
Улетают кулики, вслед за журавлиным клином.
Опадают листья, словно мятые хрусты.
Калина-малина, были Таньки, Акулины…
За грехи былые мужа блудного прости.
Сколько ж мной даровано ворованных вещиц.
Да не задавалась ты вопросами: откуда
Кузнецовской фабрики изящная посуда,
Золото и камушки, богач, ищи-свищи…
Я на дно ложился как, бывало, камбала.
Но как глупая селедка попадался в сети.
Гнали жизненной дорогой приговоров плети.
Душу в семи водах не отмоешь добела.
Жизнь перелистаешь, будто книжку – то ли было.
Но умчалось счастье, словно северный олень.
Я проголодался, приготовь ведро пельмень,
Ты в былые годы так чудесно их лепила…
***
С детства жизнь не задалась: папа сгинул на море,
От чахотки матушка вскоре померла.
А я в город укатил. Нынче маюсь в камере.
За окном решетчатым – ветер, стужа, мгла.
Зимнегорцам, землякам ставил я отвальную.
На гроши последние угощал-поил.
А потом пилил доску на заводе Вальнева,
Сколько ели да сосны по’том окропил!
Управляющий, стервец, все меня обсчитывал,
Часто за провинности, падла, штрафовал.
Ни к чему такая жизнь. Мы не лыком шитые.
С лесопилкой чертовой я тогда порвал.
А без денег никуда. Чтоб не пухнуть с голоду,
Я примкнул к компании шустрой, деловой.
Помню первый опыт свой: и карман распоротый,
И свистящий соловьем вслед городовой.
Деньги весело пришли и печально плакали:
Что дается нам легко, то легко уйдет.
Ту добычу в «Золотом» прокутили «Якоре»,
Где гундосит музыкант в трубку как удод.
Вереницею кошельки, портмоне да сумочки.
Что пропил, что проиграл – вот и весь итог.
Рестораны, кабаки, девочки да рюмочки.
И сгорел на пустяке. Так-то вот, браток.
Осень, ярмарка гудит, все купчишки на торгу.
Мне ж баланда, кандалы, суд и прокурор.
Рассудили за три дня, присудили: каторгу.
Сел надолго зимогор, Васька с Зимних гор.
Не гнушавшийся в делах никакой валютою,
Полчервонца отмотал в старом руднике.
Вдруг, как на голову снег, грянет революция,
И амнистия у нас, почитай, в руке.
Ссыльный польский бунтовщик веры католической
Вышел первым, а за ним – Сеня-анархист.
А потом еще пяток прочих политических,
И скопец Елпифидор, и Ванятка, хлыст.
Ну а мне? Опять Сибирь – дикая, холодная?
Бьюсь о нары головой, власти – хоть бы хны.
«Извините, говорят, дело уголовное,
Красный цвет ему придать не хватает хны!»
Через месяц утрясли. Доказал в комиссии
(Вся из бывших каторжан, сопли не жует):
- Кспропиратор – не бандит, крест вам, братцы, истинный.
Я не трогал бедняков – только буржуёв.
Добирался не спеша с Нерчинска к Архангельску,
У сограждан по пути тырил кошельки.
В белом городе полно офицеров англицких.
Морды сытые, в усах – чисто кошаки!
Я не в рыло кулаком, не словами бранными –
Иноземец, хоть и пьян, все же – офицер.
Деликатно отобрал и «бока», и браунинг,
Уложил под деревом: спите, мистер-сэр.
Ну и власть у беляков: схватят – не помилуют!
Вот облава и арест в ресторане «Бар».
Мое дело принесли генералу Миллеру.
«Нет пощады, - говорит, - тем, кто грабит бар!».
Приговор читал судья, по-поморски окая.
Постановлено опять в каторгу сослать.
Из архангельской тюрьмы на этап в Иоканьгу.
Через год на Севере поменялась власть.
- Да, тюрьма не пансион и не корпус пажеский,
Понимаю, - говорил красный комиссар. –
«Грабь награбленное», мол – это лозунг нашенский.
И, не глядя, большевик справку подписал.
Думал, сладко буду жить я под комиссарами.
В соломбальских кабаках лихо зависал.
Как закончились рубли – взялся вновь за старое.
И в трактире меня брал…тот же комиссар.
Беломорская волна балуется с лодками.
Эх, сумели краснюки кашу заварить!
Отправляют в Соловки – только не паломником,
За разбои-грабежи елочки валить.
***
Он не хранил на счастие подков,
И принял смерть, когда пришла пора.
От Воркуты до Соловков, где срок мотал Степан Иньков
Сыщи могилу неизвестного вора’.
Погиб ли он в разборке роковой,
На острый нож нарвался в передряге,
Иль в снег уткнулся головой, когда сразил его конвой
В момент рывка, как вальдшнепа на тяге.
Степан Иньков не хныкал, не стонал,
Не лил слезу как небо в непогоду.
Быть может, Беломорканал его здоровье доконал,
Хоть и крепка поморская порода.
Степан Иньков подбадривал зека,
Который падал телом или духом.
Последний хлеб из узелка он отдавал наверняка.
И в лагерях был самым верным другом.
Он не подвел братву под монастырь
(Под бывший Соловецкий). Жизнь как сказка.
Он не шестерка и не шнырь, он наш былинный богатырь.
Степан в натуре жил порато баско.
ПАТЕФОН
В кабаке романс печальный патефон
Из заезженной пластинки выжимал.
Тусклый свет ронял на столики плафон,
А народ на грудь по двести принимал.
Пусть покажется банальным, жизнь – игра,
Хоть звучит высокопарно, жизнь – река.
Повторяла патефонная игла,
Запинаясь, заикаясь изредка.
Кто-то сиплый, рот как будто пересох.
Старомодно и уныло пел про сны.
Голосок как над рекою парусок
Без живительного ветра взял и сник.
Лучше б спел хрипатый голос про братков,
Тех, что от родного дома вдалеке,
Избавляясь по дороге от оков,
Уходили от погони по тайге.
Спой про то, как друг мой верный в пять секунд
Заскочил на подоконник – и в окно.
Он бежал – пусть судьи время засекут –
На ходу паля из «пушки», как в кино.
В сумраке плафон мигает – глаз-алмаз.
Лучше б выбить меткой пулей этот глаз.
Из пластинки надоедливый романс
Выскребает патефонная игла.
Свидетельство о публикации №118050302613
