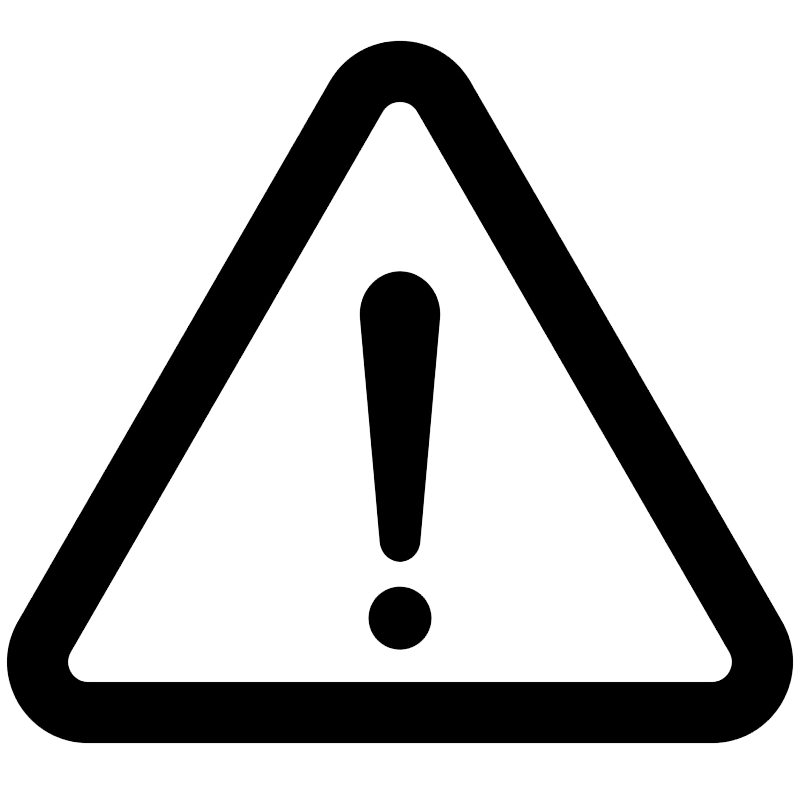
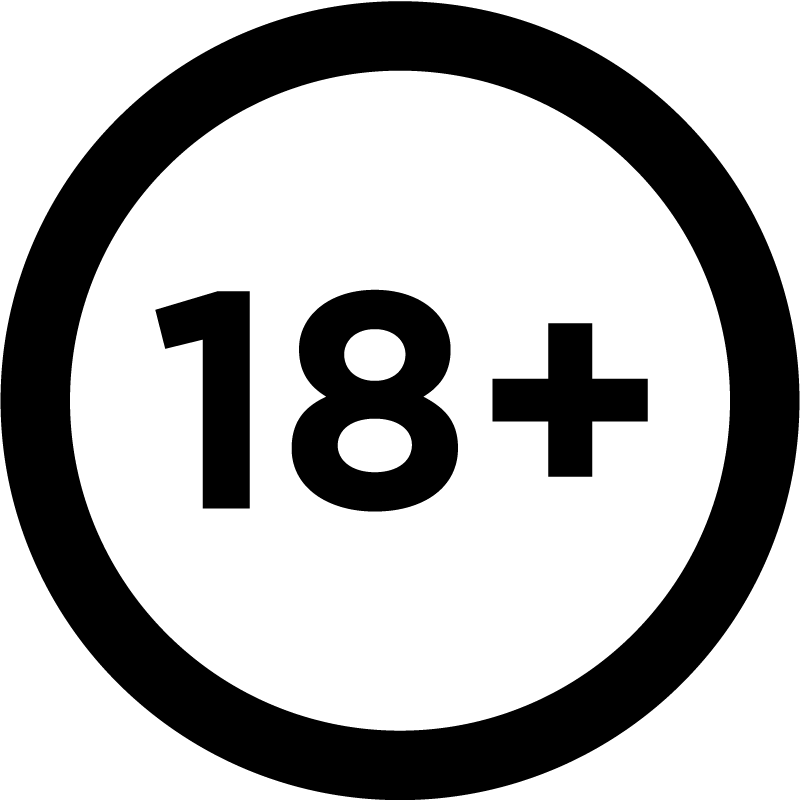 Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Маловеры - роман
Глава1
С утра жизнь показалась Тимохе несносной. Но только первые два часа тяжелого похмельного перехода от сна к яви. Голова и все тело ныли и гудели, будто Тимоха всю ночь простоял телеграфным столбом возле деревенского магазина. Затекшие ноги едва шевелились, руки крутило и корежило, особенно в плечах. Мелькнула даже мысль о том, что к плечам ночью были прикручены провода, потому-то им больше всего и досталось.
Несмотря на всякие глупые такие мысли, которые Тимоха ловко ловил за хвосты и, распознав в них опасных шпионов и врагов, расшвыривал по промерзшим углам нетопленой избы, поеживаясь и поругиваясь, иногда попадались и умные мыслишки. Второпях он чуть не отбросил одну такую. Вспомнил, что оставил за сараем недопитую бутылку самогонки, поначалу отмахнулся, поскольку бутылки он обычно допивает, — но потом засомневался, присел на краешек стула и пригрел ладонями голову, чтобы оживить память. И чем больше он ее грел, тем теплее и веселее становилось на душе — думает, все ж еще голова, работает.
Тимоха вспомнил о некормленых козах и поросенке и почти протрезвел. Он удивленно осмотрел старые обои в голубой цветочек, кое-где отставшие от стен, поднялся со стула и осторожно включил радио, чтобы узнать, какое на дворе число. Мимоходом увидев в туманном зеркале чужое опухшее лицо, испуганно шарахнулся, но потом узнал себя и тупо уставился в отражение. Долго прислушивался, к цифрам и словам, которые кто-то диктовал ему по радио, но так и не понял, о чем речь и для чего она. Досадливо поморщившись, побрел на негнущихся ногах в сарай за дровами.
На улице Тимоха первым делом отыскал за сараем недопитую бутылку, булькнул жадно и поспешно несколько раз мутной ледяной жидкостью, закашлялся, отбросил пустую бутылку за навозную кучу и процедил сквозь зубы хрипло и зло: «Гадость…»
Потом он медленно наклонился, наложил на руку из поленницы мерзлых, гулких березовых кругляшей, и вразвалку зашагал к крыльцу. Шумно бросив их возле печки, он внезапно вспомнил, что накануне должен был наступить Новый год. Но вот когда был тот канун, забыл. И был ли праздник уже, или еще только будет, Тимоха тоже не знал. На душе стало как-то вязко и неловко, будто он натворил что-то стыдное в деревне, а может даже ходил голый по чужим домам, и теперь ничего не помнит.
Тимоха включил телевизор. В нем, как обычно пели разные девицы: некоторые с усами, некоторые — без усов, а которые — и без грудей вовсе. Тимоха с интересом уставился на одну, долго и внимательно слушал песню, сделав умное лицо, но потом вдруг обнаружил, что это не девица вовсе, и яростно плюнул под ноги.
В желудке с похмелья было неуютно и холодно. От писклявого голоса и пухлых губ артиста Тимоху замутило по-настоящему, и он с глухим ревом выскочил на улицу, где его долго и мучительно рвало за углом дома.
Исстрадавшись и освободив себя от недавно выпитых глотков самогонки, Тимоха, трясясь всем телом и хватая исчезающий воздух воспаленными губами, уселся на едва заметную под шапкой снега лавочку. Собирая пригоршнями колючий снег, он прикладывал его к слезящимся тусклым глазам, к разгоряченному лбу, пихал в вялый род и жевал медленно и старательно, будто бы это были комья жвачки.
Судя по всему, запой у Тимохи получился отменный, и теперь дня три отлетевшая в страхе душа будет кружить вокруг зловонного тела, боясь возвращаться в оскверненный, заброшенный дом.
Тимоха съежился, втянул голову в плечи, и бездушный, пустой дом его тела обмяк, сник, как проколотый резиновый мячик. За сорок лет жизни никогда еще не было Тимохе так тошно.
«Повеситься, что ли?»— тоскливо подумал он. Равнодушная такая мысль оказалась прилипчивой. Тимоха наморщил лоб, вспоминая, нет ли у него подходящей веревки. С трудом отыскав ее в памяти в дебрях разного хлама, стал прикидывать, где ему вешаться. Глаза его напряженно глядели на носки валенок, влажный взгляд постепенно становился злым и колючим. Крупные, красиво очерченные губы сжались в тонкую синеватую полоску, над которой тоскливо нависли седеющие усы.
Мысль развивалась стремительно и властно. Тимоха представил, как будут его снимать, вытаскивать из петли соседи — сухенькие хрупкие бабки и задубелые, сморщенные старички, как надрываясь и смиренно сопя, уложат они его огромное неподвижное тело на полу в комнате и пойдут ходоками в соседнее село к главе волости хлопотать о похоронах… А он будет лежать, раскорячившись, как раздавленная жаба… Потом еще и досок на гроб надо… А зимой — сырые… Да в мерзлой земле могилу ломом долбить…
Тимоха зажмурил глаза, судорожно сглотнул вязкую слюну и, зажав рукой рот, рванулся за угол дома.
— Куда ты делся-то? — донеслось до него от калитки, — Привиделся, что ли, мне? Тимка, а Тимка!
— Иду! — гавкнул из-за угла Тимоха, вытирая рукавом рот.
— Подь сюда! Крывосос проклятый! — властным дребезжащим голосочком кричала соседка тетка Липа.
Тимоха, ссутулив плечи, вышел из-за угла и, не глядя на воинствующую бабку, виновато присел на лавку.
— Чего я там наделал? — глухо спросил он и стал растирать лоб крупной пятерней.
— Худо, что ли? — неожиданно зажалела его бабка и сочувственно присела рядом.
— Фу, а вонища-то!.. — ужаснулась она, — Что от твоего козла…
Тимоха недовольно промычал, нагнулся, сгреб с земли пригоршню снега и пихнул его себе в рот.
— Ошапурка моего не видал? — деловито осведомилась бабка Липа.
Тимоха молча мотнул головой и болезненно поморщился: в глазах залетали мелкие неизвестные насекомые, по белому снегу запрыгали жучки и козявки.
— Взялся баню топить и провалился, — сухо доложила бабка Липа.
— Придет, — успокоил ее Тимоха. — Ты не знаешь, теть Лип, скотина моя жива или нет? Что-то Амура не видно на цепи…
— Жива, — махнула рукой бабка Липа. — Я ж не брошу. Всех кормила. Амур вчерась тут болтался-топтался. А сегодня ушел на фронт. Собачьей свадьбой командует. Евоные дела понятные, не хужей ваших.
— А печку кто топил? — печально спросил Тимоха.
— Ошапурок мой. А кто ж еще! Куда он делся-то? Без спросу… Может, он у тебя в избе пригрелся? Счас я проверю. Бродяжье племя, чучмек бездомный… — сердито приговаривая, бабка Липа пошла к веранде.
Чучмек бездомный на самом деле был закоренелым домоседом. В свое время, по молодости, покочевал он немало по соседним деревням, отмечая там праздники и будни. Потом заболел.
— Филимон Терентьевич! — качал головой районный терапевт. — Все лечение у нас насмарку. Я ж говорил, нельзя вам пить! Вот опять вы на две недели пожаловали. Вы, мил человек, страну на лекарствах разорили!
Дед Филя кивал уважительно головой и внутренне искренне каялся за свою слабость. Петра Аркадьевича, молодого, тихого врача, он боялся до смерти. Заворожено глядя в стекла блестящих очков, из которых в него вонзались огромные, увеличенные до предела зрачки, дед Филя тоже таращил глаза, чтобы те не отстали в размерах, и торжественно клялся, что кроме воды и молока ничего не пил, не пьет и пить не будет, так как стыдно по возрасту.
После последнего запоя год назад он снова попал в больницу, долго лежал под капельницами, а когда очухался, Петр Аркадьевич сказал ему, что написал главврачу докладную записку, и теперь в их деревню скорая помощь ходить не будет.
— Так и скажите жителям деревни. Хорошо? Не хватает машин, бензин дорогой. Мы вынуждены экономить каждую копейку. И после ваших запоев бить больничную машину по лесным дорогам больше не намерены. Так и скажите, мол, после моих продолжительных и вредных нашему государству запоев, деревню обслуживать райбольница отказывается. Пешком! — отрезал Петр Аркадьевич, позвал медсестру и кивнув на деда, поделился с ней:
— Мое терпение лопнуло. Все это — мертвому припарки.
— Да, да, — таинственно кивнула медсестра и как-то тревожно вздохнула. Дед Филя обмер из-за этого ее вздоха, вроде как она согласилась на что-то недоброе. Он натянуто улыбнулся и неожиданно низко поклонился обоим.
В ту же ночь он сбежал в полосатой больничной пижаме и драных кожаных тапках. Придя под утро домой, переполошив бабку Липу, отчаянно стуча зубами, он под большим секретом рассказал ей, что чуть не сгиб, что его хотели уничтожить, как вредного для государства элемента, потому что он своей пьянкой нарушил работу медицины и испортил все машины. И что теперь из-за него в деревню не будет ездить скорая, и если люди узнают про причину, то не сдобровать тогда и ему, и Липочке тоже.
— А я-то тут при чем ?! — испуганно шептала бабка.
— А потому что ты мне пить разрешаешь!
— Я!?
— Да! Сама и наливаешь! — оттопырив губу, петушился дед Филя.
— Ах ты кобелья лытка… — медленно сквозь зубы цедила бабка Липа. — Маркоман исколотый. Тебя же из больницы небось за то и выгнали, что маркоманил. Таблетки какие-нибудь своровал!
Дед ахал и задумывался глубоко и надолго насчет грубых слов.
Бабка Липа любила ругаться своими словами. Но все ругательства, которые сыпались из ее уст в минуты гнева, как из рога изобилия, подвергались тщательной цензуре супруга. И не напрасно. Без должного контроля бабку заносило на крутых поворотах так, что растерявшиеся слушатели, как растерявшиеся пассажиры, сыпались в кюветы, а бабка, словно танк, перла все дальше и смелее.
* * *
— Бродяга! — крикнула бабка Липа в раскрытую дверь веранды. — А ну, вылезай из норы! Цыган безземельный! Нету у тебя дома? А? Нюхач мухорылый.
— У-у-у!.. — тихо удивился Тимоха, стараясь представить поближе рыло какой-нибудь мухи. Получилось мерзкое видение. Такое пошлое рыло никак не шло аккуратному голубоглазому личику деда Фили, обрамленному белоснежными пуховыми остатками волос.
— Выходи, сыроежка патлатая! — кричала, просунув голову в дверь и далеко отставив зад, распаленная бабка. — Не дожидайся!
Тимоха нахмурился. Он не любил ссор, а больной голове совсем невыносимо было терпеть громкий крик.
Незаметно сбоку на лавочку присел дед Филя.
— Тимошеньк, чего это Липка моя тут бушует, — спросил он удивленно, кивнув на торчащий из дверей острый локоть бабки.
— Тебя ищет.
— А-а-а, — протянул дед разочарованно, — А чего меня искать? Вот он я. Тута. Ты как, Тимош, хреново?
— Хреново, — кивнул Тимоха.
— А у меня есть! — засиял глазками дед Филя. — Сбегать?
— Не надо, — поморщился Тимоха. — Не лезет уже. Я ее туда, а она оттуда.
— Это худо, — дед Филя серьезно поцокал языком и стал внимательно разглядывать Тимохино лицо. — Не помер бы ты. Может, под капельницу в райцентр съездим?
— Не дойду я до большака, — доверительно признался Тимоха. — Видать, все нутро себе сжег. Что пил-то я? И сколько?
— В баню дров иди хоть подложи, расхлябай! — кричала бабка Липа и топала грозно мягким валенком по снегу. — Не доводи до греха!
Дед Филя, прикрыв глаза, сосредоточенно загибал пальцы и долго вел подсчеты. Потом, просияв, объявил:
— Ведра два будет.
— Ведра? — оторопел Тимоха. — Где ж я брал?
— В долг, — доложил дед.
— А кто носил?
— Я.
— Ли-пу-ня! Ли-пу-ня! — закричала бабка Липа ядовитым, надсадным голоском.
Дед Филя, забыв мигом про Тимкины долги, подскочил как ужаленный на лавке, остервенело затряс головой:
— Я те счас покажу Липуню! — гаркнул он и шустро нагнулся в поисках какого-либо предмета оружия. Не узрев на земле ничего подходящего, стал лепить снежок, зло и нервно комкая в руках сыпучий снег.
— Я счас тебе язык-то прищелкну!
Бабка Липа с недоумением высунула голову из дверной щели и, оглянувшись на своего деда, в задумчивости пошевелила губами. Брови ее высоко поднялись, потом сдвинулись на переносице в суровую глубокую складку, потом гордо распрямились.
— Чего кривляешься?! — возмущенно воскликнул дед Филя. — Я тебе сколько раз велел: не смей обзываться! На, получай!
Дед Филя, широко размахнувшись, метнул снежком в бабку. Та лихо скрылась на веранде, с грохотом хлопнув дверью.
Свои клички, которых у него было много, дед Филя уважал. Лишь одну, что прилипла после женитьбы на Липе, не выносил. Немало драк затевалось по молодости в деревне по одному слову «Липуня». Будто спичка чиркала, и разгорался порой костер кулачного боя.
В детстве Филю звали Филином. От этого ему всегда хотелось нахохлиться, вобрать голову в плечи, вытаращить глаза и ухнуть гулко, на всю округу: «У-ху-ху!»— чтобы все разбежались по щелям, как серые мышки. Но так громко ухать он не умел. А все больше пялился на девчонок, томился и кис, и в старших классах его прозвали Лимоном. Прозвище было похоже на боевую гранату, и потому Филя принял его без особого протеста.
Но тут пришла пора после армии жениться. Подвернулась под руку как раз Липочка. И с того момента, как они стали гулять, прозвали Филю Липуней. При этом некоторое время еще не отцеплялись Филин Липочкин, Липкин Лимон, но осталось только — Липуня. После долгой и беспощадной борьбы, после всех его попыток отодрать с мясом въевшееся, липкое, вязкое прозвище, его прозвали Лаптем. Были на то всякие глупые причины, о которых в деревне позабыли. Позже к Лаптю пристроились Ботинок, Сандаль, а потом и Шлепка, но это были мелочи по сравнению с тем, какие страдания приносила деду Филе кличка Липуня. Дед погрозил веранде кулаком и вмиг успокоился:
— Слыш, Тимоха, надо бы тебе молока, — толкнул он в бок нахохлившегося соседа.
— Не… — судорожно сглотнул Тимоха, представив первый глоток.
— Хошь, не хошь, а надо. Иначе — летательный исход, — умно, как врач Петр Аркадьевич, произнес дед.
— Придется лететь, — смиренно согласился Тимоха.
— А воще-то, — дед по-профессорски поглядел на Тимоху исподлобья, будто бы из-под очков, — Воще-то я тебе коры ивовой принесу. Счас к речке сгоняю, веток наломаю.
— Ты чего сидишь на чужой веранде?! — крикнул он выглядывающей из приоткрытой двери жене. — Пригрелась? А баня на морозе ждать не будет! Дрова прогорели, а она тут в прятки играет…
Бабка Липа, как ни в чем не бывало, вышла из двери, поправила пуховый платок и плавно, будто из гостей, поплыла к своему дому.
— Тимош, в баньку приходи, — пригласила она мимоходом. — Поправишься сразу.
— Спасибо, — печально вздохнул Тимоха. — Приду.
— Приходи, я тебе валидолу дам.
— Не надо ему валидолу, — возразил дед Филя. — Я ему коры лозовой надеру, вмиг поправится. Шевели валенками!
Бабка Лиза прищурила левый глаз, будто собралась расстрелять непутевого мужа, но передумала и, с вызовом бросив в него слово «шпиен», поспешила подкладывать в баню дрова.
Дед Филя, чтобы не откладывать дело в долгий ящик, засеменил к реке. Едва протоптанные между домами тропки извивались, путались и пересекались, словно распущенный игривым котенком клубок пушистых белоснежных ниток. Ночной снежок по-хозяйски заботливо припорашивает ниточки, пряча их от чужих зорких глаз, но легкая метелица сматывает нитки в комочки, в клубки, складывает клубки в сугробы, и они растут, растут до весны…Потом весна будет вязать из собранных нитей белую траву, белые цветы, белые листья… А солнце все окрасит в разные цвета.
Тимоха побрел в нетопленый дом. На веранде он зацепил и уронил с лавки пустое ведро. Оно зазвенело призывно, как набат: воды в доме не было. Тимоха через силу развернулся, взял голосистое ведро и пошел за водой, потому что надо было уже возвращаться в жизнь.
* * *
Настывшая печка плохо растапливалась. Из-за тихой, безветренной погоды и холода в избе тяга была плохой, и дым белыми бесконечными змеями выползал сквозь щели печной дверцы, извиваясь, полз к потолку и там змеи сливались, растворяясь в тумане.
Тимоха поставил на плиту чайник с водой, две кастрюли, снова принялся рвать газеты и бросать в топку.
Потом пришел дед Филя. Заботливо ободрал тонкие пахучие веточки, перекрошил зелье, и, сложив на тарелку, как макароны, скормил их насильно Тимохе. Тимоха жевал молча, сосредоточенно, старательно. Съев, попросил добавки. Дед Филя с готовностью принялся скоблить ножом еще.
— Ешь, соколик, ешь. Никого не слушай. Слушай только меня. Я мужик со стажем.
— Дед, — прервал его Тимоха, — А Новый год был?
Дед Филя внимательно исподлобья глянул на Тимоху.
— Как не быть? Был. Потом сплыл…
— А я где был тогда? — спросил Тимоха.
— Дак тут и был. У тебя ж и отмечали! — воскликнул дед Филя. — У тебя ж гостей было миллион! Не помнишь, что ли?
Дед посидел в раздумье, потом протянул Тимохе тарелку с корой.
— Воще-то ты спал. Зачем тебе помнить? А я погулял на славу.
Дед довольно погладил редкие волоски бороденки, крепкий кругленький животик, заботливо припрятанный под клетчатой фланелевой рубашкой и блаженно расплылся в улыбке.
— Я так нанюхался, что Липку из дома гнал! Эх! — махнул он отчаянно рукой. — Прошли мои годки…
После дерзкого побега из райбольницы в казенной пижаме и тапках дед Филя резко бросил пить. Из-за приобретенного этого недостатка он не перестал участвовать в массовых мероприятиях, а напротив, стал активнее. Человек он был общительный, газет читал много и даже похаживал в библиотеку в соседнее село. Поговорить с ним было о чем.
Один раз ставший непьющим дед Филя потянулся в гостях к стакану с самогонкой. Это произошло по старой привычке, без особой охоты, а так, между делом и средь разговора. Мельком взглянув на этот стакан, дед замер. Из клубов табачного дыма сверкали граненые очки Петра Аркадьевича, а внутри стакана, хуже и страшней смерти, лежал и глядел на него увеличенный, пристально выпученный глаз врача. Дед завизжал и бросился вон из избы. Дома на печке он медленно очухивался и шепотом рассказал все своей Липке.
— Белая горячка, слава тебе, Господи, — перекрестилась та. — Сейчас отправлю тебя в дурдом, в Суханово, и на том мои муки кончатся. Плесень ты косоглазая.
Дед Филя хотел заметить, что никаких глаз у плесени не бывает, ни косых, ни прямых, но, вспомнив про глаз в стакане, промолчал.
К ночи он поклялся бабке, что никогда не пил, не пьет и пить не будет. И бабка в очередной раз поверила. Особо в то, что никогда не пил.
Хоть поверила, но не раз проверила. Поначалу по старой привычке разыскивала деда Филю по всей деревне, чутко принюхиваясь и прислушиваясь, откуда тянет весельем.
Находила его порой распьяну-пьянущим, икающим и плачущим горючими слезами, волокла домой, разувала, раздевала, укладывала спать. А через полчаса дед Филя вставал, как ни в чем не бывало и командовал:
— Давай ись. Щец налей.
— Чо, уже похмелье? — удивлялась бабка.
— А я и не пил. Во!
Дед подходил к бабке, старательно фукал ей в лицо. Бабка морщила нос, отворачивалась и пихала его рукой в грудь.
— Иди, иди! Каких-нибудь листов наглодался, жирафа рогатая.
— Да клянусь, что не пил! — возмущался дед, задумываясь насчет рогов жирафы.
— А чего пьяный был? — хитро прищуривалась бабка. — Выходи на чистую воду, налим сопливый!
— А это — морально! Телом я трезв и чист, как стеклышко! — рапортовал он, пропустив мимо ушей насчет налима.
После нескольких таких моральных пьянок деда бабке пришлось поверить, что пить он и на самом деле бросил.
После первой стопки, выпитой другими, у деда загорались глаза, и веселел говорок. После второй он шутил напропалую, краснел и начинал потеть. После третьей запевал, стуча ногой в пол, а потом у него ненадолго начинал заплетаться язык. И только трезвый мозг подсказывал — как это хорошо: не пивши, быть пьяным. Придя домой, он минут пять для порядка буянил, крича во все горло: «Вон все из дома!» Не дождавшись реакции на приказ, заваливался в обутках на кровать, пьяно бормоча недовольства и угрозы, потом затихал, а через пятнадцать минут просыпался, сладко зевал и просил Липочку «ись».
— С гостей, небось, — язвила бабка. — не покормили там?
Дед кивал в привычном стыде и раскаянии за содеянное накануне, будто точно был с похмелья. Потом несколько дней он покладисто и смиренно трудился по хозяйству, старательно заглаживая моральный вред своей моральной пьянки.
* * *
Пока топилась печка, дом ожил и развеселился. Вещи, будто разговаривая друг с другом, жаловались на Тимоху, переживали. Простывшая кровать жалобно заскрипела, когда Тимоха прилег на нее, половицы сердито поскрипывали, отчего ногам Тимохи было неуютно. Ходики, намолчавшиеся за столько времени, понуро перекосились, упершись гирей в пол. Тимоха подтянул гирю, качнул маятник, и часы суетливо затикали, торопясь догнать упущенное время.
Постепенно дом теплел, становился добрее. Вещи уже не сердились на непутевого хозяина, а наперебой лезли в руки и маячили перед глазами, прося привести их в порядок.
Тимоха прибрал в доме, пересилив себя, помыл полы, потом заодно и посуду. К тому времени сварилась картошка. Тимоха покормил поросенка, виновато почесал ему спинку, насыпал зерна курам, обобрал в гнезде десятка два яиц. Потом он долго свистел, призывая пса Амура, которого ночью занесло на чужую собачью свадьбу.
«Я виноват, дружище, — покаянно думал Тимоха, — Подаю всем дурной пример. Все хозяйство распустил».
Амур на свист не отозвался, так как по старости ничего не слышал и к тому же был еще слеповат.
Когда разочарованный дед Филя ушел домой, Тимохе стало тяжелее. Похмелье означало одно: праздники кончились и начались долгие, нудные будни с бесконечными хозяйственными заботами и выматывающим душу одиночеством. К тому же Тимоха озадачил деда своим отъездом.
— Дня на три, не больше, — просительно глядел Тимоха в подозрительные глазки деда. — Ну не сдыхать же скотине…
Дед долго несговорчиво шмыгал носом и расчетливо постукивал кулачком по столу.
— Мне надо Власа проведать. Туда и обратно, — убеждал деда Филю Тимоха.
В конце концов дед крякнул, почесал затылок и пожаловался, что никак не соберется купить новое колесо к велосипеду. А что старое? Старое восьмерки крутит…
— Зачем тебе велосипед? — недовольно буркнул Тимоха. — Кто на нем ездит?
— Пусть будет. Хлеба не попросит, — поставил точку дед Филя, и Тимоха согласился привезти из города новую покрышку к старому колесу, не зная, на что ее купит.
* * *
Деньги нашлись сами. Тимоха даже напугался от неожиданности. Вспомнились бабкины слова: «Копеечки к расплатам зазвенели». Бабка всегда настороженно относилась к внезапным прибылям. Особенно к шальным деньгам. Дед был любителем побаловаться картишками, и нечаянные копеечки звенели у него нередко. Потому, видно, и расплат было много. Хватило с лихвой на три поколения вперед.
Возле дома Власа Тимоха замедлил шаг и стал озираться по сторонам, хотя никого нигде не было, словно он задумал недоброе. Он робко зашел на веранду и вздрогнул от громкого «здрасьте!» На диване сидели четверо ребятишек разного возраста, а из дома раздавались занудные вопли пятого.
Тимоха открыл без стука дверь в дом и осторожно переступил порог, будто на пороге лежала мина.
— Зачем котятам могилка? — в упор уставившись на Тимоху, держа в одной руке ложку, в другой кусок хлеба, отчаянно воскликнул из-за стола Влас.
— Привет, — криво усмехнувшись, ответил Тимоха.
— Вот видишь, — торопливо жуя, кивнул Влас плачущей дочке, — и дядя Тима говорит: не нужна!
— Ну, па-па-а-ап… — горестно всхлипывала толстушка Ниночка, размазывая по круглым щекам крупные слезы.
— Нет, ну ты подумай! — стукнул в сердцах по столу ложкой Влас.
Тимоха крякнул и присел на краешек стула, с жалостью глядя то на Власа, то на девочку.
— Я хоть крестик на могилку поставлю-ю-ю, — подвывала Ниночка. — Котяткам моим дороги-и-им…
— Да не тяни ты душу! Ни-на! Не трогал я их! Коты съели! — взвыл Влас, громко отодвинув тарелку с недоеденным супом и грозно поднялся из-за стола.
— Вот и поел. Поешь тут… Загнусь, так, небось, мою могилку никто искать не станет…
— И никто не узнает, где могилка твоя, — глупо пошутил Тимоха, растерявшись и жалея и того, и другого.
— Пап, — шмыгнула носом Ниночка.
— Все, — коротко ответил Влас, — Котят нет. Могил нет. Кресты ставят только людям. Помойте посуду. Разберите игрушки. И чтобы к моему приходу все блестело! — скомандовал он скороговоркой, словно проговорил считалочку при игре в прятки. — Иначе я эту пакостную кошку приберу к рукам! Я найду на нее управу. Она меня доканала котят носить!
Слезы на глазах Ниночки мигом высохли, плечики распрямились.
— А полы сегодня мыть? — спросила она.
— Конечно, — ответил Влас и погладил дочку по голове. — Нам бы с вами еще два денечка продержаться до мамкиного приезда.
Ниночка вытащила из-под лавки трехцветную пушистую кошку с распухшими, отвисшими сосцами и, прижав к груди, торопливо вынесла из дома. Под лавкой осталась пустая картонная коробка, бережно застеленная мягкими цветастыми тряпочками, на которых остались невидимые ворсинки исчезнувших котят.
Тимоха с тоской уставился в пустую коробку. Отчего-то запершило в горле и стало тяжело и больно в груди.
— Зарыл? — зачем-то спросил он Власа, кивнув на коробку.
— Пошел ты! — рубанул Влас. — Завели кошку. Потаскуха, а не кошка. Каждые три месяца грех на душу кому брать? Мне!
Влас нервно собирал на столе бумаги.
— Ты надолго или как? Пьешь или нет? У меня сейчас совещание. Вернусь часов в восемь. Буду стараться раньше. Сходи к теткам Анфискам похалтурь. Им надо расколоть машину дров, — тараторил, будто сам с собой Влас.
— Сдохну, — горестно пожаловался Тимоха
— Ничего тебе не станет, — успокоил его Влас. — Дурь потом выйдет. Часов в пять баню затопи.
— Есть, — коротко согласился с указаниями Тимоха, топая следом за Власом на веранду.
— Так, барышни и крестьянки! — обратился Влас к встрепенувшимся ребятишкам, — Господа отдыхающие! Не забывайте, что только в труде можно счастье найти! Я не могу придумать для вас какое-нибудь дело, придумайте его сами! — скомандовал он, как телевизор.
* * *
Бабки Анфиски копошились во дворе. Тимоха оглядел огромную кучу распиленных чурбаков и оценил работу в двести рублей.
— Эй, матушки! — позвал он бабок, и те, вспорхнув от снежного сугроба словно зимние бабочки с замерзших цветов, в одинаковых пушистых платках, с одинаковыми беззубыми улыбками заспешили к гостю.
Бабки Анфиски были двойняшками. От рождения Анфиской была только одна из них, но которая — уже никто не помнил. Не помнили об этом, может быть, теперь уже и они сами бабки, поскольку возраст их приближался к девяноста годам. Второе имя Анфисок осталось только на бумаге и знали его в основном в собесе да на почте.
— Которой где расписываться? — гомонили бабки при получении пенсий.
Почтальонка старательно указывала графу в ведомости одной Анфиске настоящей, потом — другой Анфоске-самозванке. А может, наоборот. Бабки по очереди торжественно ставили в разных графах одинаково дрожащие, кривенькие крестики и довольно переглядывались. При этом почтальонке всегда казалось, что ее обманули.
А бабки всегда и всем были очень довольны, хотя за плечами обоих был тяжелый век: погибшие на войне мужья, рано умершие дети и полное сиротство в старости.
— Тимушка, ангел наш, здравствуй! — поклонились Анфиски хором. — Дрова пришел колоть?
— Да вот, Влас скомандовал, — кивнул Тимка.
Если бы он точно не знал, что трезв, то мог бы подумать, что в глазах у него двоится.
— Да что-то ты усталый какой? — озадачилась одна Анфиска.
— Не спавши? Ай, не евши? — спросила другая.
— Спавши, евши. Был напивши, — по честному признался Тимка.
— Долго был?
— Еще до Нового года начал, — вздохнул Тимоха
Бабки переглянулись, подсчитывая дни, тем самым определяя тяжесть его состояния, и недовольно покачали головами.
— Не одолеет, — сказала одна Анфиска другой, кивнув на гору чурбаков.
— Ежели с корвалолом… — неуверенно предложила другая.
— Ты, Тимоша, начинай, за двести рублей сговоримся. А будет худо — бросишь.
— У нас уже трое начинали. Все с пьянки, — поддержала ее сестра. — Уже три сотни стратили, а воз и ныне там.
— Начинай, начинай, Тимоша. У нас пенсии большие, как у министров. Куда их тратить? А у людей работы нет, — сказала Анфиска.
Тимка так и не понял, которая из них — за, а которая — против. Он хлопнул тяжелой ладонью по холодному топорищу глубоко всаженного в пень топора.
— Корвалолу-то не мешало бы… — предложил он бабкам.
— Счас, счас, сынок, — засуетились Анфиски и побежали друг за дружкой в дом.
Тимке стало как-то тепло и больно на душе от вскользь сказанного «сынок». От щемящей боли заслабели руки и топор дрогнул, попытавшись вырваться и уткнуться острием в рыхлый снег. Тимка крепко сжал рукой топорище и, с размаху саданув по ближайшему чурбаку, поднял его и установил на щербатый, приземистый пень.
За работой время шло медленно. Тимке казалось, что он колет дрова уже часа два. Кучка расколотых поленьев росла на глазах, источая терпкий, свежий березовый дух, а вот огромная гора чурбаков не уменьшалась.
— Блин Горыныч! — пыхтел Тимка, вытирая пот со лба и с тоской глядя на початый край работы
— Ексель-моксель! — отвечал он сам себе и с натугой водворял очередную чурку на пень.
Бабки Анфиски, смиренно сложив руки в цветастых вязаных рукавичках, жалеючи смотрели на него.
Люди не устают смотреть на то, как горит огонь, на то, как течет вода и на то, как ладно работают другие — вспомнил Тимка чьи-то дельные слова и ободрился: видно, работает он неплохо, раз Анфиски сидят, как в театре.
— Может, сто грамм ему налить, Ань? Уж весь употел. Страдает…
— Ничо не будет. Сам ведь не просит.
— Стесняется, может?
— Чего стесняться? Не хочет пить и все. Сиди, помалкивай, Фиса, — переговаривались между собой бабки, наблюдая за муками распаленного, фыркающего и крякающего Тимки.
— А вот я счас спрошу…
— Не лезь!
— Дак ить жалко.
Тимка тюкнул с размаха по чурбаку, не разгибая спины, замер, неуклюже потоптался и стал медленно оседать на снег. Он закрутил головой, прогоняя натужный звон в ушах, в глазах зарябило и свет стал тихо меркнуть.
— Концерт окончен… — прошептал он леденеющими губами с ужасом думая, что придется помирать в чужом дворе, как бродячему псу.
— Да зачем через силу-то? — загомонили бабки и, вскочив с лавки, подбежали к Тимохе.
— Тихо, тихо, — отстранил их Тимоха. — Карвалолу несите, валидолу или прочего… Помираю…
Бабки заохали, замахали руками и, не сговариваясь, побежали в разные стороны. Одна — в дом, другая — в распахнутую и прижатую до весны сугробом калитку.
«Вот и пожил», — тоскливо подумал Тимка, боясь вздохнуть и разглядывая крупных золотистых мух, роящихся на фоне белоснежного сугроба. Мухи то были или звезды, спустившиеся на несколько минут с неба для того, чтобы Тимке стало повеселей помирать, он не понял. Сугроб стал темнеть, оседать и таять, будто в одно мгновенье кончилась зима, прошла весна, и настало тяжелое, холодное лето.
* * *
— Не помрет, не бойтесь, — услышал он неприязненный громкий голос. — Таких сволочей земля долго носит. Это добрых людей Господь забирает. А пьянчуги там не нужны. Ишь, кабан, отъелся как. Бездельник.
Тимка ощутил сильный сердитый шлепок по голому заду и вздрогнул от такой неприятности.
— Зашевелился?! — грозно спросил знакомый голос и под нос ему сунули вонючую, гнусную ватку.
— Нюхай, нюхай, покойничек! Ишь ты, помирать он собрался! А долги за тебя кто отдавать будет? Сердце у Тимки захолонуло. Он суетливо попытался отыскать штаны и натянуть их на голый зад.
— Давай, давай, — миролюбиво подбодрила Тамара, наряжая его в брюки. — Докатился. Его раздели, а он и не рыпнулся. Скоро без штанов по городу пойдешь, стыдоба!
— Не ругайся, — тихо сказал Тимка и, повернувшись лицом к стене, стал стыдливо застегивать брюки.
— Наркотика тебе кольнула, — не унималась Тамара, — а то немодный ты какой-то. Нынче все уже наркоманят, а ты все пьешь.
— Не ругайся, — умоляюще прошептал Тимоха.
— Да сдохни ты! — не удержавшись, воскликнула Тамара. Она с грохотом захлопнула железный чемодан со всеми спасающими от смерти принадлежностями, и внутренности чемодана стеклянно зазвенели и забрякали.
Тамара шумно встала и, громыхая крупными широкими каблуками, как белый пароход на неожиданно громких ногах, поплыла по малюсенькой комнатке.
— В мою смену, если он будет опять помирать, не звоните. Не поеду. До семи утра! — отрезала Тамара и, не прощаясь, хлопнула дверью.
Онемевшие Анфиски сидели рядком напротив кровати и ошалело разглядывали Тимку, словно он был инопланетянин. Тимка тоже разглядывал их в ответ. Отчего-то ему было спокойно и хорошо лежать вот так.
— Так а что случилось-то? — нарушила тишину одна Анфиска.
— Да, а что случилось-то? — переспросила другая.
Но ответа они так и не дождались. Тимка закрыл глаза и стал куда-то медленно падать, успевая только предположить, что Тамара действительно уколола его чем-то не тем, чем надо.
Потом ему показалось, что Томка вернулась, странным образом вспорхнула ему на руку и принялась сворачивать его пополам. Потом легко сложила его, будто ладила самолетик из листа бумаги. Тимка пытался доверительно объяснить ей, что именно потому он и живет на белом свете. Вот именно для этого… И в тот миг он точно знал — для чего и что такое — «это».
Он говорил, говорил, податливо подставляя руки для свертывания в самолетик, который мгновенно превращался снова в Тимку, а Тома молчала. И вдруг Тимоху озарило: это не Тома! Это — Она! Кто Она, Тимка не мог знать, но это была ОНА! Тимка умолк словно парализованный, полностью поддался неумолимой силе, продолжая сворачиваться и превращаться. Потом в этом бесконечном превращении он увидел низкий потолок, оклеенный рыхлой, посеревшей от времени бумагой. Кое-где бумага дала трещины и они кровеносными жилочками разбежались по телу потолка в разные стороны. Оглушенный какими-то громкими ударами, Тимка изучил все эти жилочки, проплывая по ним зрачками, как по речкам лодочками. Потом он ясно понял, что хочет рассмотреть их поближе. Он напряг свое тело, что-то такое необходимое подумал и медленно, легко поднялся к потолку. Коснувшись потолка животом, Тимка от неожиданности охнул и тут же опустился на диван. Затаившись на время, он понял, что удержаться в полете можно, если не думать о том, что ты летаешь, и ничему не удивляться.
Тимка понял, что не успокоится, пока не разглядит все бумажные трещинки в подробностях, будто это могло помочь ему постичь некую огромную истину.
Он попытался подняться с постели, но тело не слушалось команд, а лишь гудело и звенело каждой клеткой.
Тогда Тимка опять напряженно подумал что-то такое, отчего стал медленно подниматься к потолку. Удивившись, что снова все получилось, он рухнул на диван и заплакал от счастья. С третьей попытки, уже зная, как это делать, Тимка легко подлетел к потолку и стал разглядывать трещинки. Внимание его напряглось до предела, глаза заслезились. Трещинки стали увеличиваться и превращаться в ручьи, ручьи — в реки…
Тимка понял, что летит внутрь рек. Но воды в реках почему-то не оказалось. Не оказалось и дна. Вместо него образовались глубокие, бесконечные, едва освещенные голубоватым светом ущелья, стены которых состояли из лохматых волокон бумаги. Тимке вдруг стало интересно: что — внутри волокон? Он напряг тело, сознавая, что оно становится все меньше и меньше, и подлетел к пухлому, белому столбу, который разрастался на глазах, занимая все пространство вокруг. Тимка увидел быстро приближающиеся одинаковые квадратики и кубики клеток. Он выбрал одну и, на ходу уменьшаясь в размерах, полетел к ней. Внутри кубика что-то блестело, переливалось, искрилось невиданными цветами. Тимка коснулся ладонями зыбких тонких стенок и испугался грубости своих пальцев, испугался проткнуть и испортить наполненный таинственный сосуд.
Тимке осталось совсем чуть-чуть, чтобы окончательно все понять, но он никак не мог поймать эту мысль, уловить миг, в котором все сошлось воедино. Наверное, для этого ему нужно было проникнуть внутрь наполненного сосуда, но он боялся нарушить что-то главное. Он боялся и не мог шевельнуть рукой, хотя сил было бесконечно много…
— Вставай, касатик, вставай, — услышал он ласковый голос, открыл глаза и мертво уставился в сухие, колючие трещинки на потолочной бумаге, удивляясь тому, как быстро он вернулся из далекого путешествия. Тело его внезапно оказалось таким огромным, что Тимка не сразу понял, из чего оно состоит. Он поднял вверх руку и тихо удивился:
— Что это?
— Господи Иисусе! — прошептали испуганно два голоса. — Это рука.
— А было две… — сказал задумчиво Тимоха.
— А вот вторая, сынок!
Бабки Анфиски дружно вцепились в Тимкину кряжистую руку своими сухенькими, дрожащими пальчиками и стали ее поднимать.
— Все на месте, не расстраивайся…
Тимка медленно поднялся, сел, осторожно охватил руками голову и тихо, горестно завыл.
— Ну чего ты, чего ты? — растревожились старушки. — Давай, попьем чайку с мяткой, с душицей. И мед у нас есть. Ну, чего ты?
Не зная, как и от чего его спасать и утешать, они взволнованно теребили его одежду и пытливо заглядывали ему в глаза, как две стареньких докторши, столкнувшиеся с незнакомым недугом. И ничего нельзя было советовать, не изучив болезнь, ибо всякое было бы не во благо. Потому Анфиски горько молчали, изучая звуки прерывного, протяжного, глухого, жуткого от безысходности его воя.
* * *
Влас грохнул с размаху дверью, отгоняя мчавшийся по следам мороз. Слабые переборки, обклеенные розовыми блеклыми обоями, задребезжали. Заколыхались взволнованно и плавно занавески из полупрозрачного выцветшего ситца. Анфиски дружно вспорхнули со своих стульев и выглянули из проема двери в поисках гостя.
— Доброго здоровьица! — громогласно объявил Влас.
— Родителька! — всплеснула руками одна Анфиска, — Ты ж так двери нам выломаешь!
Она торопливо побежала проверять целостность ручки и петель.
— Ну кто ж так хлопает, сынок! Не дубовая, поди, дверь-то! — упрекнула другая Анфиска и обиженно моргнула.
Влас, не обращая внимания, крупными шагами прошел в комнату, где возлежал в подушках бледный и равнодушный Тимоха.
— Живой?
— Живой, — кивнул задумчиво Тимоха.
— А Томка позвонила, что почти уже совсем…
— Размечталась.
— Ну, не скажи. Врач она, фельдшер.
Тимоха недовольно отвернулся к стене и уставился в розочку на тонком гобеленовом коврике.
— Вставай, перебирайся ко мне, там отлежишься.
Тимоха махнул рукой.
— Анфискам ты мешаешь. Домик у них маленький… — продолжал Влас.
Тимоха тоскливо промолчал.
— А то, может, пятьдесят грамм? А то сдохнешь еще, не дай Бог. И так уже все перемерли.
— И мне пора.
— Не выдрыгивайся.
— Пора, пора, Влас. Незачем небо коптить без дела.
— Дел тебе мало? Найди работу и не сиди.
— Где ее найдешь?
— Должности министра у меня нет.
— Не хочу, — хрипло сказал Тимоха. — Ничего не хочу.
— Молодец! — похвалил его Влас и бодро похлопал по плечу. — Продолжай в том же духе. Всех умней! Шустряк! Ты и такие, как ты, шустрые, впереди всех на тот свет убежали. Побросали вот этих вот Божьих одуванчиков по всему свету, а сами лежат-полеживают.
Влас кивнул в сторону Анфисок, и те виновато заулыбались, застеснялись самих себя.
— Ловко придумали, — не унимался Влас, — Попил, погулял, сердце посадил, печенку отравил, ноженьки подкосил, мозги высушил, заснул и не проснулся. И все дела сделаны. А вы тут крутитесь.
— Это не мы придумали, — зло сказал Тимоха, — Это вы придумали, Влас. А мы уж по вашим придумкам живем, стараемся. Сказали помирать - помираем, не спорим.
Тимоха тяжело поднялся в кровати и стал надевать брюки.
— Кто это — мы? — глухо спросил Влас.
Тимоха равнодушно промолчал, отыскивая под кроватью свои носки. Свесив голову, он заглядывал под съехавшее на пол одеяло, отчего лицо его посинело, а глаза налились кровью.
— Ты говори, да не заговаривайся! — возмутился Влас. — Я придумал! Я сколько борюсь с этим пьянством, сколько воюю!
— Глупый ты, — тихо пожалел его Тимоха. — Ничего не понимаешь.
— А ты умный? — с издевкой спросил Влас.
— Угу, — кивнул Тимоха и поднялся на слабые ноги.
— Был бы умный, не спился бы, — сердито сказал Влас.
— А ты вспомни, кого на кладбище последние годы носим? Все отличников да медалистов. Да самых добрых баб. Дураку зачем пить? Ему и так хорошо. А умный пьет, чтобы дураком стать. Чтоб мозги не думали. Когда мозги не работают, ощущаешь радость жизни. Или хотя бы не ощущаешь ее совсем. Жизнь эту. Понимаешь меня? — Тимоха тускло и равнодушно уставился на Власа.
— Во как заговорил! — поморщился Влас. — Сам себе адвокат! Ты бы лучше сам себе прокурором стал.
— Я себе и адвокат, и прокурор, и судья. Придет час, и приговор подпишу. Никого не спрошу, — сухо сказал Тимоха, сверля острыми глазами переносицу Власа. А ты властвуй, но в души не лезь. Не твоя это сфера.
— Ох, что это ты, Тимоша, сынок, — всполошилась одна Анфиска, — Ты себя не суди и других не обижай. Не бери греха на душу. Что ты, сынок! Нехорошее говоришь. Ложись назад, ложись. Мы сейчас тебя супчиком накормим, чайком напоим…
— Спасибо, тетки, — виновато буркнул Тимоха. — Помереть не дали. Пойду я.
— Куда ты пойдешь? К Власу? — спросила другая Анфиска, преграждая Тимохе путь.
— Нет, к Власу не пойду. Нам с Власом не по пути.
— Давай, давай, трепи всем нервы, — ехидно поддакнул Влас. — Тебе худо, так всем должно быть еще хуже, да?
Тимоха надел куртку, неверными руками поправил воротник и, буркнув расстроенным Анфискам «спасибо», вышел из дома.
Не оглядываясь на Власа, не обращая внимания на его упреки и просьбы, нетвердо переставляя ноги, Тимоха пошел по улице. Он вжал голову в плечи, засунул руки в карманы, нахохлился и весь съежился, словно хотел отгородиться от всего мира, забраться в тесный домик своей куртки и никого туда больше не пускать. И было в этом болезненном, продуваемом ветром домике зябко, неуютно и одиноко, но другого дома не существовало, и другого не хотелось, потому что не хотелось вообще ничего.
— Я что, за тобой вдоль по всей улице гулять буду? Больше дел у меня нет? — злился Влас, шагая позади Тимохи, но тот не оглядывался и не отвечал.
Он шел, однообразно раскачиваясь, монотонно переставляя ноги, будто был необычным двигающимся маятником неправильных, лживых часов, которые шли в обратном направлении. И путь, лежащий перед ним, вел чуть в сторону, а потом и назад, туда, где уже ходили по пройденным дорогам и оставленным следам.
Он шел, как рабочая лошадь, запряженная в упряжку, шагает день и ночь по кругу, вертя какое-то необходимое всем колесо, чтобы потом, выпущенная на волю в поле, снова идти по кругу, по кругу, по кругу…Но лошади все равно. Она не думает и не удивляется. Есть трава — и ладно. Есть надежда, что накормят и напоют — и хорошо. Пришел хозяин, погладил по крупу — и пусть гладит…
— Слабак! Кисель! — орал в спину озверевший от бессилия Влас. — Прямо на кладбище топай! Тимоха не обернулся. Он тяжко, глубоко вдыхал морозный воздух, и ловил в нем гнусную, сжимающую сердце мысль о том, что Власу уже надоело шлепать сзади по снегу, а дома у него много забот. Хоть он и друг, но тоже будет рад освободиться от Тимохи. Не такой уж человек человеку друг, если пьющий… Влас понимает это, злится на себя и потому так кричит. Но останавливаться было уже поздно, а возвращаться не давала гордость, хотя гордиться, по большому счету, было нечем.
Глава 2
Лида подошла к лифту, нажала заскорузлую, обгрызенную кнопку, утопив ее в черном провале дыры, лениво отмахнулась от дежурной, ежевечерней мысли о том, что в дыре спрятался и посиживает до поры до времени ток, и что надо позвонить в ЖЭК.
Лифт звякнул, крякнул и не тронулся с места. Он застрял где-то высоко. Лида еще раз нажала опасную кнопку и с тревогой посмотрела вверх. Лифт громко брякнул, огрызнулся. Она переложила тяжелую сумку в другую руку и поплелась на свой шестой этаж.
Пока искала ключ в сумочке, тяжело и устало дыша, пока вставляла его в замок, придерживая ногой сумку с продуктами, а левой рукой — падающую с плеча сумочку, вспомнила, что не посмотрела почту. Растерянно замерла, не понимая, что ей сейчас надо делать: вернуться на первый этаж, или сначала войти в дом? Усталый мозг тормозил, зависал, как компьютер, выдавая набор иероглифов, цифр и букв, которые невозможно было собрать в слова и перевести на понятный язык. Щелкнул замок, и из соседней двери выглянула соседка Яна Васильевна.
Яна Васильевна была приятным человеком неопределенного возраста, но пенсионеркой. Яна Васильевна дружила «душа в душу» со всем подъездом и знала обо всех все. Это не мешало ей спокойно спать, потому что Яна Васильевна была доброжелательной, а не склочной. Просто любопытной от одиночества.
— Лидочка, детка, здвавствуй!
Вместо «р» и «л» Яна Васильевна говорила «в», поэтому разговор ее был ловкий, скользкий и шустрый, как плывущая в бурном ручье щепка.
— Цевый день раццуждаю… — закатила театрально глаза Яна Васильевна, собираясь «раццуждать» до ночи. Лида натянуто улыбнулась и сдержанно кивнула, давая понять, что уже слышала все «раццуждения».
Когда в слове встречалось два «с», Яна Васильевна бесцеремонно объединяла их в звонкое, щепетильно-старательное «ц». В отношении остальных всяких незначительных «з», «с», «щ», «ш», звукозаменитель был небрежным и легкомысленным, как щелчок упавшей сережки.
— Да-да-да, — невпопад подтвердила Лида, робко, как чужую, отворяя железную дверь.
— Бомжи они или зеки? — удивленно подняла брови Яна Васильевна.
У Лиды мгновенно включился инстинкт самосохранения. Эта тема о лицах без определенного места жительства была любимой для Яны Васильевны, неисчерпаемой, злободневной, ненавистной для всех соседей и, самое главное, очень долгой. Минимум, на полчаса.
— Яна Васильевна, миленькая, — просительно начала Лида, морщась от своего кошачьего голоса. — Зайдите ко мне или лучше я к вам зайду попозже. У меня сумка тяжелая. Чайку попьем…
— Мивая моя! — укоризненно покачала головой Яна Васильевна. — Я выпила сегодня уже восемь чашек! При моем-то здововье, при таком высоком давлении!
— Это не вредно, — из последних сил ободрила ее Лида и, подумав что-то хлесткое, нерешительно стала пихать ногой дверь. Железный скрип возмутил Яну Васильевну..
— И все же, почему никто не хочет разбираться в этом вопросе? Только одна я везде звоню!
Лида опустила глаза, изучая тяжелую сумку, тайно надеясь, что Яна Васильевна поймет значение угрюмой тишины.
— Ховошо, — согласилась та. — Идемте. Я надеюсь, у вас есть зеленый чай, Идочка?
«Ой-е-ей!»— коротко подумала Лида и, сжав зубы, пропела:
— Да, конечно!
В большой коммунальной квартире жило несколько времен. Большая старинная прихожая, захламленная, заставленная сундуками, шкафами, тумбочками, трюмо, вешалками всех стилей и видов, представляла собой винегрет из эпох, сортов, веков и мгновений, щедро заправленный растительным маслом желтого, тусклого светильника, вздернутого высоко под потолок рукой палача-электрика, опочившего сто лет назад.
Светильник оброс с того времени лохматыми мышиными шубками пыли. Шубки свисали кое-где обреченными на легкий полет кусками, но это не мешало светильнику исправно лить вязкий, тяжелый поток масла на ненужные вещи. От света напрягались и начинали слезиться глаза, будто винегрет мебели был обильно напичкан луком и чесноком. Именно такой запах застарелого прошлогоднего застолья встречал гостей в прихожей.
Войдя в дом, Яна Васильевна преобразилась, будто вышла из-за кулис на сцену. Щеки ее порозовели, черные глазки-бусинки забегали по стенам в поисках публики. Не найдя зрителей, Яна Васильевна принялась разыскивать их голосом, предполагая, что лишь свет рампы, обросшей мышиными шубками, выстроил незримую стену между ней и всем черным коридором.
— А у вас тепво! — по-царски поведя правой рукой, провозгласила она, не спеша проходить и позволяя Лиде снять обувь.
— И светво! — повела она плечами, будто речь шла о благоустройстве квартиры после бомбежки, будто они с Лидой только что вернулись из бомбоубежища, расположенного в подвале, и радуются сохранившемуся чудом уюту.
Лида тоскливо предложила Яне Васильевне тапочки.
— Если позволите, я в туфлях, — снисходительно предложила Яна Васильевна и, поправив бусы на груди, самовлюбленно зацокала каблуками по старинному раздробленному музыкальному паркету, разные планки которого скрипели каждая по-своему.
От этого скрипа узкий, длинный коридор, состоявший из нескольких сотен клавиш, играл всегда разные мелодии. Все зависело от величины ступней, остроты или тупости каблуков, а также быстроты ходьбы, настроения и здоровья идущего. Под ногами Яны Васильевны прозвучал негармоничный полонез, внезапно завершенный на самом резком, высоком звуке на пороге кухни. Следом за ним протарабанил под Лидиными шлепками расстроенный «Собачий вальс», ритм и счет которого не пострадали, лишь чуть запнулись в нерешительности возле комнаты дедушки.
— Ида! — всплеснула руками Яна Васильевна, замерев на пороге кухни. — Я забыла принести цудесное пеценье! Ах, нет-нет! — она круто развернулась и защелкала каблуками по коридору, — Не уговаривайте меня, я быстро вернусь!
Два мощных крыла ее тяжелой шерстяной шали пригладили топорщившиеся кое-где обои на стенах узкого коридора, но так и не взметнулись ввысь, не расправились даже в широкой прихожей. Железная дверь грохнула, из-за нее донеслось цоканье по каменным ступенькам лестницы.
— Дед! На помощь! — жалобно взвыла Лида.
Она заглянула в комнату деда и разочарованно выпятила губу. Дед спал.
— Сон на посту карается по закону! — воскликнула она, подходя к дремавшему деду, и тот виновато замигал глазками.
— Ночью что будешь делать? Отстреливаться или танки считать? Или думы думать?
— Мышей буду ловить, — улыбнулся дед и потянулся за костылем.
— Пойдем на кухню. Там Яна Васильевна пришла, а мне сегодня печатать много нужно. Поговоришь с ней вместо меня?
— Отчего ж не поговорить, поговорю. А сколько надо часов разговаривать?
— Ну, часом не отделаешься, обидится. Пока дети не придут, говори, а потом сворачивайся.
— Что делать, — покорно вздохнул дед и принялся надевать при помощи палочки тапки.
Лида машинально прибрала газеты, сложила книги, поправила покрывало на кресле, заглянула в цветник. Земля была сухой и бледной, будто заболела за неделю неизвестной болезнью. Листья у пегатого болотного цветка пожелтели и скукожились. Лида растерянно их разглядывала, не веря своим глазам, и вдруг почувствовала, что по щекам катятся горячие слезы.
— А что это у нас с цветами? — тихо всхлипнула она, но дед ничего не ответил. Он уже громыхал костылями, отважно пробираясь по узкому проходу заставленной комнаты-пенала на новое боевое задание.
Дед был героем. Восемьдесят восемь лет его боевой и трудовой жизни не разрушили окончательно его тела, хоть и сильно его поломали. Дед стойко воевал со старостью и дряхлостью и был всегда на ногах. По утрам, когда в квартире все еще спали, он потихоньку ковылял вдоль длинного, тусклого коридора, разучивая на музыкальном паркете детскую пьеску слабыми ногами разной длины и острыми, впивающимися в клавиши паркета костылями. Паркет выл и визжал от боли, но музыка звучала громко. Тогда в соседних комнатах жили соседи, и они каждый вечер со стоном жаловались Лиде на деда. Лида спала по утрам крепко и музыка ей не мешала, но ради соседей она договорилась с дедом, что тот откажется от утренней зарядки. Тот сначала согласился, но потом соседи доложили ей, что упорный дед в шерстяных носочках и без костылей все равно шлепает по коридору, скользя шершавыми руками по хрупким обоям и тренируется, выдавливая из паркета приглушенные, тоскливые звуки. А это для соседей еще хуже, потому что они просыпаются в испуге. Дед не хотел быть обузой и боялся залечь от слабости ног. Все Лидины убеждения на него не подействовали. Он все равно делал зарядку в общем коридоре.
В конце концов соседи уехали на два года в загранкомандировку, чтобы заработать денег и купить отдельную квартиру.
— Георгий Ефимович! Нам так повезло, так повезло! Это за наше великое терпение! Столько мы вынесли, столько вытерпели! — делилась с дедом счастливая Ирочка. — И вам теперь свобода передвижения, и мы от вас отдохнем.
— Да, жизнь такова, — соглашался дед, мигая голубыми глазками и искренне радуясь чужой радости. — Только жарко вам будет в этой Африке. Там болезни всякие непонятные.
— А где они понятные, Георгий Ефимович? Я согласна хоть в сауне жить, лишь бы по утрам спать спокойно.
— Это как посмотреть, — философски не соглашался дед, но и не спорил на прощанье.
После их отъезда на кухне стало пусто, скучно и неуютно. Лида сделала перестановку, подклеила, подкрасила и получилось даже почти по-домашнему. Коммуналка, которую она еле терпела, без соседей стала немного походить на жилье. Словно закрылся старый, никому не нужный вокзал и ей сказали, что это теперь ее родной дом да конца жизни. Лиде очень хотелось в это верить, но каждая вещь, словно расписание поездов, напоминала, что все-таки это — вокзал, закрытый до особого распоряжения начальства.
В последнее время ей казалось, что поезда ушли навсегда, а пустые рельсы ржавеют, зарастают бурьяном, и никто никогда уже не появится в обшарпанном зале ожидания счастья. Вот только чужие вещи, сгруженные в прихожей, трогать было нельзя, а так бы Лида отремонтировала все, включая и музыкальный паркет.
На кухне разговор кипел вовсю. Начупыренная Яна Васильевна изливала душу насчет бомжей, дед трудолюбиво слушал. Изредка он согласно кивал головой, хотя при этом категорично возражал. Яна Васильевна, теряя дар речи, стопорилась и, целясь указательным пальцем в переносицу, таращила глаза, будто хотела застрелиться пальцем в лоб.
— Вы что имеете в виду? — уточняла она сухим, напряженным голосом.
— Согласен, согласен, — кивал дед, и Яна Васильевна вынуждена была продолжать.
Лида, натянуто улыбнувшись, налила себе чай, быстро смастерила бутерброд и мышкой выскользнула из кухни. В этот момент хлопнула входная дверь и в прихожей затопали и завозмущались.
— Пришли? — выглянула из комнаты Лида и пошла навстречу детям.
Раскрасневшиеся Ванька и Зоя снимали обувь, подталкивая друг друга локтями.
— Мыть руки и за стол, — приказала Лида, незаметным движением руки растаскивая их в стороны.
Всю жизнь она мечтала родить сына, но так сложно эта жизнь сложилась, что сына она не родила. Зоя выросла в одно мгновенье, хотя растить ее было тяжело. Как-то, вернувшись поздно из кинотеатра, Зоя схватила телефон и ушла на кухню. Лида по привычке пошла за ней, спросить, как фильм. Зоя, прикрывая трубку ладошкой, глянула на нее холодным, отталкивающим взглядом и поморщилась: не мешай! В тот миг Лида ощутила жуткую пустоту, провал во времени и пространстве, яму, которую придется перепрыгнуть, а там, на том берегу — полное и безысходное одиночество.
Зоя тоже почувствовала потом неладное, но прощения просить не стала, — не умела, а сказала только жестко, выдавив из себя как необходимое для матери лекарство, будто последнюю копейку нищей бросила: «Выходи замуж. Хватит жить для других. У меня ведь теперь жизнь своя, а не твоя».
И что-то рухнуло тогда в Лиде. Она пошла на кухню, уставилась в старинное мутное зеркало и долго смотрела сквозь него невидящим себя взглядом, а потом принялась стирать Зойкино бельишко. Конечно, она ей все равно будет нужна, потому что Зойка не любила стирать, убирать и готовить. Хотя училась хорошо…
А потом у них появился Ванька. Старший Лидин брат Тимофей развелся с женой Тамарой, женился второй раз на молоденькой, шустрой девчонке Оле, полюбившей его за сентиментальные стихи и фантастическую прозу, которую Тимофей выдавал миру килограммами. Работал он тогда директором магазина, а Тамара, была медсестрой на скорой помощи. Тимоха завертелся, закружился по жизни, набравшись в бушующем океане перестроечного времени звонких случайных монет, широких жестов, крутых замашек и властных манер.
Добрый трудяга Тимоха, золотой медалист, краснодипломник, налился разноцветьем богача и баловня судьбы, как борода раздраженного индюка. Оленька родила сына Ваню. Потом Тимоха проигрался где-то в рулетку, отдал за долги две квартиры, машину и начал пить по-черному. Оленька несколько раз возила его на отдых за границу, оставляя маленького Ваню Лиде. В последнем путешествии Оленька потерялась, и Тимоха вернулся домой один. Неделю он валялся на Лидином диване под охи и вздохи сидящего неустанно в его ногах деда. Потом ему надоели дедовы нравоучения и он уехал в деревню, в старенький дедов дом, пообещав его до лета отремонтировать, а летом взять все семейство на отдых.
— Тетя Лида, — ласковый Ванька потерся щекой об ее руку. — Можно мне сходить погулять еще?
— Не выдумывай! — строго сказала Лида. — Уже ночь-заполночь, а ты разгулялся.
— Пока Янка-обезьянка сидит там, я погуляю.
— Что это такое?! — возмутилась Лида — Надо говорить Яна Васильевна! Идемте кушать.
— Ухожу, ухожу! — встретила их приветливо на кухне Яна Васильевна, но никуда не пошла.
— Как мальчик подвос. Свавный ребенок, — расплылась она в улыбке, оглядывая крепыша Ваньку с головы до ног, и неловкими пухлыми руками старательно поглаживала его по голове. Ванька набычился.
— Ну, мне пора, — вздохнула соседка, поудобнее уселась на стул и язвительно добавила:
— А Ванечка не поздоровався.
— Угу, — послушно поздоровался Ванька, а дед натянуто закряхтел:
— Вот ведь какая наша жизнь, Яна Васильевна. Какая-никакая, а доживать надо…И осталось-то совсем немножко.
Яна Васильевна исподлобья глянула на деда:
— Георгий Ефимович!
— А что? Мы уже с вами старики. Лишь бы только не сожгли. Вы как предпочитаете, Яна Васильевна: кремироваться или по-людски, по-православному в могилке расположиться?
Деду такая тема близкой не была, но он спокойно рассуждал о неминуемом.
Яна Васильевна побелела, прижала холеные ручки к груди, затравлено зыркнула по сторонам и вскочила со стула:
— Пожалуй, я пойду? — спросила она.
— Да, это проблема… — вздохнул дед.
Яна Васильевна поспешила к двери. Ее каблучки вмиг обмякли, так же, как и их хозяйка, стали слабыми, неуверенными, будто их подковали войлочными набойками. Яна Васильевна осторожно прошаркала на цыпочках по коридору к выходу и паркет зашипел, засипел под ней, простудившись и охрипнув за несколько секунд перенапряжения.
Лида пошла закрывать за ней дверь.
— Молодец, командир, — похвалил Ванька деда. — Так ей и надо, а то пять раз «До свиданья» и ни разу не уйдет. Сидит, нервы мне мотает. Руки кремом намажет, а об мою голову потом вытирает.
— Зря ты так на нее. Она хорошая женщина. Старших надо уважать.
— Дед! Зачем ты опять?! — возмутилась вернувшаяся Лида. — Завтра мне часа два слушать лекцию о твоем поведении. А тебе что, трудно поздороваться?! — набросилась она на Ваньку, отнимая у него кусок булки и подталкивая к столу. — Ешь, как положено!
--- И к тому же, мне учительница на него пожаловалась. Больше не буду ходить за ним в школу. – сказала появившаяся в дверях Зоя.
— Что случилось? — строго спросила Лида.
— Дрался, — вздохнула Зоя.
— Что такое? — ледяным тоном спросила Лида, глядя на Ванькину макушку.
— Когда я ем, я глух и нем, — прошепелявил Ванька с набитым ртом. — Отвечать не могу.
— Нет, пусть ответит, — настаивала Зоя.
— А сегодня тебе Стасик звонил. Или этот, как его, как звать-то, забыл… — Дед напряженно уставился в стол и застучал ложкой, стараясь разбудить задремавшую память. — Ну как его, Вань?
— Игорь? — кивнул Ванька.
— Не, не Игорь, другой…
— Се-ре-жа… — упавшим голосом промямлила Зоя.
— Кому звонили? Зое или мне? — оживилась Лида.
— Что тебе-то? Мне, правда, дед?
Дед виновато взглянул на Лиду и вздохнул.
— Зое. Но и тебе тоже звонили. Два раза. Не представились. А потом еще два раза и трубку положили, не стали разговаривать со мной.
— А что с тобой говорить?! — воскликнула Зоя в сердцах. — Кричишь «Слухаю! Алле! «, как на пожаре. Сколько раз говорила, не «Алле», а просто «Але»!
Зоя вскочила из-за стола, потом вернулась, схватила булочку и побежала в свою комнату безутешно, горько рыдать. Лида нерешительно пошла ее успокаивать.
Некоторое время дед молча жевал. Ванька, опустив плечи, потерянно смотрел в пол.
— Кого бил? — деловито спросил дед.
— Мишу.
— За что?
— За дело.
— Точно за дело? Отвечай по закону военного времени!
— Точно, — прошептал Ванька, кривя губу.
— А реветь чего собрался?
— Не собрался я…
— До крови бил?
— Да.
— До чьей?
— До моей.
— Покажь!
Ванька повернулся боком и выставил на обозрение деда распухшее, посиневшее ухо с глубокой царапиной на мочке.
— А хочешь, второе отдеру? — предложил дед.
— Не хочу, — сердито сказал Ванька и встал из-за стола на всякий случай подальше.
— Будешь отходить, отдеру.
— Не догонишь, — буркнул Ванька.
— Я не расслышал.
— Говорю, за дело бил, за дело, — гаркнул Ванька.
— Раз за дело, то иди. Я тебе верю. А в следующий раз проверю. И еще к директору схожу.
Ванька представил, как дедуля ковыляет в школу на своих костылях, уткнувшись носом в землю, и содрогнулся:
— Не дойдешь.
Дед сурово посмотрел прямо в его глаза, долго, не мигая, молчал, крепко сжав губы и, когда Ванька стал изнемогать под тяжестью его взгляда, сказал:
— Дойду.
И Ванька принялся мыть посуду.
— Сколько нарядов вне очереди? — деловито осведомился он.
— Три пока, — смилостивился дед. Он перекрестился и стал вставать.
— А ты как? Ни здрасьте, ни до свиданья, ни спасибо, ни пожалуйста? — поинтересовался он, ковыляя мимо Ваньки. Ванька скоренько перекрестился мокрой рукой, словно отмахнулся от деда. Дед молча встал за его спиной и выжидающе замер, упершись взглядом в колючие Ванькины лопатки.
— Да помолюсь я потом! Почему я при тебе должен? — занервничал Ванька, и дед зашаркал в свою комнату.
* * *
Когда все улеглись, Лида забросила в стиральную машину грязное белье, включила ее и села за бумаги. Нужно было написать два исковых заявления и жалобу. Все три дела сливались от усталости в одно, все три направления упорно свивались в клубок и не было никаких сил распутать этого кошмарного, шевелящегося осьминога. Лида сварила крепкий кофе, успела его выпить, но тут пришла пора выгружать из машины белье и развешивать его.
«Когда мне писать? — утешала себя Лида, — Столько дел!» Но мерзкий осьминог трех чужих проблем присосался к совести и мучил ее, не отпуская. Лида загрузила новую партию белья и снова стала варить кофе.
— Сейчас я тебя все-таки заставлю! Никуда не денешься, будешь писать!— приказала она своей руке и села за стол. Она разложила бумаги на три стопки, долго смотрела на них как на врагов и, наконец, решительно схватив первую стопку, принялась изучать материалы. Уставший мозг ничего не воспринимал и, чуть встрепенувшись в начале абзаца, задремывал к его окончанию, потом вздрагивал в начале следующей строки и затихал, приближаясь к очередной точке. Лида старательно таращила глаза, терла переносицу и лоб, будила себя и принималась читать снова. Обессилев от этой бесполезной борьбы, она откинулась на спинку стула, закрыла глаза.
Тут отключилась стиральная машина, и Лида поспешила выгружать белье. Мимоходом взглянув в зеркало, подумала, какая же все-таки она несчастная. Потом села писать исковое заявление. Оно быстро и ловко составилось, будто даже без ее помощи.
«Неплохо», — похвалила она себя и принялась за жалобу. Наскоро карандашом отметила основные моменты, изложила на полях ссылки на нормы права, уже точно зная, что завтра на компьютере все с ходу нашлепает. Жалоба, которая планировалась быть длинной и занудной, превратится в одну страничку жесткого текста.
Задумалась, глядя в черное окно.
А глаза у него голубые. И он их прячет. Но неумело прячет, не успевает. Она специально смотрит по сторонам, когда читает лекцию, и в какой-нибудь самый неожиданный момент, когда они все завороженно слушают, она смотрит на него и застает врасплох. Она умеет читать по глазам, и он это понял. Он стал писать лекцию, не отрывая головы от тетради. Но тогда она принялась делать долгие паузы. Такие долгие, что староста недоумевал: «У нас перерыв, что ли?» Лида злилась на себя, но три часа видеть только его макушку она не могла. А сегодня он проиграл. В момент захвата он внимательно изучал ее руки, книги, лежащие на столе. Не прерывая лекции, она напряженно ждала. Сейчас, сейчас, он взглянет и поймет, что пойман! Он сделает серьезное лицо, опустит глаза и примется аккуратно писать. А он вдруг стал пристально смотреть на нее. Она стала заикаться и повторять уже сказанное. Потом все слова вовсе пропали, и она замолчала. Он еле уловимо победно улыбнулся. Словно ниоткуда в никуда смотрел и улыбался. Сквозь нее, сквозь время, сквозь стену за ее спиной. Это был взгляд из прошлого, где она его знала, где они были рядом, вместе... Кем они были там? Кто они были? Она опустила глаза. Сказала твердо «Перерыв» и тихо вышла из аудитории.
«Господи! Какая я несчастная!»— прошептала Лида, глядя на себя в зеркало. «Ка-ка-я я не-счаст-на-я-я!»— пропела она шепотом, боясь кого-нибудь разбудить. В мутноватом зеркале сияло чье-то радостное лицо, еле уловимо напоминавшее лицо Лиды.
* * *
Утром зазвонил телефон. Или ночью. Лида не поняла, какое время суток. Она вскочила с дивана и, схватив трубку, поспешила на кухню, чтобы не разбудить деда. В темноте пошарила рукой по стене в поисках выключателя и другой рукой нечаянно нажала на какие-то кнопки в радиотрубке. Звонок сорвался. Лида уныло включила газ и поставила чайник. На стареньком электронном будильнике стрелки показывали шесть часов утра. Телефон зазвонил снова.
— Да!
— Лидок, ты представляешь, я приехала! — удивляясь чему-то пробасила Маринка.
— И что?
— Я разбудила тебя? Привет…
— Не. Я ложусь в два, а встаю в пять, — съязвила Лида, потому что Маринке можно было съязвить.
— Ты извини, я потеряла чувство времени, — жалостливо сказала Маринка.
— Где, в Египте?
— Не знаю, где…
— Ты еще и совесть потеряла. Когда прилетела?
— Сейчас, — потерянно произнесла Маринка и вроде бы всхлипнула.
— И что случилось?
— Он поставил еще один замок. Мне не попасть домой. Можно я приеду к тебе пожить немножко?
— Едь, — коротко сказала Лида.
— Ага, — обрадовалась Маринка и отключилась, так как берегла время своего дорогого сотика.
Через пять минут раздался звонок в дверь. Маринка ввалилась в клубах морозного воздуха в окружении двух крупных чемоданов, вся загорелая, модная, заграничная, с размазанной по щекам черной тушью.
— Иди мойся, — грустно сказала Лида. — Я пошла спать, у меня суд.
— А мне где потом лечь? Я сначала чаю попью. Ты попьешь со мной? Все в порядке у вас? Какие новости на работе? — тараторила Маринка, бережно отряхивая длинную, волосатую дубленку.
— Это Ванькина куртка? Маринка подозрительно оглядела черный Ванькин пуховик и нерешительно прижала к груди снятую дубленку.
— Я пошла спать.
— А я где?
— Где хочешь. Раздвинь кресло или ляг со мной.
Лида пошла по коридору, натыкаясь, как лунатик, на вещи и держась руками за стенки.
— Ты нормально себя чувствуешь? — заботливо спросила Маринка, пробираясь вместе в дубленками следом за Лидой. — Не заболела?
— Полет нормальный, — кивнула Лида и порулила в свою комнату.
Она легла, накрывшись наглухо одеялом, но сон пропал. Сердито сопел дед, видно, тоже проснулся. С кухни донеслось звяканье и бряканье. Лида не любила чужих людей в доме, хоть Маринка и была своя. Лида засыпала только тогда, когда засыпали все. Если кто-то бродил по квартире, она, как чуткая сторожевая собака, поднимала голову с подушки и напряженно прислушивалась: нет ли опасности?
Лида повернулась лицом к стенке и старательно зажмурилась. И вновь возникло его лицо. Да что же это такое! Что ж делать-то? Ничего в нем особенного нет, в этом лице, а стоит перед глазами, будто нарисовано. Да не нарисовано, а высечено! Из каменной глыбы. И лицо, и фигура. И сам он как из глыбы. Когда завкафедрой Анна Ивановна попросила ее прочитать курс лекций, Лида, сославшись на перегрузку, отказалась. Но Анна Ивановна звонила до тех пор, пока она не согласилась.
— Группа маленькая, вам знакомая, они вас любят, уважают, и всего-то 22 часа! Раз в неделю, в удобное для вас время. Оплату повысим.
Это вот «повысим» и сыграло роль. Зойка ходила в старой шубке, а Ванька приболел — никак не мог привыкнуть к сырому питерскому климату.
В аудитории № 303 она прождала свою группу минут двадцать. Никто не подошел. Но ведь не могла целая группа перепутать расписание, и Лида вышла в коридор в полной растерянности. Возле двери в соседнюю аудиторию увидела его. Он напряженно смотрел в даль длинного коридора. Скользнул по ней взглядом, прямо посмотрел в глаза. Теперь уже никто так не смотрит в глаза незнакомым людям — спокойно и просто: ни интереса, ни вопроса, ни напряжения. Вот — я, вот — вы и все. Лида двинулась к нему, словно иголка к магниту.
— Какая группа в этой аудитории? — спросила она.
— Семнадцатая.
— Какой предмет у вас?
— Гражданский процесс.
— А кто преподаватель?
— Никого нет, — вздохнул он и улыбнулся. Суровое лицо, будто высеченное из камня, сразу стало озорным. — Может — вы?
— Может быть… Наверное, я, — кивнула Лида и вошла в аудиторию.
Оказалось, что завкафедрой что-то спутала, и в этой огромной, незнакомой группе ей пришлось читать вовсе не 22, а 44 часа. И следующее занятие завтра вечером.
«Какая я несчастная!»— сладко улыбнулась Лида в ожидании завтрашнего вечера и повернулась на другой бок.
— Лидок, а Лидок! А как эта колонка включается? — прошептала в дверную щель Маринка.
— Как всегда, через раз, — прошептала в ответ Лида.
— А включи мне, пожалуйста, колонку, а то мне никак! Я помыться хочу!
Лида поднялась и нехотя пошла на кухню.
— Засну ведь на суде, — укоризненно сказала она Маринке.
— Там разбудят, — пообещала ей подружка, брезгливо оглядывая старую коммунальную ванну и провисший потолок над ней.
— А посторожи меня, вдруг тут все обвалится, — попросила она.
— Слушай, — одернула ее Лида. — Вот тебе швабра. Одной рукой держи потолок, а другой мойся. Через три минуты меняй руки.
Она всучила растерявшейся Маринке лохматую швабру, включила молча газовую колонку и строевым шагом промаршировала в спальню.
--- Грубо! – заметила Маринка, но спорить не стала. Что означал строевой шаг в исполнении Лиды, она знала не понаслышке.
* * *
В восемь часов утра позвонила Ванькина классная дама — очень классная дама — и пригласила Лиду к директору.
— Пора прекращать эти безобразия, Лидия Павловна.
— Да, будем прекращать, — пообещала ей Лида.
— Подьем, дети!
Зойка вставала хорошо, без всяких «пяти минуток», а вот Ванька с утра был увальнем.
— Раскачивайся, просыпайся, Иван Тимофеевич! — велела Лида, вытаскивая ему из шкафа чистые носки и рубашку.
— Наряжайтесь, Иван Тимофеевич! — бодро сказала она, и Ванькин сон пропал.
— А чего — Иван Тимофеевич? Чего не Ваня?
— Да, а чего? — переспросила Зоя.
Ванька принялся виновато надевать штаны.
— К директору, что ли? — неуверенно спросил он.
— А как вы думали, Иван Тимофеевич, синяком отделались?
— Баран, — буркнула Зоя.
— Ответишь за барана, — огрызнулся Ванька.
— Вот и узнаем, кто баран,— пообещала Лида и ушла на кухню.
Ванька тут же возник из-под локтя:
— Тетя Лида, а ты обещала мне рассказать про разные страны, — осторожно напомнил он.
— Как не рассказать, расскажу после визита к директору.
— Деду не говори, — тяжело вздохнул Ванька.
— Боишься?
— Не, не боюсь, я его жалею…
— Остолоп, — процедила сквозь зубы Зоя, закрыв за собой дверь туалета.
— Чтоб ты там утонула! — воскликнул Ванька.
— Сейчас оба заработаете! — пригрозила Лида. — Деда он жалеет, бережет. А меня кто беречь будет?
— Я буду… Потом…
Ванька оттопырил губу и запыхтел. Лида почувствовала, что ее нижняя губа тоже соскользнула с места и она прижала ее покрепче.
— Ладно…Не переживай… Я разберусь. Но если виноват, будешь наказан еще и за ложь!
— Оба виноваты.
— Вот видишь!
— А кто к нам приходил? — воскликнула в прихожей Зоя. — Чье это имущество?
— Тихо, не кричи. Это тетя Марина.
— От Петечки ушла, от Юрочки ушла, от Васеньки ушла… — запела Зоя.
— От дяди Пети, — поправила ее Лида.
— А от тебя, Лидочка, никто никогда не уйдет, — устало вздохнула Зоя.
— Уйдет-уйдет, — пообкщала ее Лида, поправляя рюкзак на Ванькиной спине.
— Взрослые, а как дети, — недовольно протянула Зоя, — Сходятся, расходятся, дурью маются.
У дверей, цепляясь за Маринкины чемоданы, они стали одеваться и обуваться, подталкивая друг друга локтями и коленками. Дедова дверь со скрипом отворилась, и в проеме показалась почти лысая дедова голова, похожая на облетевший пушистый одуванчик с мигающими голубыми глазками.
— Уходите? — спросил дед.
— Там Маринка спит, — тихим, напряженным шепотом сообщила Лида, — Она накормит тебя.
— Знаю, знаю. Разберемся, — кивнул дед. — А это, Вань, насчет вчерашнего…
— А насчет вчерашнего, — подбоченилась Зоя, заслоняя Ваньку спиной. — Я так тебе скажу: «Алле, слухаю!» не говорить, не позорить меня! Говори: «Алло!»
--- Вань, Вань! — дед грозно поднял костыль над головой. — Ежели что, я их костылем. Ты себя в обиду не давай!
— Я себя не дам, — пообещал Ванька.
— Ты что это, дед, ты чему его учишь? — возмутилась Лида. — Не с той ноги встал, костылем машешь?
— А директору так скажешь, — дед тяжело задышал, заволновался, зашмыгал носом, подбирая нужные слова, — Ванятка! Слышь меня? Я надену костюм, все ордена и медали, и пойду к нему разбираться.
Лида переглянулась с детьми.
— Вояка…
Зойка хитро прищурилась и подмигнула Лиде:
— Шпион. Все подслушал. Она подтолкнула Ваньку к двери, Лида послушно проследовала за ними, оставляя на целый день расстроенного деда наедине с тяжелыми думами.
* * *
Директор школы был дипломатом, иначе он не продержался бы столько лет на своем месте в дамском коллективе. Он быстренько раздал «всем сестрам по серьгам», и Лида мысленно примерила выданную ей серьгу, сравнивая ее со второй. Вторая сережка была явно не из пары — побогаче и подороже. У директора было много «серег», и он по старости и по занятости путался в своем собранном за долгие годы богатстве.
Мама Алика — побитого мальчика — выглядела, как королева, чьи войска только что одержали победу. Она высоко поднимала голову, отчего мелкий подбородок стремился к носу, а тяжелый нос прижимался к накрашенным губам. Высоко поднятые возмущенные брови натягивали на лицо пышную, начесанную челку, которая занавешивала глаза. Казалось, все черты лица выстроились в лучи, центр которых стремился сосредоточиться в кончике носа.
Лида разглядывала в упор ее профиль, отыскивая положенную природой гармонию, которая по непонятным причинам была так грубо нарушена.
— Я выучил много поколений и вот теперь пишу об этом.
Директор Федор Иванович взял со стола книгу и протянул ее Лиде. Лида с трудом оторвала тяжелый взгляд от Аликовой мамы и взяла книгу.
«Миротворец», — подумала она по-доброму.
— Давно издали, Федор Иванович?
— В прошлом году, — сказал директор, заулыбался и зарделся так, что сквозь пушок волос зарозовела готовая стать лысой макушка.
— Тираж большой? — поинтересовалась Лида.
Улыбка слетела с губ директора, как мотылек с листка, и он печально вздохнул:
— Триста экземпляров.
— И все же, Федор Иванович, — прервала его Аликова мама, — Я хотела бы иметь гарантии в том, что мой ребенок будет спокойно учиться. Я думаю, ваша школа, известная в городе своими традициями, обеспечит безопасность и надежность обучения детей.
Директор согласно закивал, поглядывая на свою книгу с болью в глазах и неуверенно вертя ее в руках.
— Ваша книга — это моя настольная книга. Мой муж купил ее в прошлом году и вот…
Аликова мама закопошилась в сумочке и вытащила точно такую же.
— Прошу автограф.
Директор обомлел. Он трепетно принял книгу в руки и стал ее разглядывать, будто это была бомба. Потом он суетливо захлопал по столу ладонью в поисках ручки, и Лида поняла, что теперь Ваньке придется туго.
Пока автор ворковал с читателем о своем произведении, Лида незаметно положила второй экземпляр на краешек стола, ожидая удобную для прощания минуту.
— Понимаете, Федор Иванович, все упирается в социальное неравенство. Дети из семей с разным достатком неизбежно враждуют, — мимоходом вставила Аликова мама. — Вам нужно корректировать классы.
— У вас разный достаток? — спросил директор.
— Наш папа — состоятельный человек, а у Вани отца нет. Ваня завидует Алику. Это понятно.
Она выразительно посмотрела на Лиду. Лида тихо застучала по полу носком сапога.
— Но Лидия Павловна — адвокат, — неуверенно начал директор, — и мне кажется, что их семья…
— В том-то и дело, — грустно тряхнула головой Аликина мама. — К сожалению, деловым женщинам, тем более с такой профессией, некогда заниматься воспитанием детей. И при этом, в коммунальной квартире. Чему могут научиться дети, если рядом — грубость, пошлость, бытовая неустроенность, нищета в конце концов. Коммунальные квартиры — беда нашего города, Федор Иванович! Вы со мной согласны? И коммунальные дети тоже. Тем более, что Лидия Павловна не является матерью Ивана.
«Ну и все. Достаточно.», — грустно подумала Лида и аккуратно прижала носок сапога к полу. В душе воцарилось мертвое спокойствие. Она прищурила глаза и стала буравить стены. Уже казалось, что виднеются силуэты детей, сидящих в классе за той стеной, еще секунда, другая, и она начнет разглядывать их лица, потом станет различать цвет глаз, бантиков, потом увидит и прочитает все, что написано в их тетрадках, шепнет на ушко, где у кого какая ошибочка вышла…
Директор открывал и закрывал рот, Аликова мама делала то же самое, а Лида с лышала только гулкий, бешенный бой своего сердца.
— Можно идти? — бесцветно спросила Лида.
Директор снова зашевелил губами, сделал несколько жестов руками и Лида натянуто улыбнулась ему, пятясь спиной к двери. Мозг ее отключился, задохнувшись в какой-то властной волне, которой теперь подчинится во всем до конца. Мозг не слушался, Лида поняла это, столкнувшись с учительницей по литературе. Та тоже открывала рот, шевелила губами, показывая белые и золотые зубы, и Лида послушно их разглядывала, будто была зубным врачом. Краешком сознания Лида уловила, что учительница хвалит то ли Ваньку, то ли Зою, кого-то из ее детей, но ведь только что сказали, что Ванька сирота… Ее обкатывала очередная горячая волна и она снова задыхалась от ожога. Лида проронила «да-да», и учительница не удивилась. В голове звенело, сердце бухало, словно за спиной шел каменный человек-невидимка. Лида вышла в холл и встала за колонной. Шел урок, и рядом никого не было. Аликова мама процокала на тонких каблучках мимо нее.
— Одну минуточку, — глухо сказала Лида.
Женщина вздрогнула, отшатнулась и прибавила шагу.
— Будьте добры, послушайте меня, — вежливо попросила Лида.
— Я не имею никакого желания общаться с вами. Только в кабинете директора.
Лида кивнула и упорно пошла за ней, понимая, что загоняет себя в тупик. Женщина хлопнула входной дверью прямо перед ее носом и вышла на улицу. Лида торопливо открыла дверь, слыша, как человек-невидимка в железных сапогах за ее спиной, бежит во весь опор.
— Что тебе надо? — испуганно спросила женщина.
В ответ на это Лидина ладонь вкрадчивой, дрожащей змеей мягко подползла к воротнику ее дорогой дубленки, вцепилась мертвой хваткой в длинный, кудрявый ворс ворота и выкрутила захваченную в горсть шерсть. Пальцы побелели и хрустнули. Лида медленно притянула женщину к себе, ощущая в своей руке столько силы, что не удивилась бы в этот момент, придвинув к своему лицу паровоз с вагонами.
Женщина вскрикнула, замахала руками, пытаясь освободиться от Лиды, но вторая рука, как краб нависла над ее лицом, грозя впиться в вязкую трясину нарумяненных щек.
— Если хоть один волосок, — зашипела Лида, выговаривая слова по слогам. — Хоть один волосок с головы моего ребенка… Напоминаю: моего! ребенка…
Черные глазки послушно и безропотно мигали. Лида почувствовала, что это — жертва…
От автомобиля бежал огромный парень-охранник, из другой дверцы вылезал толстый водитель в черном костюме.
— Не шути со мной… — прошептала Лида и разжала руку.
Она медленно развернулась и пошла прочь от охранника, ожидая удара.
Не осознавая смысла и цели своих действий, слыша за спиной торопливые шаги железного человека-невидимки, она дошла до станции метро, вместе с толпой просочилась сквозь узкие тараканьи щели турникетов в сияющее медицинским, предоперационным светом горло станции и поехала на эскалаторе по рифленому пищеводу. Она разглядывала лица поднимающихся навстречу людей и люди казались ей кусками непереработанной пищи, прошедшей по черным, бесконечным кишкам подземного чудовища, отвергнутые и извергаемые из нутра, как нечто неудобоваримое. Сама она, как очередной кусок живого мяса, вот-вот должна была ступить на гладкий пол станции, чтобы рассредоточиться вместе со всеми по узким порционным вагончикам, запихиваясь туда, как фарш в сосиски, разложенные на сверкающем мраморе.
Хаотичное разноцветье людей организовывалось в стройные потоки, ручейки и струйки. Два самых крупных потока плыли по эскалаторам. Струйки вливались и выливались из дверей вагончиков и все это свистело, гремело и гудело монотонно и нудно, прерываясь изредка испуганным визгом поездов и мертвым громким голосом. Голос утробного подземелья спускался из-под сводов и теребил волосы, будто гладил беспощадной рукой палача. И в целом казалось, что все это чудовище — огромная натянутая человечеством струна, ржавеющая и истончающаяся под толщей земли, в напряженном гуле бесконечной обиды. Чтобы не прекратилось ожидание освобождения, струна эта вытягивает из каждого человека понемногу сил, энергии, радости, и потому не замолкает, не лопается на сверхопасной частоте ультразвукового взвизга тормозов поезда и падающего под колеса неживого баса подземного рекламного голоса. В центре зала ручейки и струйки людей упирались в препятствие, образованное толпой. Внутри кучки людей мелькнул белый халат, и Лида поняла, что там что-то случилось. Она отвернулась и торопливо просочилась в разверзнутую дверь подкатившего вагона. Там, уткнувшись лбом в свою поднятую руку, словно спящая птица спрятав лицо под крыло, она закрыла глаза, чтобы ничего не видеть и ничего не слышать. Но крыло было слишком тонким и не позволяло отгородиться надежно от многолюдья. Приоткрыв глаза, Лида равнодушно уткнулась взглядом в веснушчатый, курносый нос рыжеволосой девушки с блестящим камушком в ноздре. Чуть выше, в бровь девушки вцепился словно клещ в кожу и повис на ней железный шарик. Лиде показалось, что при ходьбе этот шарик позвякивает и побрякивает, как колокольчик у блудной коровы или козы. У них в деревне таким гулякам-коровам хозяйки вешали украшения-колокольчики, чтобы отыскать потом их в густых зарослях по звуку.
И что надо было в этих зарослях? Трава там не растет, грибы коровы не едят, воды в трясине не напьешься, так нет, все равно прутся, расцарапывая лощеные бока острыми сучьями, зацепляясь рогами за коряги и пни, пока в каких-нибудь кряжистых буераках не переломают ноги или не свернут шею. Тут и колокольчик не поможет. Будет лежать на угощение волкам. И у этой курносой, судя по затравленному, жесткому взгляду голубых глаз, волки где-то совсем близко.
Девушка поднялась и уступила место старушке. Колокольчик не звякнул, а холодные глаза не потеплели. В движениях девушки был автоматизм часов, точно такой же, как у Лиды. Внутри часиков — умный механизм с тикающим сердечком и две ноги-стрелки одинаковой длины. Завели и ходят. Кончится завод и остановятся.
Лида спрятала лицо в сгиб локтя. Ворс полушубка неприятно щекотал кожу. Было плохо. Мерзко от самой себя. Лида зажмурилась и увидела желтый песок заброшенного деревенского пляжа. Даже не желтый, а розово-серый. По изрытой босыми ногами детворы пустыне песка ползли муравьишки. У одного в ротике был кусок добычи, другой пытался сдвинуть с места мертвую гусеницу, а поодаль на муравьиной тропке организованной колонной спешили из травы в траву то ли беженцы, то ли передовые войска. Кто ими командовал, было неизвестно, но бежали они сосредоточенно и целеустремленно, не мешая друг другу, не толкаясь, не создавая пробок. И всякая попытка организовать затор оканчивалась неудачей: колонна обходила проблемное место без колебаний, потому что пляжик был для муравьев планетой, и все они точно знали, куда и зачем спешат. Кто подарил муравьям такое знание, какого нет у Лиды?
Она вышла вместе с толпой по зову неживого голоса из вагона и направилась в потоке к эскалатору. Глаза ее внимательно изучали пятки впереди идущего человека, а мысли были все еще там, дома, где голубой, нежно поблескивающий мотылек прицепился тонкими, невесомыми лапками к засохшей былинке и спит себе, сложив крылышки, не ведая, как он преобразил весь мир этим легким присутствием голубого пятнышка на розово-сером фоне пустыни.
ххх
В консультации стоял привычный болезненный гул. Здоровый разум рассредоточивался по кабинкам и ближайшим кафе, сберегая себя от нездорового, а нездоровый бесспорно царствовал в общей массе и кучковался на центральной сцене — вокруг стола секретаря. Консультация была очень большой, даже слишком большой, и даже самой большой в городе. Секретарь Марьянка, невменяемая от обилия информации и внимания к ней, обложившаяся бумагами, шоколадками и кружками, очень похожая на обезьянку, сидела за своим столом, как в клетке зоопарка, благодарная за подношения и гордая собой. Марьянка озадаченно почесывала голову, впитывая вязкий, нескончаемый поток занудного рассказа адвоката Михаила. Михаил был хороший, дотошный адвокат, но ему не хватало женского внимания, а Марьянке уже не хватало свободы и тишины, и потому она счастливо заулыбалась вошедшей Лиде.
— Здравствуйте, Лидия Павловна! Вам три сообщения и письмо. И еще вы не встали на учет в Пенсионный фонд и еще вам надо списать ордера, но самое главное — встать на учет. У них там штраф десять тысяч, — выпалила Марьянка и облегченно вздохнула, не сводя глаз с Лиды, чтобы не встречаться с глазами прерванного на полуслове Миши. Но Миша терпеливо выжидал, когда он сможет продолжить.
— Миш, ты до пенсии собираешься жить? — вместо приветствия спросила Лида.
Напряженные глаза Миши посуровели, лоб наморщился.
— Это еще много, — покачал он головой, — Тем более, что в соответствии с последними изменениями в нашей жизни, Дума хочет повысить планку пенсионного возраста. Мужчинам до 65, а женщинам до шестидесяти.
— Ну и зачем мне становиться на учет? — выразительно спросила Лида Марьянку, и та несчастно вздохнула. Адвокатов в консультации было много, а Марьянка одна. И каждый норовил наступать и обороняться. Марьянке приходилось туго, и потому она избрала сцену, с которой вещала, как мудрый родитель-воспитатель глупым детям-адвокатам.
— Звонил Востриков по иску. Что-то очень сердитый. Потом Суворова ваша по земельному и… — Марьянка сделала хитрое лицо и понизила голос, — какой-то мужчина. Три раза. Не представился мне.
Лида улыбнулась и покачала головой. Марьянка умела поднимать настроение и перестроить любого на нужный ей лад.
— Красивый? — уточнила Лида.
— Очень! — мечтательно прошептала Марьянка. — Я обещала ему вас после четырех.
— Как долго ждать…
— А пусть помучается. Больше любить будет.
Миша растерянно посмотрел на Марьянку, потом на Лиду.
— Как это ты по телефону увидела его? — поинтересовался он.
— А вот увидела, — повела плечами Марьянка.
— Она — экстрасенс, видит все насквозь. Ты не поможешь мне разобраться в одном вопросе?
— Конечно.
Она тронула Мишу за плечо и направилась к кабинке. Миша послушно пошел следом. Профессиональная взаимовыручка была фундаментом добрых отношений между адвокатами в консультации.
Разложив бумаги на письменном столе в тесной кабинке-конуре, Лида вкратце описала ситуацию, и Миша с ходу вник.
— Надо признавать его утратившим право пользования. Ты иск составь, доказательственную базу сформируй, а там подкорректируем.
— Утратившим или не приобретшим? — уточнила Лида.
Миша задумался.
— Это совсем другое правовое основание.
— В том-то и дело.
— Надо подумать. У тебя есть жилищный кодекс? Я сейчас принесу.
Миша встал из-за стола и вышел из кабинки. Лида услышала, как в холле его заловила адвокат Ирина, требуя срочного разбирательства по ее делу.
— Подожди, Ирочка, у нас тут с Лидой разговор, — попытался отбиться Миша.
— У меня суд через два часа, а я ни в зуб ногой, — плаксиво причитала Ирина и, видно, тянула его в другую кабинку. — Ну, Миш, посоветуй мне! Там просто тупиковая ситуация, а Лида не торопится.
— Не тороплюсь, — сказала громко Лида и услышала в ответ покорный Мишин вздох.
Она устало положила голову на руки и закрыла глаза. Попыталась отключиться от мыслей и звуков на несколько минут. Такое полузабытье, полудрема всегда придавало силы и поднимало настроение. Так она отдыхала от занудных профессорских голосов на лекциях, прячась на последней парте за широкими спинами. А теперь вот сама нудит, мучает студентов, хоть и не профессор. Попробовал бы Вадим опустить голову на руки, тут же был бы объявлен подъем по тревоге.
«Доброе утро, страна!»— провозгласила она золотистым макушкам уснувших на задней парте девчонок. Те изумленно подняли головы, сонно озираясь по сторонам в поисках радио, стали сладко зевать. Страна и весь народ оживились, взбодрились, будто и действительно настало утро и нужно было приниматься за труд. С тех пор она всегда так их будила. Как только улавливала усталость в аудитории, замолкала на несколько секунд, будто отыскивая в тексте потерянную мысль. В эти мгновения они отключались от ее голоса и расслаблялись. А потом она громогласно объявляла: «Доброе утро!»— и все оживали.
Он в ответ на это хулиганство опускал глаза, словно ему было неловко за поведение преподавателя и улыбался сам себе снисходительной, отеческой улыбкой. И тогда она чувствовала себя расшалившейся маленькой девчонкой, защищенной от всех неожиданных грубостей большого мира. Тонкий, невидимый лучик сиял все-таки между ними, посылая тепло то одному, то другому, самостоятельно меняя направления потоков, необъяснимо существуя, торжествуя и властвуя. И ничего нельзя было поделать с этим непослушным самовольным лучиком, который одновременно согревал, оберегая, и жег очень больно.
«Я все это придумала», — прошептала Лида и, резко подняв голову, сурово глянула на бумаги. Миша на помощь не шел, а разбираться во всем одной не хотелось. Она понуро вышла из кабинки и направилась к телефону.
Телефоны, как всегда, были заняты. Над Марьянкой витал рой пустых слов и напряженных эмоций. К разгару дня вокруг стола секретаря организовывалось столпотворение требующих внимания адвокатов. Издерганная Марьянка пыталась отшучиваться, но уже плохо выговаривала окончания слов, а глаза ее были осоловелыми и потухшими. Молчать адвокаты умели только тогда, когда слушали клиента или судью. В остальное время все считали необходимым говорить со всеми и обо всем, что в целом означало бесконечный монолог вслух с самим собой.
— Лидок, ты чего такая грустная? — поинтересовалась кругленькая Аллочка. — Ничего не случилось?
— В том-то и дело, что ничего, — грустно улыбнулась Лида.
Аллочка была искренним человеком и не имела в запасе дежурных фраз. К тому же она никогда не обижалась по-настоящему, а если обижалась, то начинала горько и безутешно плакать ровно тридцать секунд. По истечении этого времени она поспешно утирала слезы, пудрила нос, красила губы, глаза и уже обсуждала какую-то другую проблему.
— Поплачь еще! — подтрунивал кто-нибудь, на что Аллочка удивленно восклицала:
— Мне что, делать больше нечего? Я и плакать-то не умею.
Лида прорвалась к освободившемуся телефону и набрала номер.
— Ты представляешь? — теребила ее за рукав Аллочка. — У меня еще два куренка сдохли. Жрут, как кони, а дохнут, как мухи.
— Чем ты их кормишь? — спросила Лида, прижимая ладонь к трубке.
— Гречневой крупой! — гордо вскинула голову Алла, потому что гречка была дороже других круп.
— Додумалась! Алло! Здравствуйте! — оживилась Лида и осеклась, забыв, куда она звонит. — Это канцелярия Приморского суда? Нет? А, кто? Да-да, это следователь Караваев? Вы-то мне и нужны…
Хаос звуков, подавивший воздух на мгновенье замер, затих, задумался и обратился в сдержанный смех.
Ведя монолог вслух, адвокаты не прекращали слышать мир вокруг и жадно ловили любую положительную эмоцию. Радости в работе было мало, поэтому всем всегда хотелось шутить, но не у всех это получалось.
Разговаривая со следователем, Лида почти уткнулась носом в крышку стола, чтобы слышать его.
— Что там у вас происходит? — строго спросил следователь Караваев. — Вы откуда звоните?
— Из цирка, Александр Ильич, как всегда, — отшутилась Лида и народ настороженно притих, цыкая друг на друга.
Аллочка елозила на стуле, нетерпеливо ожидая окончания Лидиного разговора и, судя по всему, собиралась пристать с массажем.
— Помни мне плечики, — заканючила она, едва Лида повесила трубку.
— Подожди, — отмахнулась Лида и вновь принялась звонить.
— И чего они дохнут-то? — не отстала Алла.
— Кто?
— Да курятки мои!
— А зачем ты их завела?
— Потому что все люди заводят и яйца имеют настоящие.
— Кто все?
— Вот у Зои живут же в кладовке? Живут.
— Так у нее перепелки. Тем более, что за ними смотрит Зоин муж, а ты всегда на работе.
— А чем куры хуже перепелок? Они даже лучше, и яйца крупнее.
— Логика присутствует, — кивнула Лида, — Но только женская.
Сделав еще несколько звонков, она мимоходом помяла круглые Аллочкины плечи и стала собираться на лекции.
— Сколько тебе там платят? — поинтересовалась Алла.
— Семнадцать копеек.
— Зачем тогда мучаешься? И так вся замотанная.
— А тебе куры зачем?
— Мне куры — для души! — сказала Аллочка, улыбнулась и счастливо вздохнула.
— Я их люблю. Вот только если бы не дохли. Но ничего, я еще подкуплю.
— Гречкой не корми. Давай им пшено, творог, яйцо, что там еще-то мама давала? — задумалась Лида.
— Гречка питательная — обиделась Алла. — Они ее любят. Уже ведро склевали. Знаешь, клюют, а потом мне улыбаются…
— А если все передохнут?
— Куплю новых. Типун тебе на язык.
Аллочка огорченно отвернулась от всех и молча принялась рыться в портфеле.
— Ну вот, обиделась, — растерялась Лида и погладила ее по плечу.
Та оттопырила губу и всхлипнула. Все растерянно замолчали.
— Что такое, Аллочка? — заволновался подоспевший Миша. — Кто тебя обидел?
— Мало того, что все меня не любят, так и моим курятам смерти хотят.
— Кто ж твоим курятам смерти хочет? — озадаченно переспросил Миша добрым, отцовским тоном
— Я, — печально призналась Лида и махнула рукой. — Нам всем дружно пора в психушку. Я пошла.
Она взяла портфель и, буркнув «до свидания», поспешила к выходу. Народ в консультации был тонкий, умный, но очень впечатлительный. Где еще и поплакать, как не в таком кругу, где поймут, утешут, по-доброму простят и, главное, никому не расскажут.
Уже в маршрутке Лида глянула на часы и поняла, что приедет на час раньше. Из-за этих Аллочкиных куренят ей придется болтаться в одиночестве по университету, пить кофе в кафешке, настораживая стайки веселых студентов своим серьезным видом. А так уже хочется снять эту тяжелую маску, от которой напрягается и мучается лицо, так хочется улыбнуться и поболтать с ними на равных. Может, бросить эту нудную работу и уйти из адвокатов?
Лида чувствовала, как медленно и уверенно меняется день за днем ее суть, будто ее запихнули в тиски и накрыли сверху бетонной плитой. Тело постепенно сплющивается, срастается, превращается в плотный, строгий куб. Непробиваемые стены обстоятельств творят необратимый процесс. Еще немного, и все живые части прилипнут, прирастут друг к другу окончательно, и даже если случится какое-то чудо, и разрушатся, превратятся в крошку камни и бетон, она все равно так и останется навсегда этим правильным, строгим, ровным кубом, не сумев высоко поднять голову, широко раскинуть руки, вдохнуть полной грудью и побежать свободно и легко, радуясь и веселясь. Ей уже будет не нужна свобода, потому что там не ясно, чем заниматься замученному тисками человеку.
И то же самое происходит с душой. Откуда-то изнутри порой выскальзывает ловкий солнечный зайчик и скачет по лицу, по губам, по глазам, освещая и веселя их. Но невидимая тяжелая ладонь беспощадно хлопает по нему, пытаясь поймать или убить вовсе. Он тут же прячется где-то и долго не показывается, мучая Лиду, угнетая ее своим отсутствием и неразгаданной тайной: что за свет он отражает и кто посылает этот свет?
Запутавшись в широких полах своего полушубка, Лида с трудом протиснулась к выходу из маршрутки и на крутом повороте, не удержавшись, завалилась на колени аккуратного старичка. Старичок добродушно отшутился, оправдался перед всеми за Лиду, уверяя, что маршрутки для того и созданы, чтобы люди обнимали друг друга, а кроме маршруток для этой цели создан еще и весь мир.
Лида почувствовала себя большой и неуклюжей. Шагнув в сырую кашу снега, льда и воды, она пошлепала к университету, помешивая высокими каблуками сапог густое зимнее варево бесконечно скучного серого цвета. Из свинцового неба напряженно стремилась к земле распыленная ветром печальная слякоть. Одежда на прохожих была узаконенных климатом серо-черных тонов, и Лида, отряхнув рукав своего вызывающе зеленого полушубка равнодушно как-то подумала, что одна она — пушистая зеленая елка в этом облетевшем, усталом от разлуки с солнцем лесу.
Кинув привычный взгляд в ту сторону, где всегда стояла его машина, она замедлила шаг: машина стояла. Такая же зеленая, как ее полушубок. Получалось уже две елки в мрачном лесу. Лида прибавила шагу и вошла в широкие двери университета. Ей показалось, что Вадим сидел в машине. Торопливо взбежав по широким лестницам на третий этаж, она пошла по длинному коридору к своей аудитории, на ходу расстегивая шубу, снимая шарф, берет и придумывая, куда бы деться на этот лишний час.
Аудитория была пустой. Лида скинула вещи на свой стол, будто вошла в купе поезда и, подойдя к окну, осторожно заглянула вниз. Дверца машины распахнулась, и Вадим неторопливо вышел из нее. Он постоял, расправив плечи, потом снова сел в машину.
«Пойду в деканат»— подумала Лида и принялась рыться в бумагах, отыскивая какую-нибудь причину, по которой нужно было туда идти, но причины не было.
«Тогда пойду просто к деканату»— подумала Лида и, повесив на плечо сумочку, вспомнила, что не сдала одежду в гардероб. С отчаяньем глянула на мокрый мех свернувшейся как кошка на стуле шубы и, схватив ее за шиворот, перекинула через спинку. Кошка послушно повесилась сушиться.
Возле вечернего деканата было столпотворение. Лида встретила двух знакомых преподавателей, перекинулась с ними парой дежурных фраз, сделала вид, что очень торопится, и понеслась во весь опор по коридору на четвертый этаж. На четвертом этаже делать ей было совершенно нечего, потому что там шли занятия у другого факультета, но в конце длинного коридора у большого окна можно было обозревать подход к зданию университета, где должен был пройти Вадим.
Все совпало. Он шел по аллее, медленно, лениво переставляя ноги, опустив голову и нахмурившись, будто тянул за собой невидимый состав. Лида бессильно облокотилась о подоконник, подрагивая от сильных толчков возмущенного таким ее поведением сердца, смотрела из окна на движущуюся крупную фигуру, будто вся она была дулом пистолета, а он — мишенью.
«Ничего в нем хорошего. Ничего! — подумала она, прижимая ладонь к разгоревшимся щекам. — Надо где-то взять валерьянки. Явно бывший спортсмен, а значит, бандит», — рассуждала она, рассеянно улыбаясь и радуясь, что походка у него именно такая, как она и представляла: медвежонком.
«К тому же он еще и моложе меня, и, может, женат. У меня заскок от усталости. И скоро это пройдет», — уверяла она себя, напряженно потирая виски и поглощая взглядом каждое его движение, понимая, что все это уже когда-то, где-то было, в каком-то другом мире, другой жизни. Все эти взгляды, движения, звуки она запомнила и вот они выплыли вдруг, выскочили из генетической памяти, растеклись по крови и мучают теперь, мучают…
Она оттолкнулась локтями от подоконника, с трудом оторвав глаза от Вадима, и уныло побрела по коридору. Острые мысли, словно глупые птички клювиками, стучались непрерывно: это он, это тот! Не знаю — кто, но это он. До аудитории она не дошла. Вошла в соседнюю, встала у окна, растерянно поглядывая по сторонам. Лучше бы зашла в кафешку. До лекции оставалось сорок минут. Единственное, чего сейчас очень сильно хотелось — уйти домой прямо так, без шубы. Пусть потом удивляются, что вместо преподавателя явились только вещи. Ей не выдержать эти три часа занудного, монотонного своего вещания. Она будет мучить себя и надоедать усталым после трудового дня студентам, прерываясь изредка, чтобы поздравить их с добрым утром, мешая окончательно заснуть. Нет, не выдержать. Вот сейчас пойдет и заберет свою одежду. Пусть потом жалуются. Лида решительно шагнула в коридор.
Вадим сидел на своем месте один-одинешенек, серьезно разглядывая конспект.
«Постоянный какой, — подумала Лида. — Машина у него на одном и том же месте, самого с места не сдвинешь…»
— Здравствуйте, Кулаков, — кивнула она ему, проходя к столу, и Вадим поднялся из-за парты.
— Здравствуйте.
— Садитесь, — разрешила с улыбкой Лида и тоже села за стол.
«Где ж это тебя так вымуштровали?»— пожалела она Вадима и поинтересовалась:
— Что, можно начинать?
— Можно, — равнодушно пожал плечами Кулаков.
Лида растерялась и глянула на него исподлобья.
— А больше никто не придет?
— Почему же? Придут.
Вадим спокойно раскрыл тетрадку и взял в руки ручку, всем видом показывая, что готов к работе.
«А нечего мне было предлагать!»— упрекнула себя Лида.
Вадим выжидающе смотрел на нее.
«Ты посмотри, какой упертый!»— восхищенно подумала Лида, не желая уступать, и тут вдруг ее осенило.
— Сколько сейчас времени? Наверное, еще рано?
Вадим не шевельнулся, но в глазах его промелькнула усмешка.
— До лекции еще больше, чем полчаса, — напомнила ему Лида, и Вадим с сожалением пошевелил ручкой.
«Ну что ж…»— горько подумала Лида и принялась судорожно листать свой конспект.
— На чем мы остановились на прошлой лекции? — спросила она громко, будто вся группа была в сборе.
— Я не был на прошлой лекции, — ответил Вадим, прищурясь.
«Был ты на прошлой лекции, — подумала Лида, — и на позапрошлой был».
— А что же вы пропускаете занятия, Кулаков? — заинтересовалась Лида,
— Работы много, — пожаловался Вадим.
— И где вы работаете?
— Я — охранник.
— Значит, спортсмен?
--- Бывший.
--- Бывших спортсменов не бывает.
--- Все бывает, - не согласился Вадим.
« Значит, ты не умеешь проигрывать», — подумала Лида.
В этот момент в аудиторию вошли Катя и Оксана. Они поздоровались и сели за первую парту, прикрыв собой Вадима. Лиде сразу стало спокойнее. Она поняла, что сегодня отработает удачно. Вадим, прикрытый Катей, будет лишь изредка напоминать о себе каверзными вопросами, на которые она, как профессиональный футболист будет посылать ответы, выглядывая из-за Катиной головы, чтобы насладиться его ошарашенным видом начинающего вратаря, схватившего в охапку неожиданно огромный и тяжелый мяч.
И, кроме того, она найдет пару моментов, чтобы упрекнуть юного вратаря в том, что он пропустил очень важную тему и теперь никогда не восполнит свои знания о сделках, на что кто-нибудь из девочек, а может быть, даже все они хором обязательно воскликнут:
— Кулаков был на прошлой лекции! Был, был, вы что-то путаете!
Девочки не забывают, девочки внимательно следят за учебой!
И все мячи выпадут из этих огромных, сильных лап и раскатятся по аудитории под ее победное искреннее удивление:
— Да? А мне помнится, его вовсе не было…
И девочки будут в восторге! Наконец-то нашелся кто-то равнодушный и невнимательный к Вадиму Кулакову.
«Какая я несчастная!»— подумала Лида и уткнулась в конспекты, пряча под рукой растерянную улыбку.
Глава 4
Дома Маринка солила на кухне огурцы. Дед посиживал в кресле возле батареи, опираясь на свой костыль, и попивал из бокала настой зверобоя.
— Где-то укропа взяла… недоуменно сказала Лида, проходя мимо заставленного стола к холодильнику. — Кто-нибудь что-нибудь готовил кроме огурцов? Дети ели?
— Укроп я взяла у тебя вон в той банке, хочу свежепросоленных огурцов. Детки ели.
Лида внимательно окинула взглядом Маринкину фигуру.
— Не плохо бы… Самое время…
— Не приглядывайся, ничего не увидишь. Я просто хочу огурцов, — отмахнулась Маринка. — Тем более, что мне тридцать семь лет и Петечка не в себе.
— С жиру бесится, забот ему не хватает. А вот наш дедуля — всегда при деле.
На журнальном столике возле деда рядом с тяжелым бокалом возвышалась куча исписанных листов.
— Что сочиняешь? — поинтересовалась Лида.
— Письма пишу, — ответил коротко дед.
— Ты, Лида, сапожник без сапог! — воскликнула Маринка, предваряя все вопросы. — Ты не изучаешь законодательство о льготах! А мы с Георгием Ефимовичем законные письма пишем. Страна наша пока не забыла подвигов героев Отечественной войны, хотя и не напоминает особо. Вот эта бумажка — Матвиенко, губернатору. Просим дать квартиру и поставить личный телефон.
Маринка осторожно тыкала острым указательным пальцем, обляпанным кристалликами соли, в загнутые, замусоленные старательным дедом уголки альбомных листов.
— А вот это — Путину! — вдохновилась Маринка. — Подождите, подождите, Георгий Ефимович, не так быстро. Вот. Эта. В администрацию Московского района. Пусть отремонтируют подъезд, установят отопление, поставят решетки на чердаки и подвалы. Эта, чтобы выселили бомжей. Некуда селить говорите? Не ваша головная боль. Пусть строят ночлежки, раз развели их, как вшей. Понимаете ли, если кто-то развел вшей, почему должны страдать другие? Пусть его едят, грызут, кусают. Я имею в виду, власть. Эта вот — на машину. Эта — группу инвалидности сменить. Восемьдесят восемь, на костылях, совесть есть у врачей или их носом в закон ткнуть?
— А телефон-то тебе личный зачем? — обреченно спросила Лида деда.
— А? — не услышал дед, торжественно собирая бумажки в кучу.
— Телефон, говорю… — повысила голос Лида, — зачем нам два телефона?
— А? — уточнил дед, внимательно глянув на Маринку.
— А пусть будет! Он бесплатный! — хлопнула Маринка ладонью по столу, распылив вокруг себя мелкие бисеринки соли. — Завтра мы все перепишем и разошлем. Правда, Георгий Ефимович?
— Я еще потренируюсь, попишу, а то коряво получается, — застеснялся дед.
— Ничего, прочитают, — зловеще пообещала кому-то Маринка вполголоса. — Глазки не ослепнут.
— Прочитать-то прочитают, но нехорошо так писать, — возразил дед.
Маринка хитро подмигнула Лиде, мол, со слухом у старика все в порядке. Он слышит то, что хочет услышать, а что ему не надо, то и говорить не зачем.
На кухню заглянул Ванька. Сонно щурясь, он поздоровался и встал у двери.
— Что не спишь? — спросила Лида.
— Жду.
— Кого?
— Вас.
Ванька робко переступил с ноги на ногу.
— Там как? Все нормально?..
— У директора, что ли?
— Угу…
— Все отлично. Продолжай в том же духе.
— В каком духе-то? — угрюмо переспросил Ванька.
Лида на секунду задумалась, не зная, что делать: ругать или хвалить?
— Ты иди, Ванечка, спать. Поговорим с тобой об этом утром. Я не могу сказать, что ты прав, и не могу сказать, что не прав…
Ванька облегченно вздохнул и глаза его повеселели.
— Вы при мне говорить не хотите? Так я уйду! — Дед обиженно взял костыли и принялся подниматься из-за стола.
— Дед, я просто устала говорить, — сказала Лида. — Я мечтаю помолчать и послушать. Но если вам всем так это важно именно сегодня, то — пожалуйста. Разговор был спокойный. Никто так и не понял, из-за чего они подрались. Мальчишки должны драться. Те, которые не дерутся, пусть растят косички. Подрались и помирятся. Правда, Вань?
— Я мириться с ним не буду, — упрямо буркнул Ванька.
— Хорошо, не мирись, — согласилась Лида, и дед одобрительно загромыхал костылями в сторону своей комнаты.
— Теперь он всю ночь будет бормотать, сочинять текст. Зачем ты его научила? Все равно ведь никто ничего ему не даст, пришлют отписки, а ему только переживания, — укорила Маринку Лида.
— Не волнуйся, — снисходительно скривила рот Маринка, — Не первый год плаваем, знаем!
— А хотите, я дам ему валерьянки? — радостно предложил Ванька.
— Дай и иди спать, — строго сказала Маринка, облизывая соленый указательный палец. — А ты, Лидия, плохо понимаешь, что означает для чиновника нарушить норму права. Отписаться-то они могут, но если при этом нарушается закон, то какая наступает ответственность? А? Материальная и моральная! Прямой ущерб, упущенная выгода, убытки, дорогуша моя, и еще моральный вред! А ведь каждая канцелярская крыса свое теплое место для любимой попы бережет, как зеницу ока. И трепетно относится к родной кормушке. Что им, государственный телефон или квартира дороже своей единственной личной попы? Голубушка моя, преподаватель хренов… Зачем ты такая гордая? Для чего? И почему не взять то, что положено? Ведь не спросишь — не дадут. Не дадут, Лид!
— Дадут, дадут. А потом догонят и еще раз дадут. Зачем ты ешь огурцы, которые еще не просолились?
— Какая мне разница? — махнула рукой Маринка, запихивая в рот пол-огурца.
Лида внимательно прищурилась, разглядывая ее глаза.
— А ты беременна, девушка, — подвела она итог. — Дождались, слава, Тебе, Господи!
— Не выдумывай, — огрызнулась Маринка, пихая в рот кусок хлеба, — У меня просто хороший аппетит.
— Нет, — помотала головой Лида, — Это не ты ешь, ты так никогда не ела. И глаза у тебя беременные.
Маринка фыркнула и чуть не подавилась.
— От Петечки? — строго спросила Лида.
— Что от Петечки, глаза? — уточнила Маринка.
— Не дури, это очень важно.
— Слушай, Лид, ты сама не дури, — оборвала ее Маринка и глаза ее стали жесткими. — Ты знаешь прекрасно, что мы бездетная и бесплодная семья. Шутку я твою долго терпела, но больше терпеть не собираюсь. У тебя нет капусты квашеной или пирожков с мясом?
Маринкины глаза из строгих и холодных мгновенно превратились в бешеные и застреляли по столам и полкам.
— Да-да, именно пирожков с мясом.
Маринка ошалело сглотнула слюну.
— Ну вот! — воскликнула Лида.
— Нету пирожков-то? — уточнила Маринка на ходу, торопливо составляя в раковину грязную посуду и побежала в прихожую. — Я в магазин, Лид, я мигом.
Входная дверь хлопнула, и Лида растерянно улыбнулась. Сомнений быть не может. С Маринкиной-то ленью, в ночь-заполночь бежать в темноту за пирожками с мясом? Нет, не она теперь руководит собой, ой, не она…
Лида включила воду в ванной. Больше всего на свете ей сейчас хотелось лечь в теплую, пушистую пену в полной тишине. Она заглянула в комнату детей, удостоверилась в том, что все спят и пошла к деду. Дед тоже якобы дремал, перебирая пальцами пододеяльник под подбородком. Стараясь не шуметь, Лида раздвинула кресло-кровать для Маринки, тихо улыбаясь в душе тому, что в их квартире теперь будет расти еще один человечек. Скрипнув дверцей шкафа, неловко вытащила с полки стопку постельного белья. В темноте не было видно — где простыни, где пододеяльники. Свет ночника возле кровати деда был слабым.
— Включи свет, — посоветовал дед.
Лида вздрогнула и чуть не выронила из рук белье.
— Не спишь? Днем выспался? — строго спросила она.
— Так ведь не видно тебе…
— Зачем ты спишь днем? — переспросила Лида и включила верхний свет.
— Да я уж задремал, — ответил дед.
— Будешь ночью бродить, я уйду спать на кухню на стуле, — предупредила Лида, застилая кровать.
— Куда ж ее девать, эту шалапутку. Не гнать же на улицу. — согласился дед.
— Горшок Зоя принесла тебе?
Лида заглянула под дедову кровать.
— Я поставлю ширму.
— Ставь, — кивнул дед.
— Когда спрашиваю, почему днем спал, ты не слышишь, — попробовала она уличить деда, но тот не сдался:
— Да не оборочу я ее, я осторожный.
Махнув рукой, Лида выключила свет и пошла в ванную.
Струйка воды была тонкой и ленивой. Газовая колонка то загоралась, то гасла. Лида нерешительно потопталась возле ванной, потом наклонилась и сунула голову под струйку. Холодная вода впилась в макушку цепким корнем и медленно распустила корешки-щупальца по всей голове. Щупальца проползли по длинным светлым волосам и соединили их в один ствол, объединившись в тонкую струю. Вода смывала горький чад горького города, горькие слова, горькую пыль дороги, горькие мысли, освежая и освобождая кожу головы для горечи и грязи следующего дня. Хотелось стоять так долго-долго, сохраняя ощущение приближающегося освобождения, хотя полная свобода никогда не подходила близко. Она стояла где-то недалеко, совсем рядом, за кирпичной стеной, безропотно мирясь со своей бесполезностью.
А в деревне на пляже свобода пронизывала ее тело со всех сторон. Когда, выныривая из глубины, она судорожно освобождала лицо от нависших и прилипших к нему мокрых прядей волос и ловила легкие лучики солнца, все сверкало вокруг, и летали в брызгах солнечные зайчики и крупинки радуги, и все состояло из брызг, капель, лучей, и осколков, и бусинок радуги: и пляж, и река, и дети на берегу, и мокрые ладони, и сама она, невесомая частичка этого сияющего мира, любимая им безмерно и вся состоящая из любви…
Звонок телефона вернул ее с солнечного пляжа, она открыла глаза и недоуменно уставилась в мутную, мыльную воду, потом наскоро накинула полотенце на голову и схватила радиотрубку.
— Лидок, это ты? — всхлипнул в трубке несчастный голосок Аллочки.
— Я.
— Чем ты говорила, твоя мама кормит кур? — спросила Аллла, сдерживая рыдания.
Лида напряглась. В голове медленно и неуверенно выстраивалась цепочка образов: мама, веранда, мешок с зерном, бегающие по дому цыплята, отравленные в детстве мухоморами куры. Они с Тимохой тогда притащили из лесу мухоморы, чтобы травить мух и забыли их во дворе. А куры склевали. Им все равно, что клевать. Но выжили. Целый день они всей гурьбой вливали в корявые клювы полудохлых кур коровье молоко, с ужасом ожидая маминого прихода с работы. Толстые куры почему-то имели такие тонкие шейки, что старательный, усердно пыхтящий Тимоха не рассчитал свои силы и одной курице голову все-таки свернул.
— Ты что, не хочешь со мной разговаривать? — возмутилась Аллочка в ответ на Лидино молчание.
— Я здесь. Я думаю, — ответила Лида и Алла облегченно оживилась.
— Ты представляешь, еще два сдохли.
— Вызови ветеринара.
— Кто его встретит? Весь день никого нет дома.
«Да пусть бы они все уже передохли», — горько подумала Лида и тут же раскаялась.
— Размочи им хлеба с молоком, насыпь зерен пшеницы, ржи, овса…
— Где я тебе возьму пшеницы, ржи, овса… Овсяные хлопья подойдут?
— Подойдут. Можешь даже сварить кашу, они склюют. А где они у тебя живут?
— В кладовке, — отмахнулась Аллочка.
— Так им там темно. Они свет любят и тепло. Поставь обогреватель, может, им холодно.
— Да, конечно, — восхитилась Аллочка, — в квартире будет просто рай! И так не продохнуть. Ты знаешь, сколько они гадят?
— Ну тогда зачем тебе эта обуза, скажи? — воскликнула Лида.
Аллочка задумчиво примолкла.
— А надо, — смиренно подытожила Аллочка и, наскоро попрощавшись, побеждала варить курятам овсяную кашу.
— Вари, — сердито отрезала Лида, нажав на кнопку отключения, отшвырнула трубку подальше и откинулась на спинку стула.
Как-то в детстве маленький Тимоха, страстно любивший котят, собак, корову и прочую живность, забавлялся с крохотным цыпленком. Он держал его в кулачке, гладил по клювику, целовал в крошечную, пушистую головку и приговаривал ласковым шопотом: «Ты мой одуванчик желтенький, ножки дрыгают, ручки пихаются! Ты моя живая цыпонька мяконькая!» Он подносил цыпленка к губам, фукал, согревал его дыханием, потом поил слюной, сложив при этом губы трубочкой, и требовательно нукал, чтобы цыпленок раскрыл клювик. Потом в порыве нежности, вышедшей из берегов, как река в половодье, он сжимал цыпленка в руках, при этом кулачки его дрожали от напряжения ласки и восхищенно восклицал: «Ах ты, мой маленький! Ах ты, мой хорошенький! Ах ты, мой любименький!» Минутой позже обмякшее тщедушное тельце цыпленка лежало на его влажной ладошке, и Тимоха растерянно смотрел на него. Он осторожно потрогал цыпленка пальчиком и прошептал: «Умер…»
— Ты что натворил?! — закричала на него Лида, — Ты убил его! Гад! Убил его!
— Я его убил… — прошептал Тимоха побелевшими губами, ошалело глядя сквозь сестру. — Я его любил и убил…
— Я все маме скажу! — рыдала Лида, стуча изо все силы кулачками по спине брата, а тот стоял, как вкопанный, глядя бессмысленными глазами куда-то далеко вперед, сказал ровным и спокойным голосом:
— Я его зажалел. Я больше никогда и никого не буду жалеть. И любить не буду. Никогда…Чтобы не убить.
Из больших, круглых его глаз, обрамленных белесыми, выгоревшими ресницами, покатились крупные горошины слез.
Лида тогда очень испугалась этих слез, этих слов. Она убежала в дом, а Тимоха так и остался в ее памяти стоящим лицом к солнцу, расставив загорелые, голенастые ноги в коротких штанишках. Белый пушок волос, высвеченный до прозрачности вечерним, низким солнцем, очертил его, будто вытолкнул из разлитого по синеве горизонта жара, а на протянутой вечернему солнцу ладошке лежала его первая в жизни жертва — мертвый птенец, погибший от безудержности и неуемности переполненного любовью и нежностью детского сердца.
С тех пор ее брат никого не брал в свои ладошки. Наученный таким горьким детским опытом, он любил и жалел других только на расстоянии, не решаясь прикасаться к нежным и хрупким жизням, чтобы не испортить, не разрушить ненароком, не навредить. Это только казалось, что он не причиняет вреда. Ни первая жена, ни вторая, ни Ванька, — никто, по мнению Тимохи, не пострадал от него. И чтобы не приручать, чтобы не бежали они за ним следом, просясь на ладошку, он рычал и злился на весь мир, пряча свое раскаленное, покалеченное тело, а заодно с ним и похолоделую душу в глухой деревне, забытой и заброшенной даже местными жителями, словно специально созданной для таких вот диких и одиноких.
В деревне доживали свой век добрые, старые люди, принявшие Тимоху на ладошку, как маленького птенчика. И не знали эти люди, что Тимоха был страшнее зверя в этом своем страхе любить. Люди жалели его, не боясь ни жалости своей, ни Тимохиной злости. Четко зная меру, они осторожно прижимали кулачок, когда глупый Тимоха пытался вырваться из своего тела, убежать от своей души, выпасть из доброй ладошки. А летать он не умел, так и не научился, хотя было ему от роду уже больше сорока.
Лида вытерла полотенцем мокрые волосы и решительно взяла телефонную трубку. Быстро набрала номер, прислушиваясь к тишине в прихожей. Сонный, густой бас недовольно загудел в трубке нечто приветственное.
— Петечка, это Лида.
— Доброй ночи, — вежливо ответил Петечка и, досадливо крякнув, добавил: — Радужных вам снов.
— Спасибо, мой любезный, обязательно посмотрим, когда настанет ночь. А сейчас у нас рабочий полдень.
— За вами не сгонишься, — зевнул на том конце Петечка. — Ну, что случилось?
— А ты не в курсе? — удивилась Лида.
— Нет, — насторожился Петечка.
— Так это не у нас случилось, а у вас.
— А что? — переспросил Петечка.
— Жена твоя приехала любимая. А ты ее не пустил домой. Она теперь у нас живет. У нас коммуналка. У нас теперь все живут, всем нравится, все довольны, одна я — невменяемая, мне спать негде.
— Я уже тоже невменяемый! — воскликнул Петечка. — От твоей подруги!
— Она мне подруга, но не жена, а тебе, Петя, она — и жена, и подруга.
— Она мне не подруга! — взвился Петечка.
— Пусть даже так, но почему мы должны жить, как шпроты? Объясни мне!
— Это как? — насторожился Петечка в ожидании подвоха.
— Очень плотно прилегая друг к другу физически и морально! В то время, как у тебя есть несколько квартир…
— Ах, тебе нужна квартира? Я предлагал…
— Мне не нужна квартира, Петр, мне нужно сосредоточиться на своих проблемах, а не на твоих. Ты понимаешь, что я не могу не пустить подругу, если ее выгнал муж. Но хотелось бы знать, почему ты ее не пускаешь домой?
— Я ее не пускаю домой?! — Петечка глубоко вдохнул, захлебнулся воздухом и принялся оглушительно кашлять.
Лида отстранила трубку.
— Куда она поехала с вокзала? А? — орал Петечка Лиде издалека, прерывая вопросы приступами кашля.
— Зачем она поехала на Советскую? А? Что ей там делать?
— Это к кому? — уточнила Лида, поднося трубку к уху.
— Это на другую квартиру! А я там поставил еще один замок. Чтобы дома жила, чтобы не лазила…
— Понятно, Петр, — строго поджала губы Лида. — Хорошо, что ты мне сказал всю правду.
Петр осторожно замолчал.
— Сейчас, Петр, она придет, и я все выясню. И, пожалуй, вышвырну на лестницу ее чемоданы и ее тоже. Чтобы с жиру не бесилась. Безжалостно вышвырну!
Лида повесила трубку, зная, что через полминуты телефон зазвонит снова. Так и вышло.
— Лидия! — официально обратился Петечка, — А где, собственно говоря, моя жена сейчас находится?
— Собственно говоря, не знаю, — невинно призналась Лида. — Она ушла за пирожками с мясом. Ей очень захотелось есть.
— В такое время?! В твоем районе, в этих подворотнях? Да она сама сейчас там станет порожком с мясом! Почему ты ее отпустила?
— Петечка, я повторяю, это твоя жена, а не моя. Я ей не командир.
— Но она — твоя подруга!
— Но она — танк! А я — впечатлительное существо.
Петечка замолчал на другом конце, потом все же сделал вывод вслух:
— Ты цинична, Лидия. Я сейчас выезжаю за Мариной.
— Как хочешь, — равнодушно согласилась Лида и злорадно повесила трубку.
Сейчас она их помирит, и влюбленная пара поедет домой. Сценарий на протяжении многих лет был одним и тем же, и только Лидина роль периодически менялась. Ее героиня раньше была более положительной, а теперь стала и вовсе отрицательной. Раньше Петечка ставил Лиду в пример Маринке, а теперь вот спасает супругу от дурного влияния, от равнодушия, цинизма, расчетливости, эгоизма. От чего там еще?
Входная дверь хлопнула, паркет в коридоре лениво и сонно просипел нестройную песню и в кухню вошла объевшаяся Маринка. К груди она прижимала целлофановый пакет, набитый слипшимися желтыми пирожками.
— На вокзал ездила, — доложила Маринка и села за стол. — Давай чай пить.
— Ты отравишься, — сказала Лида, брезгливо разглядывая пирожки. — Вокзальные тошнотики с мясом котят…
— Отстань, — махнула рукой Маринка, — Какое в котятах мясо? Она развязала пакет, вытащила сплюснутый холодный, сальный пирожок и принялась его жевать.
— Вот, Лид, всю дорогу ела и сейчас ем, — пожаловалась она, печально и устало пережевывая пирожок. — Главное, глаза есть не хотят, им даже смотреть противно. А вот живот хочет. Вот как бывает. Такого маразма я еще не испытывала.
— Купи тестер, — посоветовала Лида.
— Куплю завтра, — смиренно кивнула Маринка. — Меня два раза вытошнило.
— Ну и всен, — подытожила Лида. — Сейчас приедет супруг твой, заберете чемоданы и поедете домой. Зря только кресло разбирала.
— Петечка звонил? Меня искал?
— Звонил, искал. Уже выехал.
— Чего это он? — радостно растерялась Маринка.
— Не знаю, — пожала плечами Лида. — Может совесть проснулась, может, любовь. А может, интуиция. Чувствует на расстоянии.
— Точно! — восхищенно прошептала Маринка.
— Вот и хорошо, — погладила ее по плечу Лида. — А тебе теперь волноваться нельзя. Никаких разборок, никаких нервотрепок. Приедешь, ляжешь спатьки, а утром в аптеку.
Лида поднялась со стула и устала направилась к двери.
— Ну вот, — забеспокоилась Маринка, — Я поговорить хотела, а ты уходишь…
— Когда закончится этот день, то сразу начнется другой, — вздохнула Лида — И это грустно. Захлопни дверь, когда будете уходить. Меня не будите.
— Я сейчас ему позвоню, скажу, что завтра приеду сама. Я не хочу сейчас никуда ехать. Я спать хочу. Я у тебя побыть хочу! — заканючила Маринка.
Лида чувствовала себя огромным, вялым, засыхающим существом. Пустое, выжатое долгим, властным днем нутро должно было наполниться новой силой, новым соком, а взять его было неоткуда. От этого образовывались какие-то невидимые глазу дыры и прорехи, сквозь которые вливался тусклый, противный, жирный свет коридора, мерзкие запахи кухни, взвинченный голос Маринки, пустые, прыгающие, как горох, слова. Только сон мог сейчас сохранить ее для нового дня.
Лида вошла в комнату, тяжело ступая, подошла к углу, где висели иконы, подняла непослушную, огрубевшую руку ко лбу.Теплый шепот молитвы согрел прохладную темноту комнаты. Мягкие слова пеленали усталую, влажную голову Лиды бесконечным легким бинтом. Слова не были отдельными, они легко скользили друг за другом и складывались в одно вечное слово, состоящее из тихой и нежной музыки. Этот кружевной узор, сплетался в незримую лечебную цепочку, которая обвивалась вокруг Лиды и никак не могла поднять ее ввысь, чтобы улететь в небо.
Лида напряженно прислушалась к себе и поймала себя на том, что думает о Зойкиных оценках. Она мысленно оттолкнула тройки по алгебре и начала молитву сначала. Но посторонние мысли густой, агрессивной стаей атаковали ее уставший за день мозг, и слова звучали автоматически, без чувства и без души. Душа была захлопнута, перегружена, заляпана. Сияющая сердцевина обросла засохшей грязью многих дней и не могла дать тот сильный лучик, от которого молитва взлетает и проходит сквозь стены. За спиной зашевелился дед, и Лида вздрогнула. «Господи!»— воскликнула она с отчаянием: — «Я самая одинокая из всех одиноких людей! Но когда же я смогу предстать пред Тобой одна?!»
Дед за спиной печально вздохнул, и Лиде стало стыдно за эту мысль.
«На Страшном Суде»— горько ответила она себе.
Глава 5
От Финляндского вокзала до тюрьмы «Кресты» можно было идти по набережной, но Лида давно выбрала другой путь. Набережная Невы была шумной, суетливой, несмотря на простор, раскрывающийся перед глазами, на свободу течения реки и потока машин, казалось, что ты в плену этих течений.
Лида купила у метро две пачки сигарет и шоколадку, которые позволительно было проносить заключенному, а они, как дети в детском саду, всегда ждали от нее подарков.
«Или это дети в детском саду как заключенные?»— думала Лида, шлепая по узкому тротуару, разбитому неизвестно кем вдребезги, будто ночью по нему скакал взад-вперед табун железных лошадей. Из серых луж, украшенных радужными, семицветными бензиновыми разводами, торчали то там, то здесь круглыми островами чугунные крышки высунувшихся по горло из воды люков. Наступать на них, спасаясь от сырости, было опасно: вода мрачно укрывала таинственные подземные тела и под водой могла оказаться маленькая подводная лодка или огромная пустая бутылка, выскочившая из-под земли вверх пробкой. Кто его знает, что получится, если прыгать с крышки на крышку? Все могло провалиться под ногами и утянуть под землю, даже эта устойчивая с виду чугунная тяжесть не внушала доверия.
Мимо здания Калининского суда, стараясь не смотреть в сторону морга, Лида перебежала проезжую часть и нырнула в арку. Через уютный дворик она заходила к «Крестам» с тыла. Отсюда было как-то спокойнее. Мимо грязно-красной кирпичной стены, сложенной строго и старательно, как крепостная, идти было теплее, чем по набережной. Глаза привыкали к красному кровавому цвету, и постепенно душа настраивалась на муторную работу.
Крепостная стена охраняла город от врагов, которые томились внутри крепости, и город неутомимо держал осаду, хотя был неприступен и недоступен изможденному, обессиленному врагу. Идя в логово врага, Лида представляла собой в единственном числе город, общество, государство и весь свободный мир, который защищался от крепости. Попасть за стену было не так легко, вернее так же нелегко, как в древние времена взять крепость. С боем никогда не получалось. Но у каждого адвоката была своя тактика.
Возле бюро пропусков рассеянно прохаживались несколько человек, а деревянная грязноватая, обитая рваным железом дверь жалобно попискивала приоткрытым ртом, из которого виднелся битком набитый людьми коридор. Лида толкнула писклявую дверь ладонью и стала решительно протискиваться между мягких шуб и шуршащих курток, чавкая отсыревшими сапогами по скользкому линолеуму, копившему и сохранявшему всю сырость и грязь, которую несли с улицы.
К концу дня линолеум всегда был покрыт толстым слоем черной каши, которая никогда никуда не стекала, а наутро исчезала, будто ночью ее кто-то съедал. И даже в сухую погоду в пропускном бюро было влажно, и казалось, что стены, пол и потолок дышат невидимыми порами, потеют от напряжения ожидания, потому что высший градус температуры ожидания всей тюрьмы «Кресты» был, наверное, не в переполненных камерах, а именно здесь, в бюро пропусков.
Даже самые терпеливые и выдержанные адвокаты, распахнув одежду, напряженно покачивались с пятки на носок, притоптывали, вздыхали, копошились нервно в своих бумагах, выходили на улицу курить и тут же прибегали назад, боясь пропустить свою очередь.
— Иванов, Лохман, Дивулько! — выкрикивала из окошечка строгая Зина Зиновьевна и особо не церемонилась с прозевавшими.
— Ничего не знаю! Кравцов, где вы были? Ждите теперь по второму разу! Несчастный, пылающий Кравцов совал свою голову в окошко и тыкал пальцем в стол Зины Зиновьевны:
— Вот мой талон, вот! Дайте, пожалуйста!
Зина Зиновьевна равнодушно набирала номер телефона и продолжала терпеливо работать, не обращая внимания на мелькающий перед ее носом палец Кравцова.
— Стрелков. Шестьсот пятая? Так. Дробин. Три семь три. Так. Давыдов не числится. Точно не числится? Выбыл? Не выбыл?
— Как это, Давыдов не числится? — воскликнул худенький, бледный парнишка, оттолкнувшись от влажной стены сутулой спиной. Он поправил очки и стал теснить огнедышащего Кравцова от окошка.
— Проверьте еще раз! Пусть скажут, куда он выбыл.
— Да проверит, проверит, — успокоила парнишку Лида, пытаясь всунуть в окошко свои листки-требования. — Она еще на второй крест позвонит.
— Понимаете, его там бьют, издеваются, — доверчиво поделился с Лидой парнишка. — А вдруг уже убили?
— А ты хотел, чтобы его там нежили и холили? — язвительно спросил парнишку какой-то нервный, толстый адвокат.
В ответ на это Зина Зиновьевна шумно поднялась из-за стола, высунула свою голову в окошко и гаркнула так, что все вздрогнули:
— У меня сейчас сломается телефон и будем дружно ждать мастера! А он придет не скоро. Понятно? Всем понятно?
Зина Зиновьевна строго, как заведующая детским садом обвела присутствующих мутными глазами.
Народ замер от такого неслыханного коварства.
— Не надо, — жалобно сказал толстяк, признавая свою вину. — Это катастрофа.
— Тогда отошли все от окна! — воскликнула Зина Зиновьевна. — Я от ваших разговоров скоро с ума сойду! Обалдела уже совсем!
Народ послушно и бесшумно, словно тени, соскользнул по сторонам от окошечка, и оно громко захлопнулось. Никто не посмел возмутиться, почему это в рабочее время окошко закрыто? От лишних вопросов могла нарушиться связь и испортиться телефон. Грядущий хам торжествовал.
Лида вышла на улицу, подошла к решетке забора и уткнулась взглядом в мутную даль противоположного берега Невы. Стало так тоскливо, что захотелось закрыть глаза и ничего не видеть. Шумно проезжали сплошным потоком иномарки. Набережная была перегружена. Как хорошо было бы ехать в теплой машине рядом с водителем под тихую, плавную музыку по промозглому, серому городу, невесть как возникшему в глухом, зыбком болоте. Ехать и видеть его красоту. Говорил ведь тогда Стасик: «Таня, бабий век короткий. Ты неправильно живешь. Тебе осталась пара лет, и потом ты никому не будешь нужна, Тань».
А она его поправила:
— Я не Таня, я Лида.
— Какая разница, — отмахнулся Стасик и уехал к Тане.
Пока Лида обдумывала его слова, прикидывала, что может успеть за эти два отпущенные Стасиком годы, как он перевез Таню в их новую двухкомнатную квартиру, и Зойкины коробки, собранные раньше всех и ожидающие переезда в темном коммунальном коридоре, в ужасе растопорщили ободранные бока и углы. Они цеплялись за ноги, набивали всем синяки и шишки в ожидании отъезда и торчали там еще месяца три, всем своим видом вопрошая: «Неужели такое могло случиться?!» Но коробки так никто никуда и не повез. Таня оказалась сильнее и тяжелее коробок и важнее всего. Она перевесила всю прошлую и настоящую жизнь, включая потери и находки, радости и поражения, а также возможное или невозможное счастливое будущее. Будущее стало невозможным, оно растворилось, притаилось, спряталось за ободранными картонными коробками, безнадежно пустыми, освобожденными одним из воскресных дней молчаливой Зойкой. И все знали, что оно прячется там, и все осторожно, на цыпочках проходили мимо, будто оно смертельно заболело, доживает последние дни в щелях между коробками и стеной и ему стыдно показаться на прощание на людские глаза.
Потом говорил Стасик: «Лена, ты хороший друг, но я влюбился. Ты понимаешь, что такое любовь, Лена?»
— Я не Лена, я Лида, — кивала она, судорожно отыскивая в памяти полочку с табличкой «Любовь». Полочка эта была целиком загружена разной рухлядью, начиная с облезлого зайца, набитого слежавшимися опилками с деревянной, отвисшей назад головой и заканчивая Ванькиными первыми школьными тетрадками и новыми дедовыми костылями. Все это она, наверное, ошибочно сложила на эту полку и потому Стасику стало там очень тесно, вот он и спрыгнул в никуда.
«Я тебя все-таки люблю, Лид», — сказал он по телефону в день ее рождения и она по привычке завела: «Я не Лида, я…» и впервые за столько лет безудержно разрыдалась, не стесняясь пластмассовой трубки и коротких частых гудков в ней.
Лида прижалась к решетке забора, вцепившись в холодные прутья голыми руками, стиснув до хруста кулаки. Она уперлась лбом в холодный, рифленый прут. От горячего дыхания челка прилипла ко лбу, и железо больно впилось в кожу. Лида еще сильнее вжалась в прут. Ей захотелось вдавить его в пылающую память и горящую огнем голову, остудить, успокоить или вовсе уничтожить всякую мысль, всякий образ, разрушить, чтобы ничего не осталось, кроме работы и домашних дел. Раздавить, размоздить железным крученым прутом все прошлое дотла, раскрошить и развеять по ветру каждый миг, давно бесследно исчезнувший и оставивший свое зеркальное отражение в ее мозгу. Уничтожить все зеркала и все, что в них! Включая эту высокую, недоступную полочку с глупой табличкой «Любовь».
— Кто это тут повис? — услышала она за спиной и, обернувшись, с усилием прошептала:
— Я…
— Вижу, что ты…
Васька настороженно разглядывал ее лоб.
— Здравствуй.
— Привет, — сказала Лида и поправила челку.
— Что-то случилось?
— Не могу попасть в тюрьму, — пожаловалась Лида.
— И только? Люди не могут оттуда выбраться и то не так горюют. А она распереживалась.
— Переживаю, потому что никуда не успеваю.
— Надо меньше работать, будешь везде успевать. Давай свои бумажки.
Васька отобрал у Лиды смятые в кулаках талоны-требования и попытался их расправить.
— Придется переписать. Пойдем, перепишем.
Лида послушно направилась за ним в бюро пропусков.
Там он все переписал сам, затем тихо, не привлекая общего внимания, забрался в окошко, и, ничего никому не говоря, через несколько минут вылез из него. Он кивнул Лиде и направился к выходу. На улице он ей отдал пропуск и легонько щелкнул по носу:
— Учись, двоечница.
Васька был отличником в их группе и на выпускном вечере признался ей в любви. Но как-то об этом позабылось.
— А зря, — говорил Васька, поздравляя ее по телефону с очередным праздником.
«А зря», — думала она, встречая его то на Невском проспекте, то в метро, то в автобусе.
— Представляешь, у тебя будут свои внуки, а у меня — свои, — переживал он десять лет назад, — А это значит, что в старости у нас не будет общих интересов.
Пять лет назад он спрашивал ее:
— Может, еще не поздно запланировать нам общих внуков?
А на прошлое Рождество заявил, что жизнь прошла стороной и не сложилась.
— Вот бы нам с тобой, как деду с бабкой под старость слепить колобка… По амбарам помести, по сусекам поскрести…
— У меня уже есть колобок, — смеялась Лида, поглаживая Ванькину стриженую голову. И от бабушки ушел, и от дедушки ушел, а от меня, лисы, никуда не убежит. Да, Вань?
Они вошли в проходную, сдали удостоверения и пропуска, телефоны. Вася сдал оружие. Охранник выдал им картонные номерки с печатями.
На контроле была усиленная проверка. Лиду заставили сдать в камеру хранения все вещи, включая сигареты и шоколадки, которые она несла своим заключенным.
— Почему нельзя?1 — возмущалась она, — Раньше можно было!
— Не положено, — равнодушно твердил худой лысоватый милиционер, оглаживая Лидину сумочку металлоискателем, а другой рукой потроша Васин портфель.
В рамке Лида зазвенела и снова подверглась обыску, пока не вспомнила, что не выложила на столик связку ключей. Во второй раз рама промолчала, и они с Васей вошли в тюремный дворик, нервно захлопнув за собой тяжелую дверь, дребезжащую железными решетками и стеклами.
— Что ж за день такой? — растерянно спросила Лида.
— Пасмурный, — глянув на небо, смиренно ответил Вася. — Видать, к дождю.
— Я деньги несу, в сигареты хотела спрятать. Теперь как отдам?
— Отдай мне.
— Шутишь, а им там не до шуток.
— Ничего с ними не случится, не на войне, небось.
— Неволя хуже войны. Война — это все же свобода.
— Еще какая! — вздохнул Вася, недавно вернувшийся из третьей командировки в Чечню.
— А скажите, адвокат Бушуева, вы всегда клиентов подкармливаете, или так, от случая?
— А скажите, прокурор Васильев, вы везде законность проверяете или так, где покажут? — ответила Лида.
— Это не есть хорошо, ваше такое поведение, — пожурил Васька, строго косясь на нее. — Сколько несешь?
— По тысяче каждому. А то катать будут по камерам.
— А «ноги» на что? Пусть через ноги засылают, зачем ты ввязываешься? Поймают, сообщат в президиум коллегии…
— Там очень искренне все удивятся, там ведь сегодня только все родились и не знают, что такое тюрьма и зачем туда ходят адвокаты.
Васька остановился и растерянно посмотрел на нее.
— Ты не заболела?
— Нет. Я выздоровела. Я всю жизнь ходила больная, слепая, глухая. А теперь я такая, как все здоровые люди. Зрячая! — с вызовом ответила Лида.
— Раньше ты была законницей…
— В беззаконном государстве.
— Ты раньше держалась. А теперь работаешь «ногами»?
— Совмещаю приятное с полезным. Все хотят кушать. Все, в том числе мои дети и вон его.
Она кивнула на проходящего мимо милиционера.
Васька тяжело замолчал.
— Открывай дверь, прокурор-законник. Мы люди простые, у нас неприкосновенности нет, льготами не разбалованы, налоги платим больше, чем предприниматели, так что считай, что вне закона проживаем. Вместе со своими клиентами.
— Лида, — Васька придержал дверь, ухватил ее за руку. — Тебе пора завязывать с уголовкой. Это не твое, Лида. Ты изменилась и не в лучшую сторону.
— Я насобачилась, — сообщила доверительно Лида. — И еще ссучилась.
Она прищурилась, пытливо рассматривая Васькино лицо. Он постарел. Морщинки-лучики делали глаза добрыми и веселыми, и это совсем не сочеталось с жесткой, суровой линией рта.
— Озлобилась, — сказал он сухо.
Лида дернула за ручку двери.
Два десятка ступенек вверх прошли молча. Охранник, увидев их, нажал на кнопку, и замок двери щелкнул. Они предъявили пропуска, и тогда открылась вторая дверь, ведущая в длинный коридор.
— Мне налево, а тебе направо?
— Да. Я иду в канцелярию, — кивнул Вася.
— А я иду сидеть. Ты знаешь, сколько я уже здесь отсидела в общей сложности? А года два! За что?
Вася неуютно поежился.
— И кто бы мог подумать, что та милая, нежная девочка…
— Станет такой стервой. Я и была стервой, Вась, только скрывала. А теперь зачем скрывать? Я от хитрости вылечилась, а здоровый человек не должен стесняться своего здоровья. И ты не болей, Вася.
Она развернулась и пошла по длинному коридору.
— Я позвоню! — крикнул он вслед.
— Не болей, — кивнула Лида и ускорила шаг, будто Вася мог ее догнать и не пустить в черное логово жуткого чудовища, в которое она так стремилась попасть.
Она торопливо цокала каблуками, сознавая, что если кто и болеет в этом мире, то это — она. Зрячая, ходячая, не глухая, чувствующая все так, будто родилась без кожи, без мышц и костей, а вся состояла из огромного жгута нервов, она все равно не соглашалась ни с болью, ни с ее отсутствием. Жгут нервов и неусыпный страж — ее совесть — мучили и не мирили ее ни с самой собой, ни с окружающим миром.
А этот трудный мир от всех своих трудов получил только один результат — суровый раздел на свободу и тюрьму, на волю и неволю, между которыми была стена, которую она только что перешагнула. Остался еще один пропускной пункт с двумя автоматическими гулкими дверьми и сонной девушкой на контроле, и Лида окажется такой же заключенной, как и все остальные, таким же опасным врагом, которого боятся по другую сторону крепости.
— Бушуева, в тридцать первый, — сказал дежурный, принимая ее пропуск и листок-требование.
— О, нет! Только не это! — воскликнула Лида потерянно.
— Без капризов! — уперся дежурный и стал записывать ее в журнал.
— Я пойду, посмотрю, может, где-то есть свободное место?
— Нет свободных мест. В тридцать первый.
— Я не пойду на круг. Я лучше подожду.
— Досидите до обеда, — пригрозил дежурный. — Конвой сейчас пойдет в последний раз. У нас людей не хватает.
— Ладно, — вздохнула Лида.
Тюрьма называлась «Кресты» не просто так, а потому что была построена в форме двух крестов. Центром каждого креста был круг, по стенам которого изнутри ползли вверх до самого купола тонкие металлические лестницы, защищенные от внутреннего пустого пространства железной тонкой сеткой. Лестницы ныряли в провалы-дыры дверей, ведущие во все четыре крыла креста согласно этажности, и вся конструкция круга была похожа на стоматологический изысканный, оригинальный протез с тонкими сверкающими зацепами и держалками для огромной пасти с невидимыми, прогнившими дверными отверстиями зубов. Все это гулко звякало, брякало, звенело и двигалось. По стенам изредка молча шли люди, как механические, неживые игрушки. Они ползли по стенам, как клопы или тараканы, а внизу, в центре круга лежали огромные овчарки без намордников, охранявшие все входы и выходы, в том числе и адвокатские кабинеты. Во всем этом гуле не было человеческих голосов, и потому он был наполнен жутким отсутствия духа.
Собаками командовали двое охранников, лениво беседовавших между собой и готовые в любой момент прервать беседу коротким «Фас!»
Лида прошла по широкому коридору мимо шеренги обыскиваемых арестантов, мимо «стаканов», в которых по стойке «смирно» стояли люди, вдоль стен, сплошь состоящих из дверей в камеры-кабинеты. На дверях кабинетов блестели стеклянные окошки, через которые было видно, что все кабинеты наполнены людьми. Чем ближе подходила она к злополучному «кругу», тем тяжелее становилась ее походка. Ноги просто не шли, и она с удивлением и завистью смотрела на бодрых, шныряющих по коридору охранников.
Собаки сегодня не лежали, а сонно прохаживались по гладко выбритому полу. Когда Лида вошла в круг, одна из них тихо проскользила сбоку от нее, подошла и стала обнюхивать.
— Уберите собаку, — железным голосом сказала Лида охраннику, который стоял, привалившись спиной к стене и бездумно глядя перед собой.
Тот не шелохнулся.
— Пожалуйста, уберите собаку, — попросила Лида, чуть поежившись.
— Боитесь собак? — спросил охранник, не меняя выражения лица, — Не бойтесь. Она без команды не тронет.
«Тебя боюсь», — ответила мысленно Лида, изучая его невыразительное лицо. Такой вот бесстрастно скажет «Фас!», и волкодав бросится на нее и вцепится в горло. И лежи потом в этом круге. Лида передернулась от грубой мысли, представив нехорошую картину и всю несчастную свою семью.
— Тузик, Тузик, — бесцветно позвал собаку охранник. Волкодав медленно, как груженый корабль, развернулся и подрулил к хозяину.
— Тузик, видите ли… — прошептала Лида, торопливо перебегая центр круга и со всего маха врываясь в свой тридцать первый кабинет.
— Карапузик, понимаешь. Можно сказать даже малышок! — возмущенно шептала она.
— Тузик, блин… — передразнила она охранника, дергая дверь за ручку, ухватившись за нее двумя руками и изо всех сил втискивая ее в дверную коробку.
— Ав-ав! — донеслось из-за спины.
Лида замерла и осторожно посмотрела через плечо.
За столом сидел Миша.
— Ав-ав! — повторил он, улыбаясь широко и радостно.
Лида облегченно вздохнула и улыбнулась ему в ответ.
— Кошмар какой-то с этими собаками, — пожаловалась она вместо приветствия. — Ни намордников, ни поводков. Стоит жлоб, толоконный лоб, спит себе сладко. Кто его знает, что ему снится? Проснется не вовремя, да спросонья скомандует этому Тузику. И поминай меня потом, как звали. Ужас какой-то.
— Успокойся, — ответил Миша. — Сядь, попей сока.
Он поставил на стол картонную упаковку с апельсиновым соком.
— Как ты его пронес? — насторожилась Лида.
— Без вопросов.
— А у меня все забрали. Ни сигареты, ни шоколадку не разрешили пронести.
— Мне никто ничего не сказал, — пожал плечами Миша.
— Ну, дай тогда мне пачку сигарет, а то я с пустыми руками.
— Возьми, — кивнул Миша.
Лида села напротив, привычным движением попыталась пододвинуть под собой стул, но тот упрямо остался на месте. В кабинете все было привинчено к полу раз и навсегда, все срослось друг с другом навеки, и только люди здесь постоянно менялись. За один день кабинет, как маленькая планета, принимал и провожал несколько поколений людей, оставаясь при этом незыблемой и несокрушимой основой.
— Гуляем? — улыбнулась Лида.
— Где еще и погулять, как не в тюрьме, — грустно согласился Миша.
— Часа два сегодня прождем, — предположила Лида. — У них водить некому. Похоже, что под обед попали.
— Тогда три-четыре часика.
— Главное, что не одна. Вдвоем веселей.
— Вдвоем везде веселей, — многозначительно подтвердил Миша.
— Особенно сидеть в тюрьме, — кивнула Лида и подмигнула ему.
Глава 6
Больше всего Тимохе было неприятно, что дед Филя остался без велосипедной камеры. Даже не Тамарины грубые, злые шаги, не больной укол, даже не обида на вознесшегося над народом Власа, даже не жалость к Анфискам, а эта вот несчастная некупленная покрышка, которую старик где-то терпеливо ждет, вглядываясь в сумерки и мечтая об исправленном велосипеде.
Тимоху грызла совесть. У совести было много зубов, и иногда она вцеплялась в душу всеми сразу, сжав челюсти мертвой хваткой, как молодой, откормленный бультерьер, который и рад бы, да не знает, как разжать зубы. И тогда измученная этой болью душа, кривляясь и хитря, просила Тимоху полить бультерьера спиртом. Спирт бультерьер не выносил. Он разжимал зубы и прятался на время Тимохиного запоя. Но когда спирт заканчивался или тело больше не могло принимать его, оказывалась, что от укуса оставалась огромная рваная рана, кровоточащая, пульсирующая, обожженная спиртом и невыносимая для души. И тогда Тимохе казалось, что лучше бы он жил с этим тяжелым висящим грузом, чем без оторванного бультерьером куска души. Тимоха тяжело и мучительно каялся, и боль постепенно отпускала его.
У совести были и особо острые, отдельно торчащие крепкие клычки, которыми она прокусывала душу то в одном, то в другом месте. Боль от этого была острой, резкой, но не всеобщей, хотя и пронзала насквозь, прожигала конкретное место, хотя чувствовалась сильнее, но ранку потом можно было быстро залечить, она легко затягивалась добрыми словами и делами.
Насчет покрышки совесть легко прикусывала Тимохину душу, не собираясь наносить вред, но и не давая покоя. Она легонько сжимала острые зубы, отчего Тимоха крякал, вытирал рукой вспотевший под шапкой лоб. Потом появилась еще пара клычков, царапающих его насчет нерасколотых Анфискиных дров, потом еще парочка насчет прошлой их с Тамарой жизни, потом он почувствовал, что клычки уже впиваются в незримую, смертельно чувственную ткань и понял, что челюсти напряглись, набухли и вот-вот сожмутся. Бультерьер готовился к атаке, а это означало — уйти в следующий запой. Перерывы между запоями получались слишком короткими, и Тимоха чувствовал, что следующий раз будет последним. Он круто развернулся на пятках и, прибавив скорость, тяжелым, быстрым шагом пошел сквозь мрак широкой, заросшей ивняком улицы в сторону материнского дома.
Челюсти щелкали где-то позади, и чем быстрее и тяжелее бежал Тимоха, тем тише был этот звук. Глухие, трудные удары сердца, стучащего не в груди, а в ушах и в глазах, словно заменили опасный костяной лязг на мягкое всепрощающее буханье. Свет на улице не горел. Ненужные фонари, отключенные по команде Власа, клонили повинные головы перед редкими прохожими и были похожи на приготовленные виселицы, едва приметные и оттого еще более зловещие на звездном фоне залитого тусклым лунным светом неба.
Последние годы уличное освещение в целях экономии электричества было отключено, и луна была единственной заботливой нянькой для припозднившихся из школы ребятишек и торопящихся с работы взрослых.
Работы в последнее время в городке тоже не стало. Три завода обанкротились и их закрыли. Один уже растаскали на доски и кирпичи, а два других пока были целы. Мужики, потеряв дело, стали пить. Область принялась за производство дешевой водки, чтобы люди не травились самогонкой. Но самогонку от этого стали гнать еще веселей и злей, добавляя в нее всякие таблетки, кто какие кому посоветует. И от этого многие утром уже не просыпались.
Женщины благодаря своей выносливости и более гибкой психике лучше приспосабливались к сложившимся условиям нового строя, и самые слабые из них вдруг оказывались сильными, а сильные, боевые, умные вдруг давали слабинку и начинали попивать, потому что если сильному человеку не к чему применить свою силу, он начинает эту силу убивать. Если любовь влюбленного безответна, он начинает душить эту любовь, если красоту никто не замечает, то красоту принимаются стирать с лица. А уж каким способом происходит это крушение и разрушение — всякий выбирает свой: кто одним махом, кто потихоньку, слабо сопротивляясь разрушительной власти, а кто и с боем, с грозным сопротивлением, с боями, пугая свою и чужие души.
Кладбище городка, расположенное почти в его центре, который раньше был окраиной, старое, заросшее сиренью и липами, стало мерилом. Раньше, огражденное невысокой каменной стеной, как тисками, оно не смело выползать из установленных временем рамок и существовало размеренно, достигнув определенной этими стенами величины и не вырастая в размерах. Холмики могил не теснили друг друга, и между семейными захоронениями, скованными в железные тиски невысоких оградок, росли мощные деревья, окруженные зарослями сирени и акации.
Периоды жизни позволяли одному поколению за двадцать — двадцать пять лет стать прахом, чтобы земля приняла в ту же могилу следующее поколение людей. И потому кладбище не разрасталось. Но за последние десять лет за кладбищенской стеной, в сторону озера, дальше от города выросло еще одно почти такое же по размерам. Кладбище назвали новым. Оно выплеснулось из-за крепкой стены старого, как неодолимая сила смерти, расползлось по болотистой земле, возводя на ней невысокие холмики и оградки, обставленные шуршащими на ветру пластмассовыми венками.
На оградках сидели галки и вороны, сердито поглядывая по сторонам в ожидании поживы. Новое кладбище было голым и неуютным. Ровные ряды могил неестественным строем напоминали братские поспешные захоронения после военных действий. Никто не смел сажать деревья и кусты, будто сознавая в глубине души, что это — не настоящее, не естественное кладбище, а будущий памятный мемориал неясной войне, в которой не было воинов-героев, а были только миллионы невинных жертв.
Задыхаясь, Тимоха подбежал к калитке. Силы были на исходе. Он ввалился во двор, не обращая внимания на лай старого пса, сослепу или спросонья не узнавшего его, постучал в дверь и стал ждлать.
Те миллионы невинных жертв, к которым он едва себя не причислил, были все-таки повинны и в своей смерти, и во всем том, что происходило сейчас на его земле. Тимоха понимал, что еще одна-две опасных игры со своим сердцем, и он тоже закончит свой путь, так и не выпустив книгу, не вырастив Ваньку, не вымолив прощения за все свои грехи.
Мать долго не открывала, но в коридоре что-то шуршало. Тимоха постучал еще раз и там кто-то подпрыгнул. Стало неприятно и одиноко. Тимоха еще раз постучал, потом внезапно запаниковал и принялся изо всей силы барабанить кулаком в дверь. В коридоре оголтело взвыл от ужаса старый кот Триша. Его вой, чуть похожий на человеческий, испугал Тимоху окончательно, и он замер, вжав голову в плечи в предчувствии чего-то жуткого.
В этот момент в коридор вышла мать.
— Кто там? — тонким, детским каким-то голоском спросила она.
— Я, мам, — виновато пробасил Тимоха.
За дверью растерянно притихли.
— Ты, сынок?
— Я, мам, — повторил Тимоха и крякнул.
Мать молча открыла два крюка и поправляя на голове плотный, шерстяной платок, свисающий почти до пола вдоль тела, как плащ-палатка.
Тимоха плотно захлопнул за собой дверь привычным с детства движением и сел в прихожей с размаха на стул, широко расставив ноги в кирзовых сапогах.
— Помочь разуться? — спросила мать.
— Не надо, я сейчас пойду, — ответил Тимоха, закрывая глаза.
В доме было тепло и тихо. Только что истопленная печь ласково дышала жаром, колыша цветастую занавеску, которая, как челка на ее лбу, шевелилась от сильных, но неслышных вздохов. На чистом столе в трехлитровой банке отстаивался чайный гриб — любимый Тимохин напиток, в тарелке аппетитными тонкими краями теснили друг друга кружевные, хрупкие блины, сплошь состоящие из дырочек.
— Куда ты пойдешь, ночь уже, — сказала мать и, открыв духовку, поставила туда тарелку с блинами. — Раздевайся, разувайся, садись блины ешь. Сейчас подогреются.
— У тебя всегда так. Ешь, пей, спи, работай. Никаких других слов, — вздохнул Тимоха.
— А какие ты хочешь слова? — спросила мать, глядя на него покрасневшими от нездоровья глазами.
— Я, можно сказать, писатель. Причем российского масштаба. Я весь состою из слов. А у вас я, у вас всех — вот как этот кот. Тришка, кис-кис. Поешь, попей молочка!
Мать спокойно сложила шерстяной платок и присела на диван, облокотившись об его ручку, как зритель в кресле.
— Что нового? — угрюмо спросил Тимоха и принялся стаскивать сапоги.
— Так ничего, — пожала плечами мать, — Сегодня ходила к Сереже на похороны. Похоронили мальчика.
— К какому Сереже?
— К однокласснику твоему, Иванову. Что-то плохое выпил, а утром не проснулся.
Тимоха зло поморщился.
— А три дня назад Таня умерла, — продолжила отчитываться мать. — Жалко Таню. Красивая была, умная. А ведь так дошла, что замерзла в своем же доме. Не война ведь, не блокада, отчего было печки не натопить? Такая добрая девочка была, когда в школе училась. Всем и уроки поможет сделать, и матери по дому помогала, сама шила, вязала. Как быстро жизнь ее прошла. А все водка проклятая!
— Мне назад сапоги обуть? — нахмурился Тимоха.
— Зачем же? — удивилась мать, высоко подняв светлые бровки.
— Мам, хватит про покойников говорить. Каждый раз, когда я к тебе прихожу, ты отчитываешься передо мной, как будто я та самая старуха с косой и пришла узнать о проделанной в городе работе. Я о живых спрашиваю тебя! О живых!
Мать, как школьница, аккуратно сложила узкие, тонкие руки на коленях и скользнула взглядом по стене, будто там находилась черная школьная доска с мелками и подсказками. Она вздохнула и сосредоточилась.
— Ну, — поторопил ее Тимоха
— Что живые? — переспросила мать, — Живые живут. Куда им деваться? Дорога у всех одна…
— Опять…Ванька-то как?! — крикнул в голос Тимоха и стукнул себя кулаком по коленке.
Мать вскочила, открыла духовку, достала подогретые блины.
— Не надо нервничать, — приговаривала она, доставая из холодильника сметану и масло. — Ребенок в порядке, дед в порядке, Лида работает. Все хорошо.
— Все замечательно! — воскликнул Тимоха. — Исключительная красота!
— Ну да, — кивнула мать
— А деньги где берут? Дед кует по ночам? Или с неба валятся?
— Ну, кое-что и валится с неба. Лида работает. У дедушки пенсия.
— Понятно, — кивнул Тимоха, — У всех все хорошо. Одному мне плохо.
— Это тебе так только кажется, — успокоила его мать. — Ты ешь, ешь, пока теплые. Словами-то сыт не будешь.
Тимоха послушно свернул уголком тонкий блин и макнул его в сметану.
— На самом деле, все не так и плохо, сынок, Сыты все. Обуты, одеты. Не видели вы худого. Войны, голода не знали, с жиру и взбесились.
Тимоха перестал жевать и отложил блин в сторону.
— Мам, я спорить с тобой не хочу, но все же скажу. Человек сыт бывает полдня. Потом он снова хочет есть. Обут он на месяц, одет на год, не в том беда. Будет день, будет и пища, мир не без добрых людей, а земля прокормит, помереть не даст. А вот если человек — дурак, то это на всю жизнь, если душа — калека, то она до смерти — калека. Мы все про тело, мам! Это раньше ваше поколение намучило тела непосильной работой, голодом, холодом. Но вам было за что бороться, для чего работать, терпеть. У вас идея была – вы выживали! А нам тела свои опостылели. Вон, включи телевизор или радио. Одни лекарства пропагандируют. Одних через лекарства со свету сживают, других — без лекарств. Тело — дело нехитрое. А душа не хочет подчиняться ему, устала подчиняться!. Отсутствие движения вперед — это уже движение назад. Всякая остановка — это деградация, начало конца.
— Так ведь у всякого начала есть конец. Остановиться иногда нужно путнику. — робко возразила мать. — Шел, шел, а впереди канава. Как перепрыгнешь? Шагом не одолеешь. А перед прыжком надо и поразмыслить, и руками помахать, сил набраться. И помучиться, посомневаться…Перед прыжком-то… Иди, Тим, спать. Я на печке перину постелю.
Мать мимоходом тронула Тимоху за плечо и пошла в комнату.
— Так а кто прыгает через канаву? — спохватился Тимоха. — Опять же тело?
— А хочешь, тело, а хочешь, душа. Называй, как хочешь, все равно они друг без дружки до смерти никуда. Без сил, да без Божьей помощи ничего в жизни, Тимоша, не сделаешь, а если и сделаешь, то в один день потеряешь. «По плодам узнаете» А у тебя какие плоды? Собирай бумажки и езжай в Ленинград, пока воз твой на месте стоит, а не покатился под гору задом наперед. Сопьешься здесь без толку, как и другие.
— Куда я поеду? Хозяйство свое не брошу же, — с сомнением сказал Тимоха.
— Хозяйство за день прибрать можно, перерезать, переработать. Отвезешь с собой, сам сыт будешь и Лиде поможешь. А деда я сюда заберу.
— Хорошо ты придумала. На словах легко перетряхнуть чужую жизнь за один день.
— А ты, сынок, свою жизнь на деле перетряхнул. Это ведь кому сказать! Поменять город, работу, положение на деревенское безделье! Перед людьми стыдно. Я для чего тебя учила?
— Я пишу… Я работаю…
— Ты пьешь, а не пишешь! Что ты написал за последние два года? Ты выпустил десять книг за пять лет в Ленинграде, а здесь что?
— Я собираю материал.
— А стихи? Ты их собираешь тоже? На пьяную голову?
— На пьяную голову ничего не напишешь. Стихи я уже не могу… Не диктуют мне…
— Вот и вывод, Тимоша. Два года ты прожил на свете зря. Ни себе, ни людям хорошего ничего не сделал. Хоть бы о ребенке вспомнил, писатель Российского масштаба…
Мать заворчала, шумно и часто дыша, принялась застилать одеялами и простынями пышную, теплую перину на печке. Предвкушая тепло и уют любимого с детства уголка, Тимоха потянулся, хрустнув плечевыми суставами и принялся с аппетитом есть блины.
Мать не переспоришь. Она знает, когда, в какой момент и что сказать. Голодному — одни слова, сытому — другие. Сонному — третье, бодрому — четвертое. А перед теплой, уютной постелью, да под тонкие блинчики можно высказать все, что накипело. Проглотит Тимоха, и пойдет ему на пользу.
— Может, поедем завтра вместе в деревню, посмотрим, как там и что? Может, решим чего с хозяйством моим? — предложил неуверенно Тимоха.
— К отцу на могилку зайдем, в церковь сходим, а там посмотрим. Ехать-то все одно тебе придется, а то загоним мы Лиду на тот свет. Тяжко ей, сынок.
— Не жаловалась.
— Она не пожалуется, но ты сам подумай, одна такое семейство тащит.
— Никто не просил, — буркнул Тимоха. — Ванька мог здесь у меня жить, а дед у тебя.
— Деду могут квартиру дать, а Ванечке нужна хорошая школа. Из нашей-то школы ребяткам никуда не поступить. Это не то, что раньше, если ты хорошо учился, то поехал, сдал честно экзамены, прошел конкурс и учился за счет государства. И Лида так. А теперь все платно. Вон у Сергеевны внучок, с золотой медалью школу закончил, Артемка, помнишь его?
— Ну…
— Поступил на бюджетное отделение сразу в три института, а выбрал финансово-экономический. Глупыш. Маленький еще…
— Да что случилось-то?
— Мать почтальонкой работает, отец на тракторе у фермера халтурит. Что они зарабатывают? А послать надо на прожитье сколько? Вот и вернулся Артемка. Сторожит сейчас машины по ночам за пятьсот рублей. На сколько его хватит? Голова-то умная, думать будет, а выхода кроме водки не найдет. Все они заранее приговорены, детишки деревенские умные. Все это политика. Настоящих уничтожат. А Лида знает, что делает.
— Ты где этого набралась, мать? Про политику…
— Не в лесу живу, поди. С людьми общаюсь. Что сказали, до чего сама додумалась. Мать-то Ванина не объявилась?
— Ладно, чего там, — отмахнулся Тимоха. — Утро вечера мудренее. Завтра и поговорим.
Он разделся и неуклюже завалился на горячую лежанку, сдержанно, виновато покряхтывая и благостно вздыхая. Мать подошла и подоткнула одеяло, как в детстве. Он сделал вид, что не заметил, но крепко зажмурил глаза и спрятал лицо под руку, чтобы она не видела, как мелко и нервно затряслась его нижняя губа, согнувшаяся кривой подковкой под щетинистым подбородком.
— А она мне говорит, уж Тимоша Примеров — это гордость нашей школы! Гордость эта на печке в деревне распьяну-пьянущая… Гордость…
— Кто говорит? — выдавил через силу Тимоха.
— Все говорят. Гордость и надежда. Талант, говорят. Прямо, хоть в магазин не ходи, хоть сама хлеб пеки. Я уж лишний раз и не иду…
Мать пошла в свою комнату, протяжно вздыхая, а Тимоха все не мог убрать руку со лба и лечь прямо на спину. Подковка губ не выпрямлялась, а напротив, все судорожнее и крепче сжималась, дрожа от напряжения и грозя расколоться пополам, выплеснув горький всхлип. Тимоха крепко потер рот, расправляя рукой ненужную гримасу и повернулся на другой бок, беспечно, вызывающе нагло ахнув. Получилось как-то по-женски, тонко и кокетливо, что означало, что вся эта жизнь — пустая шутка. Терпеть можно. «Будь, что будет», — подумал Тимоха и зажмурил глаза. Сон сразу не пришел, а потом его уже не стали пускать разные мысли. Тимоха стал представлять, как они с матерью завтра поедут в деревню, что придется делать с поросенком, с курами, с собакой и прочей живностью. Несколько раз он приходил к выводу, что придется остаться до лета, но мысли опять возвращались в Ленинград и Тимоха переворачивался на другой бок.
Он считал до ста, до тысячи, но путался в цифрах и начинал сначала. Влас будет, конечно, рад его отъезду. Такой груз с плеч свалится. Влас был его одноклассником и объединяла их не только школьная дружба, но и общая неразглашенная тайна. Тимоха был отличником в школе, а Влас — беспробудным двоечником. Теперь Влас был главой района, а Тимоха на данном этапе — беспробудным пьяницей. Оба понимали, что медаль не один раз переворачивается другой стороной. Ветер подует, она звякнет, перевернется, и тогда беспробудным будет Влас, а первым — Тимоха. Может потому, что оба осознавали эту неустойчивость висящей на ветру медали, они дружили странной, терпеливой, сдержанной, но до предела натянутой дружбой. Тимоха мог в любое время ввалиться в кабинет Власа, бросив секретарше Тонечке, сразу впадавшей в транс от его вида: «К нам никого не впускать!» Он мог грохнуть перед ее носом дверью, заставив несчастную подвинуть стул ближе к щелочке в двери, приставить ухо и вздрагивать от бухающих, глухих ударов кулаком по столу.
Влас слушался Тимоху, хоть и спорил до хрипоты, ругался, злился, советовал не лезть в чужие дела, но утром поступал все же по Тимохиному приказу. Последнее время советы друга стали раздражать Власа, будто настала другая формация и он как глава района уже не пытался беречь и охранять вверенное ему хозяйство, а старался только удержаться на своем месте. Будто настало такое время, когда все решения были уже приняты, прописаны и выполнены. Ничего не надо было выполнять, потому что выполнять уже стало нечего. Влас по старой привычке и по горячности своей иногда все же спорил и доказывал в области приписные истины, но район все-таки постепенно погибал. В течение этого года его могли присоединить к соседнему, а Власову должность сократить. И тогда Влас, как все бывшие двоечники, будет разводить домашнее хозяйство, заготавливать сено и по вечерам потихоньку спиваться от безысходности.
Тимоха крякнул досадливо, представив, что будет говорить Власу на прощание. Мол, ты и такие, как ты погубили матушку Россию. Лучше надо было в школе учиться, а то мозгов хватает только на то, чтобы исполнять чужие указания. Так вот он скажет Власу, да только что в том толку? Встанет Влас, как обычно, из-за стола своего дубового, обопрется крупными кулачищами об стол и загремит, как колокол: «Умники проклятые! Интеллигенты очкастые! Снюхались там в городе с шайкой-лейкой. Вас для того сюда потом и засылают, чтобы изнутри все загубить! Книжки они пишут, как же! Засели по деревням в обнимку с бабами да с бутылками, материал собирают. Из бабьих юбок, что ли? Из чего материал? Наблюдать приехали, как Россия вымирает? Нестор-летописец! Так тот про победы писал, а ты про крушение. Ты не писатель, ты патологоанатом, или вон даже хуже. Ты — Настька-моргистка, что покойникам губы помадой мажет, чтоб не так страшно на похоронах было»
Тимоха так явно услышал эту речь друга, что сердце его забилось часто-часто, как у кота Тришки, и он перевернулся на другой бок, скинув одеяло с разгоряченного, пышущего жаром тела и принялся спорить с Власом.
— Извините, — несогласно покрутил он головой, шурша слетевшими на подушку луковыми шелушками, — Простите, любезный, вы ошибаетесь.
— Сам ты любезный! — взвился в сознании Влас, не давая сказать Тимохе ни слова и брызжа слюной вдоль печки, стал непрерывно посылать Тимоху.
— И тебя туда же, — вежливо отвечал Тимоха.
— Я уже там! И каска на макушке!
— Ну так сиди и слушай, что люди говорят. А люди говорят вот что.
Тут Тимоха набрал в себя воздуха и задумчиво промычал. Речь его не строилась и кроме глупых половинок из длинных слов он ничего не мог сказать. Он поднапрягся и произнес:
— Нас, писателей, мало. Мы не все в морге работаем. Настька нам не помогает. Она помаду экономит, прячет в холодильнике на верхней полке, а мажет всех свеклой вареной. А у самой-то губы напомажены, вишь какое дело, тут надо Декрет. Новый Декрет. Тут область не поможет…
На этом месте сквозь стену или даже из шкафа, неслышно открыв дверцы, в кабинет вошел Семен Иванович Торгашев, глава соседнего района. Он встал на цыпочки, как балерина, и танцующей походкой, широко распахнув длинные, красные руки, стал подкрадываться к Власу сзади, как будто Влас был жирной курицей, Семен Иванович — хозяином, а какие-то гости ждали наваристых щей.
— Вот эти беси сейчас приберут нас к рукам, — бесцветным голосом сказал Влас, не оглядываясь. — Он уже забрал у нас почту, телеграф, мосты, банки.
— Дело, так сказать, бессмер-р-ртно! Взвизгнул за спиной Власа Семен Иванович, но Влас даже не вздрогнул.
— Р-р-революция победит! — прокаркал он. — Мы еще возьмем и железнодорожную станцию, школу, вокзал. Мы завоюем дом культуры! — Он махал рукой в воздухе, как оживший памятник а потом вдруг неожиданно хихикнул и захлопал в ладоши, как ребенок:
— Да, я чуть не забыл, чуть не забыл! Еще и библиотеку вашу возьмем. Со всеми писательскими мозгами.
— Там только детективы и женские романы, — попробовал спасти библиотеку Тимоха.
Семен Иванович медленно опустил руки, перестав хлопать в ладоши и, ледяным взглядом окинув Тимоху, заявил голосом автоответчика:
— Тех, кто окажет сопротивление, мы будем уничтожать физически. Молодежь мы растлим, старшие будут вынуждены умереть сами, трудоспособное население убьет себя водкой и безработицей.
Тимоха понял, что речь идет о нем и замолчал.
Семен Иванович подошел сзади к Власу и, прикрыв ему глаза кистями рук, стал играть в «тю-тю».
— Кто я? — хихикал он умильно и кляцал желтыми лошадиными зубами, как копытами по тротуару.
— Угадай!
— Бил, — скромно и застенчиво мямлил Влас.
— Ве-р-рно! — как ворон каркал на его плече Семен Иванович и желтые его зубы плавились от счастливой улыбки и начинали сверкать, превращаясь в золотые. Лицо его при этом круглело, глаза выпучивались, брови росли, а уши медленно сползали жидким студнем к плечам.
— Кто я? Тю-тю!
И Влас бездумно вякал:
— Вяу, вяу!
— Вер-р-рно! — зловеще каркал Семен Иванович, и его новая голова начинала превращаться в другую, плавно меняя очертания губ, размер и форму носа, цвет волос и глаз. Влас все называл послушно неизвестные Тимохе какие-то имена и создавалось такое впечатление, что имена не были известны и самому Власу, а каркающая голова шептала ему ответы на ухо. Влас, как завороженный, мял свои кулаки, медленно, сдержанно постукивая ими по столу, вжимая до вмятины в полированную крышку и не решаясь убрать с глаз костлявые, длинные, красные пальцы.
— Да гони ты его вон! — возмутился Тимоха и вскочил с места. — Кыш! Кыш! — Он схватил стул и замахнулся на очередную голову, выросшую на плече Власа. Но глаза головы засияли синим светом, и в мозгу Тимохи одна за другой на фоне этого сияния проползли черные, толстые, сально блестящие буквы: «А тех, кто будет сопротивляться, мы уничтожим физически».
— Прости, Влас, — сказал Тимоха и со всей силы замахнувшись стулом, саданул им по двум головам сразу — по Власовой и другой, незнакомой.
Пергаментные жгуты пальцев медленно растопырились, как куриные лапы, и Тимоха увидел потухшие, мертвые глаза Власа.
— Тех, кто будет сопротивляться мы расстреляем. Лучше расстреляем, вешать глупо и не современно, — говорил Влас, проговаривая слова по слогам, четко и аккуратно, как робот, а голова на его плече ластилась и гладилась об его оттопыренное ухо, меняя цвета от фиолетового до желтого, и медленно таяла от нежности и счастья. Когда она, наконец, вся растаяла, Влас встрепенулся, зевнул и поморщился досадливо:
— Ты еще здесь? Не мешай работать. И молодежь мы растлим. И не спорь. Позови Тонечку.
Тимоха щелкнул пальцами, и Тонечка вылезла из-под стола, поправляя на тощей, висящей, как ушки спаниеля, груди, блестящий, прозрачный лифчик.
— Записывай, Антонина, — велел Влас, поправляя пояс штанов. — Перечень исполняемых на дискотеках песен. Внесешь в перечень самое развратное, на свой вкус. Такое, чтобы очень-очень раздражало нервные центры. Ты поняла, о каких центрах я говорю?
Антонинины висячие ушки стали пухнуть и наливаться прямо на глазах.
— Вот, господа, прямой показатель правильности выбранного нами пути! — возвестил Влас, тыча толстым пальцем в Тонечкину грудь. — Ее мы почти растлили. Да, Антонина? — промяукал он, как Тимохин кот Тришка.
— А я не против, — резким голосом проблеяла Тонечка.
— Тогда пригласи за разъяснением завотделом культуры. Начнем с культуры. Форма одежды — шорты и майка. Галстуки убрать навсегда.
— Можно подумать… — язвительно сказала Тонечка и, состроив капризную гримаску на сухоньком, крысином личике, завихляла бедрами в сторону дверей. Там она остановилась и томно произнесла:
— Галстук — вещь оригинальная.
Влас поправил судорожным движением свой галстук и счастливо засиял глазами, нервно передернулся.
— Дело пошло. Пошло дело! Ох, Антонина!
Тимоха почувствовал отлив крови от лица. Щекам его стало как-то холодно, а глаза, вытаращенные на Антонину, замерзли так, что перестали мигать. Тимоха накрыл их ладошками и долго прижимал, согревая, пока лед не превратился в слезы.
Когда Тимоха вновь опустил руки, в кабинете стоял завотделом культуры в коротких, желтых шортах, обтягивающих жирный, треугольный зад и безобразно распущенный живот. Из шорт торчали рыхлые голубоватые ноги, абсолютно лысые, как мраморные колонны.
— Миклун Бардакович, отныне вас звать Майклом. Потому что надоело язык ломать. Новоиспеченный Майкл щелкнул пятками в белых кроссовках, отчего его жирный живот колыхнулся мощной волной над приникшим столом.
— Осторожней, — поморщился Влас, — Занялись бы, что ли, спортом в свободное время. А пока записывайте: библиотеку сжечь.
— Как сжечь? — удивился Майкл.
— А вы как думали, товарищ? — засунув шустро большие пальцы за борта воображаемой жилетки, назидательно наклонил набок голову Влас и Тимоха с ужасом увидел, как голова его лысеет на глазах, впитывая светлые волосинки багровой, агрессивной кожей. Подбородок Власа вытянулся и оформился в острый клочок бородки, а узкие глазки хитровато засияли.
— Мы начнем с культурной революции. А революция невозможна без диктатуры, товарищ. Извиняюсь, господин, за оговорки. Диктат неизбежен и будет начат не позднее семнадцати часов по ихнему времени. Запишите, кстати: изъять из школ все учебники истории и переписать их. Предмет литературы больше не преподавать. Нечего детям внушать всякие русские штучки. Вывески в городе перевести на английский, в крайнем случае, на китайский.
— Я извиняюсь, — промямлил Майкл, переминаясь на резиновых надутых ножках, — Кто ж это поймет-то? Я и то, кроме как по-русски, не понимаю ни бельмеса. И по-китайски кто иероглифы рисовать будет? И к тому же, кто оплатит?
— Я извиняюсь, я зачем вас Майклом назвал? — спросил Влас. — По-моему понятно, что как лодку назовешь, так она и поплывет.
Круглая жабья физиономия Майкла с широким ртом и редко рассаженными по одному, как зрители в первом ряду, зубами, зарделась от гордости за свое заморское происхождение. Тимоха отвел глаза от жабьего рта Майкла и представил его лодкой. Лодка стояла на мелком месте в городском пруду, животом упираясь в грязное, илистое дно а ногами старательно отталкиваясь от берега, широко растопырив их и используя, как весла, руками Майкл бултыхал по воде, чтобы не затонуть, а голова его, как высоко задранная корма в широко расставленными, как у камбалы, угольками глаз, задиралась над водой, оглядывая перспективы далекого и выгодного плавания. Тимоха омерзительно сплюнул на задравшиеся шорты застрявшего корабля и когда открыл глаза, то перед Власом уже стоял завотделом экономики.
На все вопросы он отвечал односложно, как компьютер с голосом:
— Так точно. Будет сделано. Операция начата.
Тимохе показалось, что это и не человек вовсе, а робот или, в крайнем случае, очеловеченный компьютер.
— Четыре завода закрыть! — рубил рукой в воздухе Влас. При этом его речь приняла явный грузинский акцент, а лысина медленно зарастала волосами. Нос Власа набух и превратился в сливу, а под сливой ощетинились усы, в которые Влас изредка пихал не раскуренную, пустую трубку.
— Люди устали работать. Им следует заняться своими семьями, побыть с детьми, отдохнуть, отоспаться.
— Будет сделано! — сверкал очками компьютер, пуская мелкие искры, которые встречались, сталкивались друг с другом в воздухе и щелкали, как щелбаны по лбу.
— Запишите!
— Я запомнил! — отчеканил компьютер сухими веточками губ, за которыми, наверное, не было ни языка, ни зубов.
— И сколько в городе останется заводов?
— Четыре.
— Это лишнее, — протянул Влас. — Два мы подарим соседям. На дрова.
— Они кирпичные…
— Кирпичи — это тоже дрова. Не спорить!
— Будет сделано!
— А два… Что с ними делать-то?
Влас повернулся к Тимохе и глянул на него умными, карими глазами. Глянул, будто к стене пригвоздил.
— Тимка, что делать с этими заводами?
И тут Тимоха впервые ужаснулся, поняв, какое бремя власти лежит на вожде. Одна минута на раздумье, две минуты на приказ, и город разрушен!
Тимоха онемел. Он не знал, что делать с оставшимися заводами.
— Хорошо, — сказал Влас и сунул трубку в рот, — Один мы сделаем мыловарней, а на другом будем клей варить.
— А сырье? — осторожно уточнил компьютер.
— Из людей будем варить, — сказал Влас, раскладывая на столе бумаги. Из толстых — мыло, из сухих — клей.
Он поднял тяжелый взгляд на начальника отдела экономики и нездоровое его лицо в рытвинках, ямках и бородавках стало бордовым. — Мы не хотим лишней крови. Мирный переход — вот наша задача. И к тому же я не люблю теперь расстрелы. Это детские игры. Мелковато.
— Я запомнил, — сказал компьютер.
— Страна слишком велика, но мы догоним и перегоним ведущие страны в производстве мыла и клея на душу населения.
— Влас! — воскликнул Тимоха, — То есть этот, как вас звать? Не смейте! Разве можно даже говорить такое!
— Можно делать. Нужно делать, — кивнул Влас.
Начальник отдела экономики сверкнул очками в сторону Тимохи и лицо его сгладилось, стало абсолютно ровным и белым, как яйцо, к которому прицепили очки. В очках что-то щелкало неотвратимо и обреченно, как предохранители миллионов пистолетов и револьверов.
— Вы-то кто тут такой вообще? — возмутился Тимоха, вглядываясь в сверкающие очки и не обнаруживая там глаз.
— Это наш человек, это верный слуга наших идей, — успокоил его Влас и добавил вполголоса. — А тех, кто будет сопротивляться, мы уничтожим физически!
Тимоха удивленно поднял брови, но не успел ничего ответить, как дверь в кабинет распахнулась и на низком, замученном коньке, скользящем копытцами по паркету, медленно вплыл по разряженному воздуху сельский пастух Еким. Он спешился и обтер о гриву конька перемазанные навозом руки.
— Влас Антонович, чего вы меня звали? Извиняйте, что мы запросто вот так к вам с моим Сивкой-Буркой. Нынче у вас постовой на входе придремал, вот мы и проскочили. В запое, что ли? Не изволил нас задержать…
— Еким! — назидательно перебил его Влас, и при этом усы его стали выпадать и по одной волосинке перелетать в пепельницу на столе. Туда же про запас стали слетать и складываться рядами волосы с макушки головы, обнажая блестящую, как кочан свежей капусты лысую голову. Глазки выцвели, и Влас облетел и полинял мгновенно, как жухлый одуванчик, обильно опыленный хлоркой.
— Еким, ты знаешь, как раньше переводилось твое имя? Ето — коммунистический интернационал молодежи.
— Ну, — согласно кивнул Еким, ковыряясь заодно пальцем в носу.
— А теперь это будет звучать так: единая команда использующих мир. ЕКИМ!
— Ну, — снова согласился Еким, рассматривая кончик пальца с козявкой. — А нам, крестьянам, все равно: что наступать — бежать, что отступать — бежать. Зови, как знаешь.
— Некуда тебе бежать, Еким. Твое дело — пахать землю.
— Так и пахать надо в пробежку, — не согласился Еким. — Мы в кабинетах не сидим. У нас от беготни это самое место в лапы пошло. Вишь, какие лапы у меня?
Еким растопырил перед круглым, надувным лицом Власа корявые, широкие ладони в заскорузлых мозолях, и Влас недовольно отшатнулся, вжимая голову в плечи и пряча дряблую шею.
— А счас еще и ноги покажу! — пригрозил Еким и стал снимать кирзовые, грязные сапоги. Коняшка его при этом брезгливо повел ноздрей и неодобрительно фыркнул.
— Но-но, не сахарный, небось, не растаешь, — огрызнулся Еким и стал разматывать вонючую линялую портянку, обнажая при этом розовую, нежную, как у младенца ступню огромного размера.
— Вишь, какие лапы, Влас Антонович? А у тебя какие? А ну, покажи!
— Ладно, ладно, — махнул рукой Влас. — Не устраивай мне тут цирк. Заматывай назад свои лапы, а то замерзнешь.
— Антонина, неси ему лист бумаги, буду задания давать.
Антонина, будто и не выходила в дверь, снова вылезла из-под стола с ворохом бумаги, наряженная в открытое, декольтированное металлическое платье.
— Вау! — произнес Влас и обмяк в кресле.
— Ого! — охнул Еким и стал быстро закручивать портянку. — Круто тут у вас. Не задремлешь…
Он торопливо совал запеленованую ногу в сапог, стыдливо поворачиваясь к оголенной Антонине спиной. Коняшка его нервно переступал ногами, потом он вдруг взбрыкнул, махнул тощим, длинным хвостом и заржал во всю пасть. Кончик хвоста звонко хлестанул Антонину по узким бедрам и та тоже заржала, подражая коньку.
— Но-но! — пригрозил коньку Еким, — Не балуй, шалунище!
Конек виновато потупил голову, свесив гриву и челку на раскосые глаза, но они все равно косились кокетливо в сторону секретарши.
— Пиши, давай, да скачите оба! — велел недовольно Влас, перебирая в толстых пальцах тонкий карандаш, — Короче!
— Я так запомню, — сказал Еким, незаметно приближаясь к Антонине. — Дай хоть на красоту налюбоваться. А то наши бабы, что бревна в картофельных мешках. Эвон, глянь, эта у тебя какая. Какие бывают бабы-то!
— Не на баб смотреть надо в сельском хозяйстве, а на лес! И в землю!
— Земля в лес не убежит, — изрек Еким, неприметно тыча пальцем в худые ребра Антонины. — А бабий век короткий, упустишь — не поймаешь, правда, красавица?
— Садись на своего коня! — приказал Влас, — Потом приедешь! А то руки распустил…
— Но сильно тощая, — пожаловался Еким и расстроено покачал головой.
— Скажешь мужикам, землю пусть не пашут. И не сеют. Пусть все лесом зарастает. Лес нам выгоден.
— Я могу ее откормить, — захорохорился Еким, поглаживая бок Антонины. Отдай мне ее!. Она мигом порядок на селе наведет, слышь, Влас Антонович? Мужик — голова, а баба — шея. Он уважительно погладил Антонину по волосам и сглотнул:
— Как хочет, так и вертит, так и крутит. Но тощая.
— У меня на уме работа, политика, а не бабы на уме, — взвизгнул Влас.
— А я не против, — пробасила Антонина нараспев. — Если Родина пошлет на село, я согласна на село.
Конек встряхнул гривой, бешено зыркнул на хозяина, на Антонину и громогласно проржал нечто отрывистое, похожее на немецкий мат.
— Не выражаться здесь! — хлопнул со всей силы ладонью по столу Влас, отчего железная пепельница подпрыгнула и слетела на пол, бренча и дребезжа, как треснутые колокола.
Конек вздрогнул от неожиданности, приосанился, поднял хвост, и на пол повалились одна за другой парные, влажные шишки. Волосики, лежавшие в пепельнице, взметнулись вдруг и разлетелись по кабинету, смешавшись с воздухом, стали лезть всем в носы. Все стали чихать и кашлять.
Конек, увидев, что никто его не ругает за содеянное, заплясал на месте, заржал, обнажив крупные зубы, вскочил на стол и, проскакал по нему по нему раза четыре, широко разбрасывая в стороны крупные копыта и скользя ими по блестящей полировке. При этом он чуть не задел чихающего, посиневшего Власа, к потной лысине которого, как металлические стружки к магниту со всех сторон летели острые волоски. Они с размаху впивались в кожу и Влас становился похожим на ежа.
— Уволю! — кричал Влас в перерывах между чихами, хмуро сжимая лысые брови, отчего они дотрагивались до кончика носа, а потом ползли вверх к лысине, собираясь помочь Власу чихнуть.
Острые иголки волосков преследовали ускользающие дуги и впивались в них, как только те останавливались.
Конек соскочил со стола, присел, элегантно выставив колено перед Антониной, подставляя ей спину, и та, задрав нос, оттопырила свою сухую ножку и забралась на коня верхом. Еким, чихая и матерясь, вскочил на коня следом за Антониной и, покружившись на месте, они поскакали к дверям.
— Куда? — вскочил Влас, озверевшими глазами сверля спины беглецов.
— Пахать! — крикнула Антонина и махнула ему ворохом бумаг.
— Работы непочатый край! — воскликнул Еким и пришпорил конька.
Тимоха сидел на полу, монотонно раскачиваясь из стороны в сторону, как Ванька-Встанька, и чихал. Он слушал удаляющийся звонкий топот и все пытался спросить у Власа, зачем тот велел земле зарастать лесом, но язык его не слушался и вместо вопроса Тимоха твердил однообразно:
— Цок-цок, цок-цок.
— Потому что земли много, а мужиков мало. Беречь надо мужиков, — ответил Влас.
— Цок-цок, цок-цок.
— Лес срубим и продадим, потом другой вырастет.
— Цок-цок, цок-цок.
— А дети нам в обузу. Незачем нищету плодить? Со временем наша земля вся будет лесом.
— Цок-цок, цок-цок.
— Дурак ты, Тимоха! — возмутился Влас. Кто ж его будет покупать? Кому он нужен, этот лес-то? В нем же партизаны!
— Цок-цок?
— А ты думал! Пусть остальные закроют уши, тогда скажу. Это мой секрет.
Тимоха оглянулся по сторонам, но кроме Власа, обросшего черной шевелюрой и черными бровями, а также кучи конского навоза в кабинете ничего не было.
— Где ты видишь уши? — спросил он Власа, не узнав своего голоса.
— А вон, на стенах. Везде торчат.
Тимоха всмотрелся внимательно и увидел, что розовые розочки на обоях колышутся и действительно имеют форму ушей.
— О, как зашевелились, как закраснелись. А ну! Цок-цок! Выходите, кто там за ушами прячется?
Из стен одна за другой, как червяки из-под земли стали вылезать головы в форменных фуражках.
— Ну, не торопитесь, не торопитесь, сидите пока так, — по-отечески потрепал уши нескольким головам Влас, — Я должен вас сначала прощупать, изучить. Где моя секретарша?
Антонина, как ни в чем не бывало, вылезла из-под стола, раздобревшая, покруглевшая, одетая в картофельный мешок, в котором на дне была прорезана дырка для головы, а по бокам — две дырки для рук.
— Ну, слушай, — брезгливо сморщился Влас и схватил трубку телефона, — Я не потерплю такую ерунду…
— Это круто! — убедительно пробасила Антонина и Влас нерешительно положил трубку на место.
— Ну, я не знаю… — покачал он с сомнением головой, — Кто тебе сказал?
У Антонины в руках появились ножницы, она вырезала в мешке дырку на животе, из которой выглянула пупырышка пупа, очень похожая на куриную гузку.
— Ну, не знаю… — не согласился Влас и Антонина приподняла подол, собираясь снять мешок вовсе.
— Не, не, пусть! — замахал Влас руками, бегая виноватыми глазами по стенам, на которых висели головы с зажмуренными и вытаращенными глазами. На всех головах, как красные флаги трепыхались от разных чувств горящие революционные уши.
— Не-не! — повысил голос Влас и схватился за лицо, боясь, что Антонина его не послушает и обнажится всенародно.
Птичье лицо Антонины поджало маленький ротик, отчего все стало состоять из одного носа-клюва, и замигало фонарно-лупатыми глазами.
— А я не против, не, так не…
Влас замер и облегченно вздохнул. Он отнял руки от лица, брови его разлохматились и свисли на глаза, как челка у конька-горбунка.
Тимоха подошел и молча расчесал пятерней Власу брови
— Спасибо, товарищ, — кивнул Влас в сторону Тимохи и расшаркался на все четыре стены.
Стены зашуршали ушами, хлопая друг по другу, но звук был очень слабым, похожим на шорох.
— Благодарю, дорогие товарищи, — повторил Влас и расшаркался еще раз на все четыре стены.
Побледневшие было уши заалели снова и принялись остервенело хлопать друг о друга. При этом головы нечаянно стукались лбами и овации перебивались стуком, как шум листвы одинокими дальними выстрелами. Головам было больно, они шипели, как змеи, но все ж не матерились, как кони.
Влас повел бровями в сторону окна и обнаружил там ночь.
— А где же наши научные звездочеты? У меня сегодня в окнах мало звезд. Нам пора перетряхивать науку, Антонина!
Секретарша взлохматила и без того лохматые клочья жестких, как проволока волос, оттопырила губу и из клювастой птицы стала сразу похожа на лося.
— Где наш Бордадым Фигович? Где он витает? Наука брошена, образование зажралось, а он витает!
В это время в черное окно кто-то робко постучал, потом поскребся о деревянную раму и в форточку виновато заглянул старик с молодым женским лицом и несчастными, голодными глазами.
— Разрешите? — робко спросил он, силясь влезть в форточку.
— Дверей нету, что ли? — возмутился Влас, вспыхнув и тут же остыв, как электрический чайник в сорокоградусный мороз на Северном полюсе.
Тимоха осторожно пополз в сторону двери, опасаясь Бордадыма Фиговича, но тот оказался неловким и слабым. Застряв в широкой форточке, он махал руками и заставлял переживать головастые стены из-за невозможности помочь старику.
Антонина подскочила к окну, ловко ухватила старика за длинные девичьи косы и, упершись коленками в подоконник, принялась беспощадно втаскивать его внутрь кабинета.
— А я уже не хочу! Уже не хочу! — визжал старик от боли и сопротивлялся, отбирая от Антонины свои косы.
— Оторву! — пригрозила Антонина, набирая на глазах вес и силу.
— Я сам, я сам! — хныкал старик, затискивая в форточку острую коленку, обтянутую сверкающей, семицветной парчой.
— То-то! — похвалил всех Влас, когда старикашка кряхтя и розовея щеками, предстал пред ним. — А то уперся. Бордадым.
— Так получилось, — оправдывался Бордадым Фигович
— Куда ты денешься с подводной лодки! Вместе со всеми своими ботаниками. Кому вы нужны кроме нас? Да, товарищи?
Стены дружно зашелестели и Влас, спохватившись, выскочил на середину кабинета и раскланялся на три стены, а четвертой сделал реверанс.
— Но только нам наука больше не нужна! Мы уже всех догнали и перегнали. Уже хватит впереди идти. Нескромно это, товарищи. Да здравствует раньше первое место, а теперь последнее место, то есть раньше первое место спереди, а теперь первое место сзади! Ура, товарищи!
Стены таинственно прошептали «Ура!», чтобы не обнаружить себя перед Бордадымом Фиговичем, но тот чутко навострил уши.
— Вот так-то, друг мой парчовый! Вы поскромнее будьте. Съездите, на мир посмотрите, пошевелите мозгами, раскиньте ими, может, кому пригодитесь?
— Позвольте! — не согласился Бордадым Фигович, — А как же научные исследования, начатые и профинансированные программы?
— Не здесь, дорогой мой, не здесь! Ищите другое место. Освободите территорию.
— Позвольте, — смиренно заломил руки Бордадым Фигович и в отчаяньи закатил глаза.
— Нет, не позволю, — пообещал Влас.
— Ну, позвольте! — занудно заблеял Бордадым Фигович.
— Ну как я вам позволю, если не могу, — удивленно спросил Влас.
— Ну позвольте! — взвыл фальцетом Бордадым Фигович, и Влас отшатнулся от него в испуге.
— Белены объелся? Говорю, не позволю! Не хочу позволять!
— Ну, позвольте! — заорал старичок ошалело и простер жилистые руки к небу.
— Не позволю я тебе ничего, — нерешительно пробубнил Влас, задумчиво озираясь на стены.
— Ну, позвольте! — обреченно прошептал Бордадым Фигович.
— Да не могу я! Политика такая! — взвился Влас. — Поймите вы меня!
— Нет, не пойму, — отказался старичок, сунув нагло руки в карманы и выставив вперед правую ногу.
— Да поймите вы меня! — взмолился Влас.
— Нет, — грубо отрезал Бордадым Фигович.
— Поймите, — попросил с угрозой Влас.
— Не пойму, — беспечно пожал плечами Бордадым, молодея на глазах.
— Короче! — гаркнула Антонина. — Склифасофский, на выход! С вещами!
— Что такое, что такое? — испугался Влас, думая, что она обращается к нему.
— До утра спорить будем, или спать пойдем? — недовольно пробасила Антонина, расписываясь в каких-то бумагах.
— Что это? — поправляя на ходу пенсне, поинтересовался Бордадым Фигович. — Опять расстрел мне? Или пожизненно?
— Опять, — буркнула Антонина и подала еще пачку бумаг. — Это вот остальным передадите. Короче, ботаники, или вымрете, как ваши мамонты и динозавры.
— Вот правильно, — облегченно вздохнул Влас, — А то я думал, к чему это ты?
— Да надоели, — пожаловалась Антонина стенам и погладила приглянувшуюся голову по кончику носа.
— Вон отсюда! — топнул ногой Влас на старичка, — Пошел вон!
Старичок поспешно засеменил к дверям.
— Пусть в форточку лезет, — велела Антонина, не отрываясь от симпатичного носа. Я все коленки поцарапала, тащила этого дурня…
— Позвольте, — обронил старичок беспомощно.
— А не то расстрел, — прошипела Антонина и ее лицо лося стало превращаться в голову кобры, щеки раздулись и стали менять цвета.
— В форточку! — велела она, сильно сжимая нос следующей, подвернувшейся под руку голове.
Старичок обреченно влез на подоконник и, махнув на прощанье Тимохе рукой, раскрыл створку окна.
— Кстати, а что говорят звезды про меня? — спохватился Влас, но старик не ответил. Шагнув в темноту, он беззвучно исчез в небе.
Стены свесили головы, их уши повисли и фуражки слетели на пол, как лепестки с первых подснежников, потому что уши перестали их держать.
— Мы уважаем старость и традиции, но революция сильнее жалости. Надеть фуражки! Это не поминки.
Антонина дунула во всю силу, и фуражки взвились в воздух, закрутились, как легкие, сухие лепестки от порыва ветра и стали приземляться на голые головы. Раздался сдержанный шопот и ругань. Головы сердито кивали друг на друга, потому что в полете фуражки перепутались и не каждой досталась та, что должна была принадлежать по размеру. Было неудобно большим головам от тесных фуражек, а с маленьких головок большие фуражки слетали на пол. Головы бились друг о друга, крутились, вертелись и уже начинали покусывать друг друга за торчащие уши. Антонина не могла справиться с ними, поскольку, как ни напрягалась, как ни дула, фуражки приземлялись не там, где им было положено.
— Собери, Антонина, все и сложи на столе стопкой, как тарелки или блины. — сказал Влас. — А потом разберем по размерам. Вылезайте, змеюги! Ваша очередь пришла. Долго ждали, дождалися! Силовое государство с пустыми головами, без фуражек, не порушишь!
Из стен плавно стали показываться плечи в погонах. На погонах сияли золотые звезды разных размеров и в разных количествах, отчего комната стала похожа на сжатое в куб звездное небо с черными, русыми, рыжими и вовсе лысыми облаками. Вслед за звездами полезли цепкие, хваткие руки. Они отмахивались друг от друга, а некоторые крепко, по-мужски здоровались. Густой лес выросших рук клонился к земле, опасаясь ее неизбежного приближения и охраняя головы от падения.
За руками показались тела, и стало совсем тесно. Головы зароптали, и самые бестолковые стали выяснять очередность выползания из стен: кому быть первым — толстым телам или тонким. У толстых был сильнее напор веса и потому они без спросу стали быстро шлепаться на пол, сверкая в воздухе начищенными ботинками.
— Откуда вас столько навалилось? — слабо удивлялся Влас, прохаживаясь вдоль стола и разглядывая неуклюжие, затекшие от долгого безделия беспомощные тела. — Вставайте, что ли, хватит валяться на полу.
Форменные люди, кряхтя и кашляя, поругиваясь между собой и на себя, поднимались, но снова падали.
— Они без фуражек не встанут, — грустно констатировала Антонина и принялась разносить всем фуражки.
— Во какой бардак я в родном отечестве развел, понимаешь… — ужасался Влас, и лицо его от горьких слов дряхлело, выцветало на глазах. — Что мне с такой армией делать? Только распускать. Антонина! — воскликнут он, — Я так весь расстроился, что мне теперь надобно по нужде. Я пойду выйду.
— Знаем мы вашу нужду, — отмахнулась Антонина. — В теннис пошлепаете махать.
— Да какой, понимаешь, теннис, — пожал удивленно плечами Влас, — я и ракетку-то в руках не держал, мне по нужде надо.
Мелкие, мышиные глазки его забегали по сторонам.
— Иди уже, попрыгай, лягушонок. Только недолго, — снисходительно разрешила Антонина.
Большой и рыхлый Влас плавно понес свое крупное тело по комнате к двери, проплывая кораблем по синим колышущимся волнам людей.
— Тоня! Пока всем задание дано, все работают, не переживай. А я ухожу. Я устал.
— Я те дам, ухожу. А вот с этим всем что делать?
— Продолжайте в том же духе, я вам небольшую подмогу пришлю. Маленькую такую подмогу, но мало вам всем не покажется, понимаешь. Раздавай им фуражки. Ну, еще можешь и звезды. У меня там в ящике в столе, в верхнем. В коробке из-под печенья. Да все не раздавай, оставь на память, для музеев, понимаешь.
Тимоха задыхался какими-то словами и мыслями, силился что-то сказать, но у него ничего не вышло, а Влас неслышно, как ночной кот прошел по людям сквозь запертую дверь и растворился где-то в прошлом, оставив после себя только развал.
Антонина швырнула фуражки в гущу форменных людей, фыркнув им: «Сами», — и подошла к столу. Она решительно выдвинула ящик, засунула вглубь руки и вдруг пронзительно завизжала, открыв до опасного предела огромный, как у акулы рот.
Форменные люди вздрогнули и уставились на нее, сидя на полу там и тут в неестественных позах.
Из ящика стола вылез маленький, прозрачный человечек. Он взобрался по оставленной наклонной Тониной руке, ловко, по-спортивному спрыгнул на календарь-ежедневник и принялся торопливо листать его, футболя ногами тонкие, шелестящие листы.
— А вот и я! — объявил он всем, как клоун в цирке детям. — Только что родился и пока еще расту!
Он футболил календарь все сильнее и активнее, накаляясь на глазах от азарта и входя в раж. При этом он действительно стал расти, быстро превращаясь в приятного молодого мужчину невысокого роста, ладненького, подвижного, как стальная, сжатая пружинка.
— Не ждали? — железным голосом спросил он и, не оборачиваясь, скомандовал:
— Смир-р-рно!
Форменные люди мгновенно обрели форму, послушно подскочили и выстроились в стройные ряды.
— Р-равняйся на меня! — скомандовал маленький человек, и ряды, шурша фуражками, закрутили головами.
— Слепые, что ли? — вальяжно протянула Антонина, — Вон он, на столе стоит.
Фуражки снова закрутились, разыскивая стол.
— Точно слепые, — вздохнула Антонина, — Равняйтесь на голос, бараны! Голос! — скомандовала она маленькому человеку.
— Гав! — сказал человек, и ряды стали ровными.
Тимоха ошалело прошел вдоль рядов, будто был генералом и принимал парад. Он снял со стола маленького человека и, покачав его на руках, усадил в кресло.
— Влас, это ты? — шепнул он ему на ухо.
— Я, конечно, куда вы от меня денетесь?
— Как это тебя… В ящик-то…
— Сыграл вот. Я еще и не то могу, — объявил Влас. — Ты меня бойся. Вы все меня бойтесь!
— Ну что, братва, пистолеты заржавели? — обратился он к форменным людям.
— Да мы чистим иногда, — донесся из рядов скромный голос.
— Незаряженное ружье должно стрелять раз в году. Заряженное ружье должно стрелять каждый день. Запомнили?
Ряды послушно кивнули.
— А чищенное — каждый час! Доставайте оружие и начинайте чистить!
— В кого ты собрался стрелять каждый час? — тихо спросил Тимоха.
— В загнанных лошадей. У нас очень-очень много загнанных лошадей. Они плетутся табунами, мнут траву, портят дороги, много жрут и гадят. Мы выберем и оставим несколько породистых, сильных рысаков, вожаков, дадим им свободу передвижения, откроем пространства и пустим кислород. Загнанные лошади потребляют слишком много кислорода.
— Тут только Сивка-Бурка прибегал, так он прыткий, не загнанный. Где ты видишь лошадей?
— Я вижу хорошо. Ты плохо видишь. Зри в корень, парень.
Форменные люди защелками предохранителями, и Тимоха поежился.
— Это опасно, Влас.
— Ясно, что опасно. Но ведь они сопротивляются. А тех, кто окажет сопротивление, мы должны уничтожить физически.
Глаза Власа от напряжения сдвинулись к носу вместе с бровями и образовали единственный круглый глаз, сидящий на переносице длинного носа, как бутон неземного цветка. Тимохе показалось, что еще минута, и бутон раскроется, обнаружив тайную, мистическую сердцевину, от созерцания которой у него остановится сердце и он умрет напрасной смертью. Тимоха крепко зажмурился и подумал, что уж лучше ему ослепнуть, чем умереть так глупо и неожиданно.
— Слепые нам подходят, — сказал Влас. — И глухие тоже. Но особо хороши немые. Так что молчи.
Влас вылез из кресла, чуть вытянулся и легкой, деловитой походкой принялся ходить вдоль рядов, раздавая из пригоршни маленькие золотистые звездочки и приговаривая по-отечески: «Ай, хороши, ай, хороши звездочки!»
Раздав все звездочки, он широко распахнул двери и стал пинками под зад по одному вышвыривать из кабинета слабо сопротивлявшихся форменных людей.
— Направо! Налево! Прямо! — давал он указания каждому и без устали махал худой, жилистой ногой.
Когда все были вытолкнуты, он устало повернулся к Тимохе, и, сверкая сдвоенным глазом, сказал:
— А теперь пойдем на день рождения.
— К кому? — оторопел Тимоха.
— Ко мне.
— А у тебя сегодня день рождения?
— Да, сегодня. Но отмечать будем у тебя. Мама с папой приедут мои.
— Они живы? — удивился Тимоха.
— Они вечно живые. Они идеально сохранились.
— У меня дороги снегом замело. Не проехать к избе будет…
— Сейчас расчистим.
Влас подошел к столу, взобрался на него и принялся ногой футболить листы календаря, присматриваясь к тексту и приговаривая:
— Это Рождество, снег, значит. Девятнадцатое, Крещенье, мороз, значит. Пятнадцатое, Сретенье, еще холодно. А тут гололед, а тут Пасха, не проехать, сыро.. Вот! Подходит! Троица!
— В Троицу всегда дождь, — робко не согласился Тимоха.
— Ладно, — сказал Влас и снова стал футболить календарь. — Спас подходит?
— Яблочный?
— Медовый.
— Подходит. Медовухи попьем.
— Я не пью. Тогда лучше Троица. Поехали.
Двери кабинета распахнулись и в помещение влетел конек Екима. Еким громыхал своими сапожищами позади, матерясь и кляня конька на чем свет стоит. За ним бежала охрана, стреляя по сторонам из хлопушек, отчего в воздухе запахло серой и на головы сыпались со всех сторон разноцветные конфети и серпантин.
— Ну не убивать же его! — пожаловался охранник Власу. — Так, припугиваем, чтоб не бегал без спросу.
— Вот вам! — утробно проурчал конек и лягнул воздух задней ногой. Потом он преклонил полена перед Власом и подставил ему спину.
— Да, вот вам! — поддакнул коньку Влас и сел на него.
Конек шустро поднялся и горделиво прогарцевал мимо Тимохи.
— Приходи на день рождения ко мне, — пригласил Влас. — Не забудь накрыть стол!
Тимоха растерянно развел руками, недоумевая, как ему успеть добраться до дома раньше Власа и накрыть стол. Копыта конька процокали по приемной под легкое взвизгивание секретарши Антонины, которую тот на прощание, видимо, щекотнул длинным хвостом. В опустевшем кабинете с изрытыми, как после боя стенами, качалась сияющая люстра, и светлые блики от нее скакали по черным воронкам и рытвинам, не обнаруживая в них ничего, кроме тьмы.
Тимоха подставил стул под люстру, забрался на него и придержал люстру рукой, чтобы не качалась. Потом аккуратно слез, поставил стул на место и на цыпочках вышел из кабинета.
В приемной никого не было, в коридоре тоже. Выйдя на улицу, он захлебнулся свежим летним воздухом, закашлялся, зачихал и проснулся.
х х х
Мать гремела на кухне посудой, печка была горячей, и в доме стоял тяжелый, сырой утренний дух.
— Мам, — протянул Тимоха, как маленький, — Дай попить.
— Молочко парное будешь? — заботливо проворковала мать с кухни, — Или чайку налить?
— Молока, — сказал Тимоха, поднялся и сел в подушках, держась рукой за сердце.
— Болит? — расстроилась мать, протягивая ему большой глиняный бокал с молоком.
— Душно, — ответил Тимоха и залпом выпил молоко.
— Мам, а Троица нынче когда? — спросил он.
— Три недели после Пасхи. Давай посчитаем.
Мать присела на краешек лежанки, привалилась плечом к кирпичной стене и задумалась, шевеля губами и загибая пальцы. Тимоха замер от тихого счастья и медленно опустил голову на подушку. Вот так в детстве, когда он не хотел вставать, она присаживалась в ногах и считала, сколько дней остается до каникул. Потом убеждала его, что цифра совсем невелика, и Тимоха бодро вскакивал с кровати и собирался в школу.
— Я умру в Троицу, — сказал тихо Тимоха сам себе, но мать услышала и перестала считать.
— Не болтай, — строго перебила она.
— Сколько мне осталось? Месяца четыре?
Мать промолчала, внимательно разглядывая лицо сына.
— Уже ничего не успею, — проронил Тимоха и крепко зажмурил глаза, не пуская на волю наглые, неудержимые слезы.
— Вот и прошла жизнь. Коту под хвост. Ничего не успею, — отрывисто шептал Тимоха, оттопырив горестно нижнюю губу, но мать не пожалела его. Она молча поднялась, взяла пустой бокал и понесла его на кухню.
— Поеду я в Ленинград, мам! — крикнул, спохватившись, Тимоха, но мать ничего не ответила.
— Я знаю, я виноват, — отчаянно сказал он, — Я перед всеми вами виноват. И перед собой в первую очередь. Но за четыре месяца я уже ничего не смогу исправить.
— Попробуй, — тихо сказала мать, будто речь шла не о жизни и смерти, а о свежих пирожках. — Сроки не ты устанавливаешь.
— Поеду я…
— Езжай, — согласилась мать и загремела крышками кастрюль.
Наскоро перекусив, Тимоха отправился в магазин, а оттуда в сберкассу. Сняв деньги со своего счета, он первым делом купил деду Филе покрышку на велосипедное колесо, матери — муку, макароны, сахарный песок и разных круп по килограмму, чтобы ей подольше не носить тяжелое. Со всеми этими покупками он и заявился в здание городской администрации к другу Власу.
Секретарша Тоня поправила тонкими пальчиками средневековое кружевное жабо на отсутствующей груди и отвела серые, тоскливые глазки к окну.
«А вчера-то, небось, не стеснялась, красавица, людей пугать. Не сдержать было…»— подумал Тимоха, злорадно разглядывая светящуюся сквозь начесанные волосы кожу Тониной головы.
— Я пройду, — убедительно сказал Тимоха и направился к двери, раскачивая в воздухе круглую покрышку, как гимнастический обруч.
Тоня равнодушно кивнула и отвернулась к окну. На ее затылке Тимоха увидел перехваченный крупной резинкой тощий хвостик. Хвостик был серый и обыкновенный, а вот резинка металлически блестела и была явно сшита из вчерашнего сверкающего платья Антонины.
Тимоха провел взглядом по Тониной спине, нырнул глазами под стол, где двумя тонкими жердочками были составлены в уголок ее ноги. Тоня была в брюках из той же ткани.
Тимоха судорожно вздохнул и присел на стул. Тоня высокомерно глянула на его расползшиеся по полу огромные пакеты с покупками, потом на него.
— Пишете все стихи? — спросила она.
— Нет, не пишу. Я пью, — ответил Тимоха, разглядывая ее бедра.
— Понятно, — вежливо кивнула Тоня и склонилась к бумагам.
— А у вас новые брюки? — спросил Тимоха.
— Да, — кивнула Тоня. — Вчера сшила. От нечего делать…
— И материал какой-то… Космический…
— Правда? — удивилась Тоня. — Я нашла его на чердаке. Мамино старое платье было. Нынче такую ткань не выпускают.
Тимоха бочком прошел к двери и нырнул в нее, оглушенный буханьем в ушах. Сердце колотилось, как у кролика перед забоем так, что даже подрагивали уши.
Влас сидел в своем обычном обличье в кресле и ругал кого-то по телефону. Тимоха, не спуская с плеча покрышку, сел напротив, впившись взглядом в прыгающий рот Власа и буравя его в ожидании внимания.
— Рубите, я сказал! — злился Влас, глядя в какую-то точку на столе и внимая воркованию в трубке телефона. — Этот участок леса продан с аукциона финнам. Рубите, я сказал! Плевать, что две деревни против. Там три бабки при смерти и больше никого. А я на эти деньги два месяца район протяну.
Тимоха тоже уставился в блестящую точку на столе и вдруг понял, что это — золотистая металлическая звездочка, перевернутая вверх тормашками с расставленными по бокам кривыми, крепкими, как у клеща, усиками.
— Второй участок леса выставим на той неделе. Да, тоже с жилым массивом. Я не могу продавать людям глухомань! Чтобы выставлять на аукцион дальние леса, надо сначала подвести туда дороги. Мы будем строить дороги? На что? И зачем?
В трубке что-то отчаянно бурлило.
— Да пишите вы хоть в Гаагу. Там вас очень поймут. Все законно. Дотаций не хватает, налоги в местный бюджет пости не поступают. Заводы закрыты. Вы все дома сидите, кофе пьете, а я один разгребаю это дерьмо!
Трубка принялась отрывисто гавкать, и Влас, чуть отстраняя ее от уха, немного послушал, зверея лицом, а потом швырнул на телефонный аппарат.
— Чего тебе? — недовольно спросил он, взяв со стола звездочку и вертя ее в непослушных, толстых пальцах.
— Ты у меня дома вчера был? В деревне… — тихо спросил Тимоха.
— Сегодня был. Мимо проезжали, заехали следы посмотреть кабаньи.
— На день рождения ездил? — насторожился Тимоха
— Как ты угадал? — удивился Влас язвительно.
— Так ведь зима сейчас, не Троица… Январь.
— У Оленьки твоей сегодня день рождения. У тебя там гости дома, пир горой, а ты тут колеса крутишь, — кивнул Влас на камеру.
— Ольга приехала?
— И не одна. Ты бы ее приструнил, что ли. Хуже последней потаскухи…
— Не смей! — предупредил Тимоха
— Мое дело сторона. Возле дома КАМАЗ, а они вдвоем сидят с мужиком ужинают. Как тебе это? Филя там топчется, хозяйство кормит, Липочка на лавочке деревню сторожит, ты тут по кабинетам лазишь. Ну что такое?!
— Я уезжаю, Влас. Завтра. Мне надо кое-что сделать.
— Слышали не раз. Уж не в Питер ли?
— В Питер.
— А эти будут в твоем доме жить?
— Пусть живут.
Влас сдержанно вздохнул и снова уставился на звездочку, повертел, покрутил ее в руках и зачем-то стал вдевать в петельку пиджака.
— Почему ты продаешь лес? — сурово спросил Тимоха.
— Потому что нету денег, — сказал Влас. — Аппарат без зарплаты три месяца, область ничего не дает, Москва плевать хотела.
— Они специально так делают, чтобы мы захлебнулись в собственном страхе.
— Леса много. Пока что хватит.
— А потом новый вырастет. Да?
— Да! — с вызовом ответил Влас. — У меня на бензин денег нету, автобусы последние ломаются, детей не на чем в школу возить, а вокруг волков развелось, как перед войной. Шел бы с ружьишком погулял, отстрелил бы пяток. За каждую шкуру 700 рублей. Что, плохой заработок? Хороший. Но с похмелюги не попасть, правда? И десяток километров не пробежать, так? Не у одного тебя такая беда, Тима, а волки плодятся, людей жрут. Скотину-то уж почти всю извели…
— Каких детей ты в школу возишь? — спросил Тимоха. — Где ты их нашел? Деревни все мертвые стоят, болтун!
— По два, по три ребенка я тоже обязан возить. Мы уже три деревенские школы закрыли, семь клубов, девять библиотек. Нечем зарплату платить людям.
— Вот ты сэкономил! — восхитился Тимоха. — Один прием областного гостя тебе обходится в месячную зарплату всех библиотекарей района. Не так ли?
— Так, — с вызовом согласился Влас.
— А два приема — зарплата учителей тех трех школ сокращенных. Не так?
— Так, так, — кивнул Влас.
— А приемы у тебя через день. Сколько ж они жрут, пьют и гадят?
— Много, Тима. А что делать?
Тимоха поднялся из-за стола, поправил на плече камеру, подошел вплотную к Власу и рывком сорвал звездочку из петли его пиджака.
— Ты, плебей, зачем звездочку нацепил?
Влас оторопел.
— Ну-ка… Ну-ка… Он грозно поднялся из-за стола и двинул ногой в сторону кресло:
— Как ты меня назвал?! Плебей? Я сейчас заткну тебе пасть, шизик…
— Сначала я скажу, а потом сам заткнусь. И ты меня послушай, может быть в последний раз. Вот эта звездочка, она не отменена. Она у солдат и у генералов до сих пор на погонах. Но дело не в ней, а в самих погонах. Подставил плечи — неси груз, а не в свои сани не садись. Никто тебя по твоему приказу никуда не повезет. Поедешь ты, Влас, туда, куда конь попрет. А ты сел в сани, ты пешком идти не хочешь, но груз тебе не по силам, не донесешь…
— А я тебя сейчас вышвырну, как кота…
— Ты сам сел и весь район в эти сани сажаешь. Разве ты не видишь, куда ведет эта дорога? Ты видишь, Влас, ты знаешь, ты все понимаешь, но сел, и сидишь, и едешь! Вот, что страшно. Ты сдался, Влас! Ты сам сдался и нас всех сдал! И еще страшнее то, что ты умеешь убеждать в чужой правоте, как будто она твоя. Ты заставляешь поверить в неизбежность и безысходность. Ты шарлатан, Влас, ты циркач и фокусник на сцене, а в зрительном зале сидят глупые, доверчивые дети. Народ наш — ребенок. Божий ребенок. Он берет из всяких рук все, что ему протягивают в ярких, цветастых обертках. Даже если под оберткой кусок этого самого дерьма, которое ты, как сказал, разгребаешь, или даже если там доза яда. Он все равно вежливо возьмет. И знаешь, почему? Чтобы не обидеть дающего. Чтобы, не дай Бог, никто не расстроился и не заплакал. Никто, кроме него самого. Чтобы не мучиться потом от стыда и вины за причиненные неудобства. Возьмет и будет вертеть эту подачку, пока не поймет, что его обманули, разыграли или даже хотели убить, пока не узнает, что под оберткой — яд. Но доверчивость и любопытство сильнее инстинкта самосохранения. Эта поганая, осмеянная другими русская жертвенность! Оголтело любопытные до всего нового Божии дети! Энергия, жажда знания, подталкиваемая комплексом неполноценности. У других-то все лучше, мы-то как-нибудь так, у порожка, на коврике…Нас этому с пеленок учили! И вот теперь подали вдруг это новое, чтоб мы якобы не хуже других стали, и мы говорим, подай тогда к этому, новому, еще и волю и простор для действий, а не то невыплеснутая силища забурлит злобой, забродит, зайдется мутной бражкой и сорвет захлопнутую крышку.
Пока он вертит в руках яркую игрушку, он отвлечен, с ним можно делать все, что угодно. Он заворожен, и пока он заворожен и задумчив, он может отравиться, может заболеть смертельно. Но он может и вовремя понять, спохватиться, бросить эту гадость. Ты с сам разве не такой?
— Что тебе надо от меня? Я не студент, а ты не лектор…
— Ты сам такой. Так зачем ты сюда сел, дитя?
— Меня выбрали люди, не лезь не в свое дело. Сам хочешь сесть на мое место? Заслужи сначала. Пить брось, к примеру…
— У меня, Влас, свое место есть. У меня другая беда. Но если бы пришлось сюда сесть, то меня проще было бы убить, чем сломать и переделать.
— Никуда бы ты не делся, — вздохнул Влас. — Сломали бы и тебя, перестроился бы за три визита в область. И не успел бы мяукнуть. А я — слуга народа, демократии и государства.
— Демократии и государства…Служка ты, а не слуга. Зомби. И если раньше только коммунистам служил, то теперь всем подряд подставляешься, включая вон и эту свою Тонечку с ушами спаниеля. Вон какая смирная сидит, как моль. А мы ее не такой знаем, не такой! — загадочно прищурился Тимоха.
— Чего мелешь? — зашипел Влас, — Я сейчас тебя выкину отсюда пинком под зад, вызову охрану и посажу на пятнадцать суток! Поедешь ты тогда в свой Питер на этой покрышке велосипедной верхом, книжник. Ты чернокнижник! Ты пристроился к пяти домам, как бродячая собака, а не в одном не прижился. Ты, как худая баба, что по деревне зовут «чужой двор», шлепаешь языком, шлепаешь, а дела никакого от тебя нет. И не будет! Мужик кормильцем должен быть, добытчиком. Прежде всего, свою семью защищать, а уж потом о себе самом думать. А у тебя как? Горло налить, пожрать, поспать и чтоб никто не мешал думать о судьбах Отечества, стишки об этом слагать горькие и слезные. Погибаем, мол, люди дорогие, и я прежде вас всех уйду непокоренный, не сдам врагу свои вонючие тетрадки. Кому они надо, твои тетрадки. Пис-с-сатель! Ребенка Лидке подкинул. Где ты вообще эту шалаву детдомовскую взял, Ольгу свою, кукушку! Как ты мог с ней ребенка рожать. Зачем Ваньку на горе в мир пустили?!
Тимоха вытянулся в струнку и побледнел:
— Ты хитрый, — сказал он тихо. — Тебя неплохо научили психологи. Ты умеешь обороняться. По самому больному бить наотмашь плеткой. Это верный прием. Только самому-то потом не больно, Влас? Я же не советую тебе, как воспитывать твоих никому не нужных девчонок. Ты-то их зачем рожал? Чтобы всю жизнь отряхивать и отшвыривать, как налипшую саранчу, ежеминутно доказывая свою значимость и занятость, выставляя перед ними напоказ бремя великого вождя всего народа. Да их, бедных, в школе сожрали! Если сейчас не сожрали, то потом сожрут, когда тебя отсюда с позором скинут. Извини, я тебе это первый раз сказал, но суть не в том — что мы делаем, а в том — для чего. Где есть любовь, там есть и ответственность. Я сейчас перед Ванькой виноват, сегодня, а ты перед своими детьми — потом будешь, может даже, вечно. А насчет Ольги, если тебя так волнует, я ее люблю. Любовь не бывает разной. Она одна. Или есть, или нет ее. Если любишь человека, то любишь его любого, всегда, везде, даже если он плохой. Видишь, что плохой, но любишь в нем даже это плохое. А если не терпишь, переделываешь, требуешь, заставляешь, то стараешься для себя. Значит, любишь не его, а себя.
Не семья должна быть на первом месте у мужика, а земля. И ты, как никто другой, должен понимать это. Не будет земли, негде будет семье твоей жить. А ты идешь сейчас первым верблюдом всего каравана.
— Что ж ты, верблюд последний, не защищаешь ни землю, ни семью, ни самого себя, безмозглого?
— Я последний верблюд и плетусь позади, собирая и разглядывая, изучая и анализируя все дерьмо, которое оставляешь за собой ты, первый, а также послушно плетущиеся за тобой.
— Не захлебнись, — засмеялся Влас зло.
— Это уж как суждено. Смешно то, что ты сразу признался в том, что после тебя розы не растут.
— Ну так вот и не захлебнись…
— Может, я и захлебнусь, но тот, кто предпоследний, тот выживет и продолжит замыкать строй. Замкнуть цепочку — дело тоже непростое. Ты никогда не ходил в школе последним, самым мелким в строе? Не ходил, Влас?
Влас отвернулся.
— Ходил…
— Вот. Только тот караван развернулся и ты стал первым. Тот малыш, которого все щелкали по макушке и которого я, первый в строе, защищал, теперь у власти и сам любого закроет на 15 суток. А если захочет, то и на пару лет.
— Попрекаешь прошлым?
— Нет. Я предупреждаю. И ты должен знать, что идущий караван, в котором ты — первый верблюд, в любой момент может развернуться. Ни от тебя, ни от меня не зависит, но команда сверху будет, и ее услышат одновременно все. Учти, Влас, когда караван разворачивается, то первый верблюд становится последним, а последний — первым. Счастливо оставаться. Я шагну чуть вправо, уеду на время. Потому что все, что навалено вами по левую сторону каравана, я уже изучил. Мне нужно поработать с блевотиной с правой стороны.
— Пошел к черту, — досадливо крякнул Влас, растирая побагровевшее от напряжения лицо.
— Оставайся с Богом, — ответил Тимоха и вышел из кабинета.
Глава 7
Дед Филя был рад без памяти. Во-первых, тому, что приехала Оля, во-вторых тому, что уехал Олин «хахаль» Степан, в-третьих, что Липочка ушла пешком в соседнюю деревню к двоюродной сестре, а в-четвертых, из-за новой резиновой покрышки.
Он бесконечно крутил ее в руках, перебирая пальцами рельефную, упругую резину и медленно продвигая их вперед, но покрышке не было конца, потому что она была круглая.
— Куда ты, дед Филя, поедешь на велосипеде? — спросила Ольга, напряженно прибирая стол и косясь на усевшегося на диване Тимоху.
— Куда глаза глядят, Оленька. Заела меня старуха, умчусь я от нее.
— Свалишься, — миролюбиво предупредил Тимоха.
— Свалюсь — встану, — сказал дед, продолжая с удовольствием мять покрышку. — Я за жизнь свою знаешь сколько падал? А вот всегда вставал. И со стога падал, и с крыши, и с машины. Даже бревна сверху на меня катились, а я удрал.
— Молодец! — похвалила его мимоходом Ольга и устало присела на табуретку, в упор глядя на мужа.
— А самый мой большой прыжок был до женитьбы. Вот это я свалился! Счас расскажу, так вы удивитесь.
Дед положил покрышку на колени и выпрямил спину, готовясь к длинному рассказу.
— Может, в другой раз? — неуверенно предложила Ольга. — Ночь уже, спать пора.
— Вы молодые, зачем вам спать? — возразил дед и замолк, сосредоточенно собираясь с мыслями.
Тимоха равнодушно посмотрел на жену, потом рывком поднялся с дивана и подошел к рукомойнику.
— Стели кровать, — глухо сказал он и принялся намыливать руки. — Собаку накормила?
— Накормила, — ответила Ольга и пошла в другую комнату.
Дед подхватился с табуретки, мелкими шажками перебежал к Тимохе и зашептал ему на ухо, горячо и страстно дыша.
— Часа два назад уехал. Машина громадная, как два дома. Не знаю, как они сюда проехали. Вот нахалка! Хоть бы с большака пешком пришла, а то чужого кобеля в родной дом привела!
— Иди домой, — буркнул Тимоха, плеща и брызгаясь водой.
Дед чуть отодвинулся.
— Пойду, пойду. А ты гляди! Всякая зараза по миру бродит, по радио все время говорят. А она где болталась? — кивнул он на дверь в комнату.
— Иди домой! — приказал Тимоха.
Из комнаты вышла Ольга в пушистом бежевом домашнем халате, с распущенными светлыми волосами.
— Королевна! — всплеснул руками дед Филя и покрутил восторженно головой. Оля улыбнулась и встала посреди кухни, выжидающе скрестив руки на груди.
— Снегурочка! — вздохнул сладко дед и направился к своей табуретке.
Тимоха вытер лицо полотенцем и в три шага опередив деда, поднял распластанную на полу покрышку.
— Неси домой, а то передумаю.
— Ну-ну, — возмутился дед Филя и цепко ухватился за резину, — Не балуйся!
Тимоха не отпускал, и дед, упершись, потянул на себя. Тимоха ослабил кулак и покрышка осталась деду. Тот, ухватив добычу, поспешил к выходу, сердито что-то приговаривая. У двери он обернулся и коварно заявил:
— А у меня воще-то и велосипеда нет. Я его прошлым летом в лесу потерял. Только Липке не говорите.
Тимоха с Олей прыснули.
— Зачем тебе тогда покрышка?
— А пусть будет, — многозначительно произнес дед, — Снег стает, начну поиски. Может, перезимует и найдется.
— Зови, поможем, — улыбнулся Тимоха.
Дед притормозил и задумался, поглаживая ручку двери.
— Это самое… Тимош, может у тебя какой старый лишний велосипед имеется в сарае? Синий такой… Может, поколдуем да и соберем его?
— Зачем? — резко спросил Тимоха, надвигаясь на деда всем телом.
— А чтобы был. Как мне без велосипеда?
И дед Филя, не прощаясь, выскользнул за дверь.
Тимоха вышел в холодный коридор, чтобы закрыть за ним двери, и в темноте услышал взволнованный шепот.
— Уезжай ты, сынок, уезжай! Я жизнь прожил, я знаю. Оторви ты себя от нее, а то погибнешь. Ведьма она, хоть и белобрысая. Сила в ней какая-то громадная имеется, хоть сама пустая. Пустая она, Тимошь, а в такой пустоте пропадешь, потонешь, затеряешься. Я-то старый, мне уже от своей никуда не деться, а ты молодой. Ты ж писатель! У тебя ребенок в городе мается. Ей-то он не нужен, кукушке. Лидка ему и мать, и отец. Не должно быть так. Хуже этого, Тима, ничего не бывает, когда дитенка своего родители из гнезда выкидывают. Ладно бы чужие люди… Ой, как худо…. Ой, как худо, — горестно сказал дед, шаркая по обледенелым ступенькам крыльца.
— Уеду завтра, — ответил Тимоха, — Глянь тут за хозяйством. Мать приедет, решите, что куда девать.
— Не переживай, сынок, все выполним, все сделаем. Будем, как часы. Лишь бы ты уехал, — тяжеловесно, без привычной веселости в голосе сказал дед Филя и заскрипел морозным снегом.
Тимоха постоял на ветру, прислушиваясь к его шагам, потом закрыл дверь на крючок и побрел в дом.
Ольга стояла по-прежнему посреди кухни, скрестив руки на груди и глядя исподлобья темными, глубокими глазами.
Тимоха оторопело уставился на нее, не в силах оторваться от пронзительного взгляда, удивляясь и пугаясь этой потаенной, отчаянной тьме.
— Ты чего? — спросил он тихо.
Она промолчала, не меняя выражения лица
— Что уставилась-то?
— Слушаю тебя, — спокойно сказала Ольга.
— Слушать нечего. Все давно сказано. Да и ты сама все знаешь.
Тимоха опустил глаза на ее босые маленькие ступни с накрашенными розовым лаком, ухоженными ноготками.
— Ты зря приехала. У меня условия плохие.
— Перебьюсь.
— Не перебьешься. Едь обратно.
— Мне туда нельзя пока.
— Что-нибудь натворила? — спросил Тимоха, разглядывая маленький, кривой мизинец и оттопыренные от холодного пола большие пальцы ее ног. — Замерзнешь…
— Мне уже, Тим, никуда нельзя. Ни вправо, но влево, ни туда, ни сюда. Мне только в небо, Тим. Или в землю…
Ольга крепко ухватила ладонями свои плечи и уткнулась головой в скрещенные руки.
— Дура ты, — вздохнул Тимоха, чувствуя, как его мутит оттого, что она стоит босиком на холодном полу и мерзнет. — Была дура и осталась дура.
Олины плечи задрожали, и она медленно осела на пол.
Тимоха необдуманно рванулся к ней, присел рядом и провел рукой по волосам
Оля уткнулась ему в грудь мокрым лицом и стала рыдать.
— И опять я тебя прощу, — сухо сказал Тимоха, гладя ее волосы. — Как тряпка прощу.
— Я некуда не уеду, клянусь тебе. Я останусь здесь. Весной заберем Ваньку, а потом переедем отсюда, придумаем что-нибудь, — плакала Оля.
— Знаю я, что ты придумаешь. Это будет летом.
— Давай все забудем, давай начнем сначала, будто не было вчерашнего дня.
— И будто не будет завтра. Завтра я уезжаю, Оля.
Ее слезы мигом высохли. Она подняла на него круглые, испуганные глаза и прошептала:
— А я здесь что, буду одна жить? В этой глухомани?
— Не знаю.Ты тоже уезжай, — предложил Тимоха.
— Куда?
— Куда хочешь. Ты раньше не спрашивала меня.
— Мне нельзя! — воскликнула Оля. — Мне надо отсидеться пока. Мне опасно там.
— Придется сидеть без слуг на этот раз. Я пошел спать, поднимайся.
Тимоха чуть оттолкнул ее от себя, подавляя волнение и отталкивая всякие мысли, но Оля притягивала его, как огромный магнит маленькую канцелярскую скрепку.
— Отпусти ты меня, Оля! — прошептал Тимоха, умоляюще глядя на нее.
— Едь, — сказала Оля.
— Вообще отпусти. Оторви меня от себя и выбрось. И не думай обо мне. Будто нет меня.
— Как я могу о тебе не думать, если ты мой муж?
— Не знаю, как, — горько помотал головой Тимоха и пошел в комнату.
Белье в постели было чистое, хрустящее. Тимоха разделся и лег, отвернувшись лицом к стенке.
И все равно он ее ждал. Все равно он соскучился по ее рукам, телу, дыханию, словам…
«Тряпка!»— клял себя Тимоха, упершись лбом в стену и ожидая, когда она снимет халат, ляжет и прижмется боком к его спине.
«Рогоносец! Пьющий лось!»— хлестал он себя последними словами, ощущая, как судорожно сжимаются под похолодевшей кожей мышцы спины, как наливаются тяжестью руки, стремясь отдать эту тяжесть, вылить ее в невесомые, легкие прикосновения к ее телу, чтоб сжимать это тело до боли, до отчаяния.. Он чувствовал, как выкручивается в тугой жгут и резко отпускает, хлестнув по сердцу, его душа, и болит, болит в груди…
Оля прильнула к его затылку и засопела часто и взволнованно, как Ванька, когда собирался сказать что-то секретное.
«Господи!»— взмолился Тимоха и шумно повернув свое крупное тело, поднялся и навис над ней, как снежная лавина, внимательно изучая беспомощное покорное ее лицо.
— Скажи, откуда ты взялась? — прошептал он. — За что ты так меня ненавидишь, за кого ты мстишь мне?
— Я люблю тебя, — едва слышно сказала Оля.
И этого было достаточно, чтобы вся нависшая над ней лавина, чуть пошатнувшись от последнего одиночного выстрела, медленно но стремительно рванулась с огромной высоты, сметая все на своем пути, рассыпаясь и разлетаясь во все стороны, теряя себя, уничтожая свою суть, беспощадно, яростно и жестоко даруя миру себя, как всякая вырвавшаяся на волю природная стихия.
Глава 8
— Как у тебя дела? — натянуто спросил Миша, когда сок был выпит, а пауза слишком затянулась, потому что заключенных не вели.
— Ты спрашиваешь, как хирург пациента, зная, что тот безнадежен.
Миша ухмыльнулся.
— Ты бы пересела на мою сторону, там небезопасно.
Лида сидела напротив него на лавке заключенных, а Миша восседал на привинченном к полу адвокатском стуле. Рядом с ним стоял второй, пустой.
— Я не боюсь. Зараза к заразе не пристает.
— Хоть ты и самокритична, но это не помешает тебе притащить домой лишай или чесотку, — пригрозил Миша.
Лида поморщилась и быстро пересела на другую сторону.
— Кстати, я всегда ношу своим бензолбензоат ил как его там… Хорошая мазь. Сам знаю.
— Да уж испробовали, — многозначительно сказала Лида, потому что в прошлом году всю весну натирала свое семейство на ночь, греша на облезлого подъездного кота, которого всегда тискали и кормили Зойка и Ваня. А однажды это безымянное страшилище само заявилось к ним столоваться.
— У меня сегодня, как на подбор, одни туберкулезные.
— Мои чистенькие.
— Значит, с чесоткой. В общих корпусах еще хуже обстановка, чем в специализированных.
Не смотря на то, что внутри тюрьмы заключенные были строго отделены друг от друга по состоянию здоровья, в адвокатские кабинеты они приводились вперемешку, будто все были абсолютно здоровы. Заключенные вместе с адвокатами и следователями сидели часами, изучая материалы дела, составляя бумаги. При этом они пользовались одними ручками, зажигалками, курили и складывали окурки в заплеванную консервную банку неопределенной давности, кашляли, чихали и почесывались
— Зараза к заразе не пристает, — сказала Лида. — Слушай, мы с тобой сидим, как в зрительном зале в кино.
— В театре, — поправил Миша. Он задумчиво посмотрел в стену ржаво-желтого цвета, блестящую неровными разводами, засохшими каплями и подтеками краски.
— Давай пойдем в театр? — предложил он. — Прямо сегодня. Пойдем?
— Прямо сейчас? Пойдем! — согласилась Лида.
— Нет, мы сначала сделаем дело, а потом пойдем гулять смело, — рассудительно сказал Миша.
— Ты сейчас удивишься, конечно, — сказала Лида, понизив голос до шепота. — Но у меня дома трое детей.
— Да ты что?! — округлил глаза Миша. — И откуда ж они взялись?
— Да кто — откуда. Каких сама родила, какие меня родили, каких Бог послал. У меня всякие. Все мои.
— Удивительно, — покачал головой Миша. Лицо его было очень озабоченным, хотя глаза смеялись.
— Ты сейчас опять удивишься, — заговорщески сказала Лида, косясь на дверь. — У меня завтра день рождения!
— Боже мой! — Миша театрально прижал руки к груди. — Как я мог забыть?
— У тебя память девичья, — объяснила Лида. — Но я тебе напоминаю.
— А ничего, что сейчас январь? — спросил Миша.
— Да ничего, — смиренно кивнула Лида.
— А ничего, что в ноябре мы уже праздновали? Кстати, я и подарок тебе подарил.
— Ничего, ничего. Не подарок и был.
Миша растерялся и обиженно замигал. Лида прикусила язык, поняв, что перешагнула нечаянно запретную границу юмора. У мужчин свои границы и пределы, их надо строго соблюдать.
— Вернее, не было подарка, — поправилась она быстро. — У меня Зойка мигом забрала твои французские духи.
Миша облегченно вздохнул.
— Тогда у тебя по два дня рождения в году? Год за два идет?
— За три. Еще летом потом будет.
— И опять подарок дарить?
— Да.
— Состаришься быстро, — засмеялся Миша.
— А что делать? Работа такая.
— Делать нечего, идем в театр, раз у тебя день.
— Хорошо, уговорил, — кивнула Лида.
— Ты детям только позвони, чтобы не забыли поздравить утром.
— А спектакли теперь до утра идут?
— А как же? Это уже давно так принято, ты отстаешь от моды. Надо в театры чаще ходить, а не по судам да по тюрьмам шляться.
— Шляться… — недовольно повторила Лида, и Миша напрягся, поняв, что тоже перешагнул допустимую границу женского юмора.
— Ты знаешь, вообще-то театр до утра — это для меня слишком дорогой подарок, — сказала Лида.
— Перестань, — вальяжно протянул Миша, — Мы хорошие адвокаты и можем позволить себе два раза в году…
— Три, — поправила Лида.
— Три — это уж слишком. Это такой дорогой для меня подарок… — протянул Миша и, не выдержав, засмеялся.
В этот момент дверь скрипнула и в кабинет вошли заключенные. Первым вошел Лидин Ярослав. Руки его были перебинтованы, он прикрывал ими лицо серо-синего цвета с царапинами и ссадинами. Под мышкой Ярослав как обычно держал замусоленный альбом с фотографиями. Он прижался к стене, пропуская вперед двух бритых бугаев — подзащитных Миши и вяло присел на краешек скамьи, тоскливо глядя сквозь Лиду.
— Что случилось? — спросила Лида, кивнув на обтянутые бинтами культи.
— Руки разбил.
— Сам? Или помогали?
Ярослав пожал плечами.
— Понятно. Почему опять в другой камере?
— Катают.
— За эту неделю сколько сменил?
— Каждую ночь катают.
— Понятно, — кивнула Лида и уткнулась в бумаги.
— Платить надо, — прошептал ей на ухо Миша.
— Угу.
— Давай договорюсь…
— Нет.
Ярослав был прицепным пустым вагончиком в ее огромном, гремящем, тяжеловесном составе. Ей его подкинула Маринка, которое в последнее время поладила ходить в Александро-Невскую лавру на различные встречи и концерты. Про Ярослава ей рассказала какая-то бабушка, его соседка, и жалостливая Маринка целую неделю атаковала Лиду.
— Неужели тебе трудно? Вызов хоть сделай. Все равно к другим ходишь. Где два там и три.
— Где сто, там и двести. Возьми его сама.
— Ты же знаешь, я цивилист. Меня от уголовки трясет и заклинивает.
— А меня не трясет. Я в Крестах сижу и балдею.ю впадаю в экстаз.
— В экстаз не впадают, впадают в маразм. И во всяком случае ты это можешь терпеть.
Уголовные дела были дорогими и заканчивались быстрее гражданских. Лида давно хотела потихоньку отойти от них, но Кресты словно держали ее на длинном поводке, и чуть она отходила подальше, как тут же появлялись одно за другим перспективные и оплачиваемые дела. Лида легко сдавалась и послушно возвращалась к тяжелой красной кирпичной стене.
— Ты знаешь, как он вырезает по дереву! Какие рамы, украшения к иконам! Он в нескольких храмах работал, бывший детдомовец, сирота.
— Хорош, наверное, сиротка, раз в Крестах сидит.
— Его соседи посадили. Они на его комнату претендуют. Квартира под расселение шла и вдруг в последний момент мальчику предоставили захудалую комнатушку. Остальное все принадлежит соседям.
— Не верю, — скептически сказала Лида. — Ума хватило всю квартиру скупить и денег хватило. А на последнюю комнатушку у них не осталось ни ума, ни денег, на захудалую…
— А вот! — развела руками Маринка. — Не осталось. Так бывает. Сколько угодно примеров. Я и сама тебе пример. Глыбы дел ворочаю легко, а слова с ошибками пишу.
— Тебе простительно. Ты не русская.
Маринка испуганно глянула на Лиду.
— Я русская! Не меньше, чем ты. И между прочим, известный архитектор Монферран, который построил наш Исаакиевский собор, был католиком. Ты знаешь это?
— Это к делу не относится.
— Очень даже относится! — обиженно возразила Маринка и Лида поняла, что пока она по адвокатской привычке не выстроит все полки защиты, не скомандует в наступление и не выиграет бой, она не успокоится. И если эти полки повернуть назад приказом или молчанием, или еще каким-нибудь способом, то они долго и упорно будут продолжать перестроения и подготовку к бою, а потом все же рванут.
— Ну и что? — смирилась Лида.
— Царь не разрешил его хоронить под сводами православного собора, построенного великим мастером, чем нарушил его завещание.
— Здрасьте, нарушил! — возмутилась Лида. — Царь!
— Ну, я не буду спорить с царем, но он его не похоронил.
Оскорбленная и рассерженная вдова увезла тело мужа на его историческую родину, во Францию. И там он теперь покоится.
— Земля ему пухом…
— На его могиле лежит каменная плита, на которой высечены такие вот слова: «Неизвестный русский архитектор»
Маринка сглотнула и глаза ее влажно заблестели.
— Ладно, ладно, цивилист, не переживай. Родина тебя не забудет. Ежели что, Петечка отвезет твое тело в Израиль и на плите твоей напишет «Неизвестный русский адвокат».
Маринка натянуто улыбнулась, вздохнула и попросила отвезти ее тело на старое Новгородское кладбище недалеко от Софийского собора и похоронить рядом с мамой.
Лида прикусила язык, на душе ее заскребли черные кошки вины, и на этой почве она согласилась помочь сироте Ярославу.
Вот так вот из-за своего длинного языка, из-за Маринкиной чувствительности, она теперь разглядывала замотанные кисти рук худого, высокого мальчишки.
— Переломы есть?
— Несколько пальцев. Я теперь работать не смогу.
Ярослав неловко вытащил альбом из подмышки и передал его Лиде.
— Вот, возьмите, а то его выбросят.
Лида взяла альбом и автоматически принялась листать. Фотографии были странные. Сначала она не поняла замысла фотографа, снимавшего то картину, но подсвечник, то просто пустую деревянную раму.
— Что это, Ярослав?
— Это мои работы по дереву. Я резчик.
— Да, я забыла… Я знаю.
Лида стала внимательнее присматриваться, удивляясь тонкости работы. Дерево было отшлифовано и блестело так, будто было бронзой.
Она тяжело вздохнула, медленно перелистывая страницу за страницей. То, что кто-то смотрит его альбом, было для него сейчас важнее любых лекарств.
Все фигурки и детали были любовно выглажены, вылеплены чуткими пальцами матера, и эти пальцы лежали сейчас безжизненно, запеленутые и неподвижные, как памятники своим творениям. Лида крепко стиснула зубы, перевернула машинально страницу, уже готовая захлопнуть альбом и заглянуть-таки в глаза Ярославу, как вдруг вздрогнула и откинулась на спинку стула.
На фотографии было деревянное распятье Иисуса из храма Воскресения, куда она всегда ходила.
Когда умер отец, ее тянуло к этому распятью с неодолимой силой, как ни к одной из икон храма. Тогда по ночам она не могла спать, долго перебирала в памяти картины детства, не веря, что отец больше никогда не заправит ей выбившуюся прядь непослушных волос за ушко, она представляла эти жилистые усталые ступни, прибитые гвоздями к кресту рядом со своим лицом и молила: «Боженька! Разреши мне возле Твоих ножек немножко побыть…»
И сон тут же приходил к ней, спокойный и ласковый, он растворял ее печальную память и дарил отдых усталой душе. Засыпая, она ощущала тепло и мир, исходящие от воображаемых рядом с ней ступней и благодарная, счастливая оттого, что не была отвергнута Им, уходила в новый день.
— Это Распятье…
Ярослав просветленно и робко улыбнулся.
Лида растерянно посмотрела на Мишу. Тот уткнулся в бумаги и ничего вокруг не замечал. Его подзащитные молча курили.
— Оно в храме Воскресения на Обводном…
— Да, уже два года.
Лида аккуратно положила альбом в свою сумочку и молча проставила на листке-требовании Ярослава время начала свидания и время его окончания.
— Меру пресечения я обжаловала. Суд на той неделе. Придется потерпеть, мальчик мой.
— Я терплю.
— С сегодняшнего дня тебя катать больше не будут.
— Будут.
— Нет, не будут. Пойдем, я тебя отдам.
Миша встрепенулся и поднял голову.
— Что так быстро?
— Времени мало.
— Как же театр?
— Вся жизнь — игра. И люди в ней — актеры. Я позвоню.
Миша грустно закивал головой.
Выйдя с Ярославом на «круг», она, не замечая Тузика и других собак, повела мальчишку к конвою.
— Что это такое? — показывая на его руки, спросила она милиционера.
— Откуда я знаю, — пожал плечами милиционер.
— Его надо в больницу.
— Это не ко мне вопрос. Я тут не решаю, что надо, что не надо. Ведите его на обыск.
Пока Ярослава «шмонали», осматривали и ощупывали его одежду в небольшой, нестройной колонне заключенных, Лида пошепталась с Никитой, начальником охраны. Он всегда благосклонно относился к ней, хотя точно знал, что Лида «подкармливает» своих заключенных, но никогда не проводил дотошный обыск, не заставлял Лидиных снимать обувь, не перетряхивал их бумаги и не прощупывал пояса штанов.
— Вот мой телефон, сегодня пусть звонят, встретимся.
— Будет сделано, — кивнул Никита.
— Если что, я подниму хай. У меня это получается, передай. — сказала Лида буднично. Слова прозвучали как-то печально, будто она уже заранее обижалась на себя и жалела работников тюрьмы.
— Где агрессия, там нам не резон, — насторожился Никита.
— Это не агрессия, а условие.
— Ладно, вечером деньги, утром отдельная палата, — согласился Никита, остро поглядывая по сторонам.
— Сейчас, а не утром.
— Ладно. Что-нибудь придумаем, — сдался Никита.
Лида торопливо, нервно порылась в сумочке и, достав оттуда альбом, стала его листать.
— Идите, идите, — отмахнулся от нее Никита, опасаясь каких-нибудь непредвиденных действий с ее стороны.
— Стой.
Лида с отчаянием искала нужную страницу.
— Вот. Смотри. Это его творенье. А ему пальцы переломали.
Она кивнула в сторону Ярослава.
Никита, задубевший на своей работе, мельком глянул на фотографию и уже равнодушно собрался обыскивать следующего заключенного, но вдруг снова заглянул в альбом. Глаза его растерянно замигали, как у маленького ребенка, уличенного в краже варенья, и он испуганно уставился на Ярослава.
— Это в церкви возле моего дома.
Он затоптался на месте, оглядываясь по сторонам, будто все в коридоре мигом прочитали его мысли.
— Деньги я найду. Больница и камера. И все.
— Разберемся, — коротко ответил тот и, взяв Ярослава под локоть, повел его по коридору.
— Куда ты его повел? — Лида пошла за ними, чувствуя, что не может оторваться от этого худенького мальчишки, пока не будет точно знать…
— Куда повел его?
— Нечего кудахтать. Напишите жалобу на всякий случай, — шепнул Никита, как сообщник.
В канцелярии тюрьмы она сочинила сразу несколько жалоб, резко разговаривая со всеми, включая миловидную девушку-секретаршу, будто каждый принимал личное участие в избиении Ярослава.
— С цепи сорвалась! — констатировал белобрысый синелицый служащий.
Дома она села у телефона, приготовив две тысячи рублей и положив голову на руки беззвучно заплакала от стыда за себя.
Глава 8
На Сенной, где была назначена встреча, день тонул в грязи, суете и слякоти. В машине пахло горелой резиной, и Вадим открыл дверь, чтобы проветрить. На улице пахло еще сильнее. Вадим захлопнул дверцу и включил радио. Ему нужно было сейчас слышать чей-нибудь голос, чтобы не слушать бесконечное нытье своего внутреннего я.
За последние дни после Нового года от безделья и бесконечных посиделок у друзей и подружек Вадима начало тошнить от самого себя. Он чувствовал, что ему опротивело не только свое тело, но и свои мысли, и слова, и поступки. Иногда в середине какого-нибудь рассказа его как иглой насквозь прокалывало каким-нибудь неясным, неосознанным звуком, он замирал на полуслове и прислушивался к себе, а в голове вертелось: «Какой бред я несу! И зачем? Кому это надо?» Он мчался к Агнессе по ее звонку через весь город по какой-то дикой, глупой, преданной привычке, спешил к стареющей богатой женщине, которая мурлыкала и ворковала вокруг него, как голубь перед голубкой. Раньше ему это нравилось, а теперь он обреченно молчал и не отвечал на ее вопросы, словно язык его был посажен на золотую цепь, прикованную к толстым, холеным пальчикам, перепоясанными бриллиантами колец.
Он отодвигался от липкого, как лента для ловли мух тела Светки, распластанной поперек кровати и счастливо запутанной в жгутах простыней, упирался лбом в стенку и боялся прикоснуться к ней, словно сам был весь измазан и мог прилипнуть навсегда к этой маленькой, шустрой девушке.
Светка была хрупкой, невесомой и веселой. Она вела себя как непосредственный, бесхитростный ребенок, в чем и заключалась вся хитрость. Со временем оказалось, что ребенок, которого Вадим носил на руках и подмышкой, очень даже умен и властен. А потом Светка забралась на его шею, свесила ноги и согнать ее оттуда было уже невозможно. Ключи от его квартиры она ему не отдавала, всегда держала под контролем его передвижение и позволяла все.
Вадим смирился с тем, что она приходит, устраивает несколько раз в месяц семейную жизнь со сценами ревности и выяснениями отношений. При этом, капризно и отчаянно крича, проливая слезы, Светка мельком смотрелась в зеркало, а Вадим все пытался посоветовать ей этого не делать, потому что ее детское личико с маленьким ртом превращалось в сухое, злобное лицо старушки, а вся Светка, трясущая тонкими веточками рук, была похожа на маленькую Бабу Ягу.
Говорила ему Галя — Вадим, бойся маленьких, худых женщин. Нет ничего опаснее в мире, чем маленькая, худая женщина. Они страшнее бультерьера.
Но его всегда тянуло к маленьким и беззащитным. Ему хотелось защищать нежность.
— Маленькая женщина — это клоп, — говорила Галя. — Она всегда хочет, чтобы ее увидели, потому что дышит в пупки толпе. И потому она лезет, цепляется, скребется, терпит и мстит за свое терпение. Она любой ценой преодолевает ветку за веткой дерева жизни, чтобы забраться на верхушку и возвестить оттуда на весь мир: «Я большая! «Чтобы клопу выжить и вырасти, ему надо к кому-то присосаться. Хорошо, когда попадется хороший донор и можно не особо суетясь подпитываться и карабкаться. А если тебя все время стряхивают, как блошку? Это кого хочешь разозлит. Они, такие крошки, любить не умеют. Они используют всех вокруг в большом и малом, чтобы не дышать в пупки толпе, а парить над ней. Им некогда любить, их разум занят поисками выхода из-под чужих подолов.
Галя говорила зло, потому что не ладила со Светкой и жалела ушедшую Катю. Катя была большой. Слишком большой для Вадима. Ему иногда казалось, что сам он рядом с ней — ребенок. Он уважал ее больше, чем любил. Он побаивался ее взглядов и оценок и никогда ей не врал, потому что она все понимала без слов.
Светке можно было говорить все, что угодно, с нее, как с гуся вода, любая ложь стекала в никуда, и было легко. А Катя была умная и добрая. С ней трудно было чувствовать себя сволочью. Катя уехала в Германию на два года работать переводчицей.
Говорила Галя:
— У одного мужчины было несколько женщин. С одной ему было хорошо дружить, другая была богатой и помогала ему, у третьей были связи, с четвертой ему было очень хорошо в постели, пятая вкусно готовила, шестая была остроумна и умна, а седьмую он просто любил. Ему ничего от нее не было нужно. Просто любил.
Галя многозначительно глянула на Вадима и, выдержав паузу, продолжила:
— Так вот эта седьмая отомстила ему за всех остальных. И ты знаешь как?
— Как?
Галя снова сделала длительную паузу, буравя его строгими глазами, чтобы ответ прозвучал более внушительно:
— Догадайся с трех раз.
— Говори.
— Месть была страшной. Она его не любила. Не лю-би-ла, — тихо, грустно, по слогам произнесла Галя.
— И он стал несчастным. Нищим, глупым и больным…
— Ну уж, ты переборщила.
— Да-да, несчастным человеком. Ведь она лишила его главного — счастья ответа. Остальное-то — суета. Кстати, а ты знаешь, почему она его не любила?
— Почему не любила. Не любила и все.
— Потому что он был по номеру только третьим, тем с которым ей было удобно работать, а у нее был свой седьмой…
— Какие-то все у тебя… Номера не сходятся… — недовольно покачал головой Вадим.
— Не у меня, а у тебя. У меня муж, дети и работа. Все под номером один. А вот у тебя этого может не быть из-за количества без качества.
— Глупости, — отмахнулся Вадим. — Ты рассуждаешь, как курица домашняя. А я тебе, как свободный мужчина скажу: они все, эти твои по номерам, лишили его главного. Главное для мужчины — возможность и необходимость отдать себя целиком.
— Можно подумать, никто брать не хотел, — всплеснула руками Галя. — Можно подумать, вы отдадитесь целиком! Что ж ты целиком Кате не отдался? У тебя и других возможностей было сколько угодно. Что ж ты только со Светкой путаешься?
— У меня не было возможностей. Душа ни разу не дала добро, не сказала: да, это она! Всегда шепталось: не надо, не твое.
— Так ты найди свое! Ты не ищешь, тормозишься. Мужчина — захватчик, завоеватель, он сам берет.
— Да это знаешь, как в песочнице, дерешься, дерешься из-за какой-то финтифлюшки, которая показалась бриллиантовой, отвоюешь, а назавтра она тебе не нужна, потому что на самом деле — чушь… Мы ошибаемся, как дети.
— Дети, это точно, — согласилась Галя. — Но в Библии сказано так, Вадик: «И создал Бог человека» Написано «Человека» с большой буквы. И увидел Бог, что Человеку скучно». Опять с большой буквы. А третья строчка такая: «И создал Бог Человеку помощницу». Слово «помощница»— с маленькой буквы. Заметь, не жену, не женщину, не другого человека хотя бы с маленькой буквы, а просто помощницу. Это уже потом Человек дал ей имя, назвал женой, женщиной. Если исходить из такого восприятия основы жизни, как дается в Библии и толковать это без всяких выкрутасов, напрямую, то все становится на свои места. Ведь если это твой Человек, то так приятно ему во всем помогать. Какой бы он ни был, он всегда лучше чужих. И тут самое главное не ошибиться. Ищи помощницу, Вадик. Тебе одному не справиться с жизнью.
— Я не хуже других, — пробубнил расстроено Вадим.
— А самая главная помощь знаешь с чем? — не обратила внимания Галя на его слова.
— В чем?
— Когда тебя любят по-настоящему, то все клеится.
— Я тоже хочу любить…
— Люби. Но эта седьмая может тебе отомстить, если будет седьмой. Запомни мою сказку, братик. Седьмая она будет или двадцать седьмая, но она обязательно появится. И если отомстит нелюбовью, но ты не найдешь себе места на этой земле.
Дверь распахнулась, и в машину легкой птичкой впорхнула Светка. Подпрыгивая, как веселый ребенок на переднем сиденье и хлопая в ладоши, она принялась рассказывать, как здорово они сегодня в магазине разыграли директора. Вадим включил ключ зажигания, чувствуя, что его снова замутило от тоски.
— Домой? — приказным тоном спросила Светка.
— У меня сегодня встреча.
— Вот и хорошо. Я приготовлю что-нибудь вкусненькое. Что у нас в холодильнике? Курица замороженная была. Не съел? Еще фарш, свинина…
Память у Светки была хозяйственная. Светка загибала тонкие пальчики с длинными, чуть загнутыми внутрь ногтями.
— Хочешь, приготовлю курицу? Или ты ее съел?
Вадиму стало неуютно, будто Светка была официанткой из соседнего кафе, а он своровал у них на кухни курицу.
— У меня сегодня дела, — внушительно повторил Вадим.
— Нет, тогда лучше свиную отбивную. И салатик какой-нибудь. Останови здесь.
— Зачем?
— На одну секунду вот здесь.
Светка взволнованно заскребла ногтем по стеклу, указывая место стоянки.
Вадим растерянно подрулил к тротуару и остановил машину.
— Ты куда?
Светка, ни слова не говоря, выскочила из машины, и растворилась в толпе. Вадим досадливо откинулся на спинку кресла, достал сотовый телефон и набрал номер.
— Толик, я буду где-то через час.
— Давай, — коротко ответил Толик и бросил трубку.
Вадим включил дворники и тупо уставился в грязные разводы на стекле, меняющие свои очертания и цвет от движений механических черных усов. Погода была мокрая, слякоть валилась сверху и скапливалась на дорогах, не тая и не высыхая. Она никуда не исчезала, и казалось, что через несколько дней будет невозможно ни проехать, ни пройти по густой, черной каше.
Толик сейчас подцепит его на какую-нибудь очередную разборку для создания силового антуража. Связался с идиотами. Сценарии у них, у умников. В Чечне было проще. Дали задание — выполняй. Никакого творчества. Не выполнил — предатель. Не взял задание — тоже предатель. Все по воли командира, а предательство — на твоей совести. А тут — хочешь денег — бери, мучает совесть — не бери…
«Мы испорчены войной, Вадик! Мы без войны уже не можем. Мы иногда хотим крови». «Да не крови, Толь, а победы. Без побед мы живем, как побежденные».
«Не, а я крови хочу. Иногда жуть как хочу. Звериной. Видишь, как звери расплодились? Разгулялись, что волки в войну. Нет на них охотников-мужиков. Ох, я стрелять хочу, не могу… Меня такое зло берет, что мои мужики, когда подрастут, батрачить на этих зверей пойдут. Мы ж побеждены все. Вся страна!»
«Да какие они волки, Толик, Они до зайцев не дотягивают».
«Это бронированные зайцы. И вокруг них купленные волки. »
В Чечне было легче, хоть и не понимали, за что воевали. Одно дело — Вторая мировая, когда или всем народом не страшно полечь за родную землю или победить всем народом. И третьего не дано. Ясно было, кто враг, где граница, кто чужие, кто свои, куда стрелять, где партизаны. А там, в Чечне, за кого, за что они воевали? С какими лозунгами шли в бой? За нефть! За будущих олигархов! За американские принципы русского правительства! За геноцид населений! За кровавую, непотухающую точку, за рану, которую надо расковырять и занести в нее столько грязи, чтобы можно было долго-долго обмывать и обмазывать ее деньгами, якобы залечивая, выпускать гной, якобы готовя к пластической операции. За кровь русских мальчишек, перемешанную с чеченской нефтью, со слезами чеченских матерей, которые как-то совсем не отличались от русских. Странно, что чеченки чувствовали горе не иначе, чем русские женщины. А тем временем капиталы банкиров за их широкими спинами и послушными головами, росли и множились, вырастая из никчемных ваучеров, выданных растерянным, ничего не понимающих в новой системе родителям на гражданке. За их широкими спинами, пока они расковыривали и заносили грязь в рану на чеченской земле, развалилась без боя, без единого выстрела огромная страна, которая раньше была родной. Финансовым и юридическим путем ее взяли с шутками и прибаутками юмористических передач, где ликовали в бесовском кривлянии хорошо проплаченные шуты и шутихи. Ее взяли под песни и пляски армии развращенных бездуховностью, сексуально озабоченных, сплотившихся бездарных людишек. Для этого не вооружали полки, не крепили войска, и не объявляли войну. Ее взяли потихоньку, за одну ночь, кривляясь за кинокамерами в полупьяной встрече в Беловежской пуще, где и был переключен с красного на зеленый свет для смертоносного локомотива. И локомотив пошел, выпуская огненные пары и набирая сокрушительную силу чередой законов, подкрепивших начало его пути. Эти законы потянули за собой цепочку других. Как уголь в топку, закидывалось идеологами и их послушными сочинителями-кочегарами — топливо эпохи. Оно разгоралось и полыхало, выделяя бешенное количество энергии, которая пронзала невидимыми лучами мягкую, покладистую землю. Энергия искала себе выходы и входы не в созидании, а в разрушении, и крушила на своем пути все, что мешало ей впиться в тело страны: хрупкие души, вековые устои, великую культуру, веру… Законы разрушили экономику и направили в заранее подготовленные русла искусственных рек потоки капитала. Страна была побеждена навязанной войной двух религий, которые никогда не были враждебными — православия и ислама, а тем временем в самом сердце страны как раковые опухли одна за другой вырастали секты. И он, Вадим, защищавший свою страну в своей же стране от граждан своей страны на земле этих граждан, тогда все это не понимал. Он был не против Аллаха, и ему не говорили, что Иисус лучше, он еще даже не умел молиться. Мама не учила его молиться, она не ходила в церковь.
Борясь против и за, он чувствовал, что не может ненавидеть чужую веру, не зная своей веры. Он был ягненком, посланным на закланье, точно таким же ягненком, как и черные, грязные, растворившихся в своих горах чеченцы. Но это были — их родные горы, и они их отстаивали, как могли. А он проспал, прозевал, проворонил свою землю, отдал ее нахлынувшим бодрым жидам. Так же, как и все остальные, так же, как и Толик. Но только Толику хуже. У него два пацана…
Говорила ему Галя:
— Вадик, не путай очередность. Сначала первое, потом второе, потом компот. Мужчины теперь пошли хуже детей. Хватаются за компот, а потом плачут, что нет аппетита. Испортили аппетит-то! Ведь не бывает так, что сначала наступает вечер, потом день, потом утро, а после утра — ночь. Это же ужас какой-то будет. И мы все умрем от этого ужаса! Представляешь себе: птички поют, цветки раскрываются, дети молочко сосать начали и вдруг: тьма, звезды, тишина… Нарушение закона — это начало смерти. А в жизни такой закон: Мужчина — защитник, добытчик и хозяин земли. Все решает мужчина. Женщина не может и не должна принимать решения. Потому что в ответе — только он, и в большом, и в малом. И в целом на планете, и в своей стране, и в своей семье, и в самом себе. Женщины ни при чем тут вообще. Во всяком случае, так должно быть И если это не так, то происходит нарушение закона жизни. Вот мужчина прежде всего кого должен защищать?
— Женщину, — кивнул Вадим послушно.
— Женщину! — передразнила она его. — А Родину кому поручите?
— Да, Родину сначала…
— В первую очередь, свою землю, дым Отечества, гробницы предков. Как шли в бой русские солдаты? За веру, за царя, за Отечество! За Родину, за Сталина! Это когда вера была порушена, то за Сталина. А еще раньше, когда государство наше не было образовано, с каким кличем шли в бой воины?
— Кто ж его теперь знает, этот клич…
— А вот и знает! И ты сам кричал его не раз, Вадик, — сказала Галя. — Разве ты не кричал в Чечне «Ура!»?
— Кричал.
— Ра — бог солнца у язычников. Когда не было государств, а может, они уже и были, то в бой шли за веру, с именем Бога на устах и во имя его. А ты во имя чье кричал там «Ура!», когда шел в наступление?
— Галя, отвяжись от меня! Какое наступление? Штурм, атака, захват, операция… Не лезь со своим женским умом в мужские вопросы. Что — во вторую очередь?
— А вот — что? — спросила Галя.
— Женщину? — неуверенно предположил Вадим.
— Опять женщину! — всплеснула руками Галя. — Помешался на этих женщинах! Ничего другого на уме. Семью, Вадик, семью!
— А что в семье женщины нет, что ли? — принял оборонную позицию Вадим.
— Женщина и семья – это не одно и то же. Это могут быть совершенно разные вещи. Жена — это мать твоих детей, пусть даже будущих. А женщина — это так. Поиграл и бросил. Вон их сколько, женщин-то, не пересчитать.
— Но к этому надо стремиться! — пошутил Вадим. И напрасно. Галя рассердилась:
— Стремиться надо к созданию семьи! Своей семьи! А не пересчитывать общих женщин! Баран ты, хоть и брат мне.
— Ладно, ладно, баронесса, — миролюбиво заулыбался Вадим. — Знаю я все без тебя.
— Вот и плохо, что знаешь, а все равно делаешь. Лучше бы не знал! Ты удовлетворяешь низменные потребности своего грешного организма и этим вполне доволен. Это страшно.
Галя зло поджала губы.
— К несчастью, именно таким грешным путем и продолжается род, Галя, — печально констатировал Вадим, переводя разговор в шутку.
Но Гале такое предположение не понравилось.
— Какой род?! Чей род? Ты знаешь, как раньше назывались внебрачные дети? Страшно сказать, как, от матерного слова. У них и жизнь такая, от этого матерного слова. Нет счастливых внебрачных детей. Нет и не будет.
Она прищурилась и стала внимательно изучать лицо Вадима.
— А ну, посмотри мне в глаза! — приказала она и Вадим с улыбкой повиновался.
— Ты не задумал ли со Светой ребенка смастерить? Дурное дело нехитрое.
— А что?
— Тогда женись на ней. Хотя я против.
— Хорошо, женюсь.
Галя обомлела. Весь ее напор мгновенно пропал, и она кисло произнесла.
— Ты не торопись, Вадик. Дети должны рождаться в любви, а ты ее не любишь…
— Откуда тебе знать?
— Я вижу, — умоляюще сказала Галя.
— А в третью очередь кого надо защищать? — повысил голос Вадим, чувствуя, что взял верх над сестрой. — Женщину? Галя мгновенно оживилась:
— Опять?
— Ну разреши ты мне ее защитить! — взмолился Вадим.
— Нет. Только с детьми. И только жену. И только одну свою. Остальных, чужих, не надо защищать. Их защитят их мужья. А если мужей нет, сами виноваты, и пусть защищаются сами. Оставь в покое женщин, подумай и о себе. В третью очередь мужчина должен защищать самого себя. Свою душу, свой дух и свое тело. Хранить веру, беречь совесть и честь, держать в здравии тело и ты знаешь для чего?
— Ну?
— Чтобы быть готовым в любой момент к бою. За Родину, за семью…
Галя печально задумалась и вдруг смилостивилась:
— Ну ладно, и других женщин и детей. Мало ли кому мужей не хватило. Вроде войны нет, а мужиков не хватает.
— Есть война, Галя, — серьезно сказал Вадим. — Потому и не хватает.
Галя была строгой сестрой. Она много лет уже рассказывала ему всякие рассказы, хотя в жизнь не лезла и была таинственным, не слышным никому подпевалой, который пел не в строй, не в голос и не в такт с Вадимом совсем другую песню, но почему-то не мешал. А иногда у двух разных песен удивительным образом совпадали слова, строки и даже целые куски куплетов и припевов.
— Так-то вот, Вадик. Товарищи твои во главе с тобой поменяли местами первое с третьим. Нарушилась цель — быть защитником. Целью стало потребить как можно больше вкусного, сладкого, приятного, обеспечить себя, свое тело уютным жильем, хорошей едой, качественным отдыхом. Кстати, удобной женщиной, которая не морочит голову проблемами, не имеет претензий и рада без памяти, что ей дали ключи от квартиры. И лазит теперь, и лазит по чужой квартире! Наши родители были бы не довольны, на тебя глядя!
Галя намекала на Светку.
— Ни стыда, ни совести. Завоевывать теперь ничего не надо. Страны завоеваны, женщины сами, что хочешь в атаке отвоюют. Но ты подожди, подожди, братец! — пригрозила она. — Вот появится эта двадцать седьмая и ты вспомнишь мои слова! А она появится, сколько веревочке не виться…
Дверца машины резко распахнулась, и Вадим вздрогнул. Светка запрыгнула на сиденье и принялась рыться в наполненном продуктами пакете.
— Хлеб забыла купить. Салат взяла с крабовыми палочками. Пойдет?
— Я еду не домой, совсем в другую сторону. По пути подброшу тебя. — сказал Вадим.
— Хорошо, — покорно согласилась Светка и открыла дверцу машины.
— Куда ты? — воскликнул Вадим.
— Я на метро доберусь, — покладисто сказала Светка, будто так мучиться ей было не впервой, и захлопнула дверцу.
«Сейчас вернется»— равнодушно подумал Вадим и завел машину. Светка не вернулась. Вадим еще несколько минут посидел в ожидании, пока вдруг его не осенило, что Светка пошла добираться в метро не к себе домой, а к нему. Он раздраженно нажал на сцепление и резко тронулся с места. Проехав несколько кварталов по тускнеющему вечернему городу, успокоился и простил ей упрямство, потому что все же хуже возвращаться в пустую квартиру с пустым холодильником и горой невымытой посуды. Одиночество стало утомлять его в последнее время, хотя раньше он искал его и переносил спокойно. Несколько бессонных ночей прошлой недели чуть не привели его к аварии. Он кивал носом за рулем, приезжал домой еле живой от усталости, апатично жевал на кухне холодный ужин, ленясь зажечь газ, а потом до четырех часов утра не мог заснуть, мучаясь от бессонницы, не в силах побороть ее, ворочаясь с боку на бок в кровати, как курица-гриль на вертеле. Потом он вставал, подолгу смотрел в одну точку в черном окне, пока тусклые, жирные огни фонарей внизу не начинали плавиться и растекаться по ниточкам улиц потоками топленого масла, будто его взгляд был настолько горяч, что сверкающие шарики расползались в разные стороны и просачивались сквозь черноту асфальта. Он гнал от себя мысли о ней и спорил с этими мыслями, ругал себя и не мог смириться с тем, что все равно возвращается в ушедший день, перебирает в памяти ее фразы, прослушивает по несколько раз, как заезженную пластинку, ее голос, разглядывает ее жесты, мимику, улыбку, быстрый взгляд, приказывая невидимому оператору: «Стоп! Еще раз!» И тот послушно прокручивает сначала кадры, где быстрый взгляд, поворот головы… Вадим старается разглядеть повнимательнее, прочитать в том мгновении, в легкой мимолетности какие-то слова, отыскать объяснение, разгадку этой странности, этой тайны. Но каждый раз ответ звучит по-разному. Слова то горячи и нежны, то равнодушны. Сердце его отчаянно стучит, и он понимает, что уснуть опять не удастся.
А она поворачивает голову и разговаривает с девочками с левого ряда, мельком взглянув на него. Поправляет неуверенно светлые волосы, рука ее чуть дрожит, потому что четыре часа лекций — это тяжело для нее. И снова этот быстрый взгляд, от которого пробивает током, а потом прокалывает ледяной иглой. Она идет к доске, чуть заметным движением проверяя, не расстегнута ли молния на юбке. Какая непослушная молния на ее юбке! Она два раза чуть расползлась, когда она рисовала таблицу, высоко подняв руку, а он нервничал и злился оттого, что все видят бежевый, беззащитный треугольник. Он злился на других, на себя, но больше всего на нее, потому что в груди щемило так, будто ее били, а она молча терпела и рисовала эту злосчастную таблицу, и он ничего не мог поделать, ничем не мог помочь.
Он снова командовал: «Стоп!»— и — быстрый взгляд, когда она поворачивала голову от доски, потом оттирала пальцы от мела, одергивала чуть задравшуюся кофточку, оставляя по бокам белые пятнышки мела на зеленой ткани. И он снова злился на нее из-за этих пятнышек, потому что хотел, чтобы кофта была чистой. Настолько хотел, что даже не прочь был ее постирать руками сам. Дома. Он заворожено разглядывал ее глаза, скользил по говорящим что-то губам и, не слыша слов, охватывал и впитывал ее, как впитывают глаза цвет моря и облаков, а тело — силу земли, а душа — волю неба. И цвет ее одежды таял, превращаясь из темно-зеленого в нежно-розовый с темнеющими точками на груди и…
Очнувшись, он резко командовал себе «Стоп!» и шел пить воду из-под крана. Он больше не просил «Еще раз», наоборот, умолял невидимого оператора стереть эту пленку, эту запись и весь вчерашний день, и ее лицо тоже. Он клялся под утро, что переведется в другой институт и выбьет эту дурь из головы. Потом, уже засыпая, обещал кому-то просто пропускать понедельник и четверг, когда она читает лекции, и тут же ловил себя на том, что сердце счастливо частит оттого, что четверг как раз завтра, и вечером он снова увидит ее.
Вадим включил погромче радио и стал подпевать знакомую песню, отгоняя навязчивые мысли. «Ну зачем поспешили мы… Проститься…» Никакой мысли в ответ на эту строчку не возникло, никакого образа, никакого имени, он еще ни о ком не успел подумать, а сердце уже зашлось от охватившего его со всех сторон ужаса, от страшного этого слова «проститься», невозможного, смертельно опасного для него слова…
Говорила Галя… Зачем она говорила? Зачем она ему накаркала про эту двадцать седьмую. «Он ее просто любил. Ему ничего не было нужно от нее. А она отомстила за всех других. И знаете как? Она его не любила…»
Вадим резко затормозил у светофора и уставился, не мигая, в красный круг света. Вот чего он боится, прогоняя мысли о ней, мучаясь, споря и борясь с самим собой. Он боится ее нелюбви. Пока не известен приговор, есть надежда выжить. Если приговор будет прочтен и окажется беспощадным, то все потеряет смысл. Все — суета, все — глупая шутка, нелепое, не нужное ему время для яви и сна, если она посмотрит ледяными глазами сквозь него и скажет: «Всего доброго, Кулаков. Вы были не очень прилежным студентом. Надеюсь, только на моем предмете». Она пройдет мимо, а мир тут же обледенеет, замерзнет от этого холодного взгляда и пусто-пусто зачем-то зазвенит…
Это сейчас он исполнен теплом, ее взгляда… «Стоп! Еще раз!» И — поворот головы, строгий голос, мягкие глаза… Да, это она. Та, которая может его, сильного, свободного и независимого сделать, как говорила Галя, бедным, несчастным и больным. Больным он уже стал. От бессонных ночей расшатались нервы, был забыт спортзал, заброшены тренировки. Поглупеть он тоже успел, потому что ничего не слышал на лекциях, хотя и записывал все старательно. Что касается счастья, то оно как раз и висело на волоске, который мог оборваться в любой момент. Грань между абсолютным счастьем и абсолютным несчастьем была даже тоньше волоска, даже тоньше самого невидимого, чуткого нерва. Она, эта грань, была — словом. Слово могло разрушить ее, и тогда все полетит под откос, громя и круша прошлое, настоящее и будущее.
«Надо поехать завтра к Гале. Сразу же после лекции. Поеду к Гале», — подумал Вадим и сурово нажал на газ.
Толик ждал его в условленном месте — в кафе «Идельная чашка». Круглый столик был заставлен пустыми кофейными приборами, усыпанными сверху смятыми желтыми салфетками. Толик допивал пятую чашку кофе.
— Фу, набурился, — вздохнул он вместо приветствия.
— Взорвешься, — улыбнулся Вадим и кивнул на пустую посуду.
Толик молча закурил сигарету и нахохлился.
— Пять чашек выпил, как дурак, — пожаловался он. — А ты где болтаешься? У меня давление высокое.
Вадим молча сел напротив и тоже достал сигареты.
— Не наследил? — угрюмо спросил Толик.
— Чуть-чуть…
— И что потом?
— Суп был с котом. Утром съели и разбежались.
— Откуда?
— Из моей квартиры.
— Наследил, паскуда, — кивнул Толик.
Вадим уставился, прищурясь, на огонек сигареты.
— Искать будут. Жди.
— Она уехала.
— Куда?
— Из города.
— Куда? — повысил голос Толик.
— В Псковскую область.
Толик минуту помолчал, потом сказал:
— Найдут. И уберут. А перед тем, как убрать, она им твой адрес подскажет. Меняй квартиру. Там вроде бы труп есть. Перестрелялись они потом.
Вадим выпрямился на стуле.
— Быть не может…
— А вот смогло. Пушка где?
--- У меня.
— Ладно, тогда есть другая тема. Поляна классная, надо только окучить. Нужны хорошие юристы, а у меня одни уголовники.
Вадим напряженно отвернулся к окну.
— У тебя никого нет? Посимпатичней…
— Нет.
— Может, сам возьмешься? Пора уже, сколько можно тебя обучать?
— Не справлюсь. Рано еще.
— А ты помощницу подыщи. С твоими-то лапами, да за умную бабу не ухватиться. Они, эти умные, все одинокие. Затащи в постель и работа пойдет.
— Ну да. — кивнул Вадим.
— Ну и вот, — обрадовался Толик.
Вадим нервно затушил сигарету.
— Толик, ты знаешь, что я на глупости не пойду. Не подставляй.
— Глупостями другие пусть займутся. А твое дело цивилизованное, законное. Там раздел капитала. Рыдает вдова, а слез никто не утирает. Говорю тебе, поляна большая, очень большая. Миллионов на двадцать.
— Кровью пахнет.
— Кровью везде пахнет, даже там, где двадцать тысяч. Крыша с той стороны мощная, сильнее нашей, но старшие договорятся. Теперь все строится культурно. Вперед выпускаем юристов и пусть они пашут. А мы с двух сторон гарантии будем держать.
— Так выпусти Виолетту свою. С Гошиком.
— Еще чего, — поморщился Толик. — Вету я жалею. Она будет серым кардиналом. Нам нужны негры, потому что там много галиматьи всякой — суды, аудит, арест имущества, балансы и прочая фигня. Я в этом плохо разбираюсь.
— Где я тебе негров найду? Нужны свои люди, а не чужие.
— Сделай чужих своими. Кто у нас ученый? Ты ученый. Другие пашут, а ты книжки читаешь. Бережем тебя и кормим для чего? Для того.
— Не попрекай.
— Я только напоминаю, что ты живешь без стрессов. На разведку послали и то палец о палец не ударил, еще и вляпался. Еще и повезло. Чужими руками жар гребешь, не много ли будет? Эдак ты у нас в ангелочка превратишься и в рай попадешь. Мы все в ад, а он, глядишь…
У Вадима заходили на скулах желваки, он крепко сжал кулак и стал медленно, размеренно стучать им по колену.
— Пару хороших адвокатов, причем близких, за умеренную плату найди. Лохушек каких-нибудь, чтобы рот не разевали. А если хорошие мозги, то одной хватит. Но чтоб со стажем!
— Хорошие - не лохи.
— Ошибаешься. Они в закон ушли с головой, жизни вокруг не чуют. Колупаются в своих буквах и всем верят. Уголовники — те ушлые, с тех, где сядешь, там и слезешь.
— Не думаю…
— А ты подумай. И хорошенько подумай. Не забудь, что всегда в доле был, даже когда книжки читал. Авансы отрабатывать надо или нет? Через неделю начнем работу.
Толик потер ладонями багровые, пухлые щеки и стал медленно подниматься из-за стола, шумно выдыхая из широкой груди свое повышенное давление и выкатив побагровевшие от кофе глаза.
— Мы тебя взяли голодранцем, Вадик. Выкормили, вырастили, а теперь ты хочешь чистеньким судьей стать? Нет, Вадик, не получится. Ты в судьи даже не меть, пока не отработаешь и не расплатишься по счетам за все наше добро.
— Чье — ваше? Уточни, — тихо спросил Вадим, подняв на него глаза.
— Славкино! — с вызовом ответил Толик.
— Со Славкой мы на том свете разберемся. Ты по его счетам с меня не требуй.
— Нет, Вадик, на том свете тоже стрелку надо заказать, а то не выйдет у вас разборки. Славка-то в аду бичует, на ты в рай лыжи намылил. Уж я, Вадик здесь, на земле-матушке постараюсь, чтоб ваша встреча состоялась. Я не я буду.
— Ты стараешься, — кивнул Вадим.
— Да, только с дедушкой промашечка вышла. Отвело тебя, отвело. Но ничего, другая работенка найдется. Квартиру меняй.
— Не буду, — сухо сказал Вадим.
— Не рискуй. И дурью не майся. Забрался в кузов, не говори, что ты ягодка.
Вадим поднялся из-за стола.
— А денег-то хочется? — спросил Толик.
— Ну?
— А пачкаться-то не хочется? — снизил голос Толик, состроив мерзкую гримасу.
— Не хочется, — кивнул Вадим. — И других не хочется пачкать. Надоело все это…
— Да все сами вымазаться спешат! Все уже мазаные, Вадик! Чистых сейчас нет. Какая жизнь — такие люди. Дай людям работу! Они без дела устали коленки расшибать о ступеньки! А работа у нас чистая, бумажная. Не переживай за генералов, Вадик, расстраивайся из-за солдат. Умные сами разберутся. Наша сила, да ихний ум — вот она, правильная жизнь. Мы не схватим — другие сожрут. И никто не подавится, потому что не чужое забираем, а свое. Вдове рыдающей кто поможет? Государство? Как бы не так, будет государство грабленое делить. Ему некогда, оно само грабит.
— Ишь ты! — восхитился Вадим.
— Так и есть. Кто делил, тот должен делиться. Все по честному должно быть. А то как бедным людям жить?
— Ишь ты!
— А иначе — разбой, грабеж и беспредел. А мы хотим в рамках закона. Рука об руку с прокуратурой, судом, администрацией. Пятьдесят процентов хватит на всех, не обидим сладким куском и тебя.
— Так что, в прокуратуре, суде и администрации нет хороших юристов?
— Хороших нет. Там только цари и королевы, а нам нужны негры, которые умней царей.
Толик застегнул молнию куртки и, не оглядываясь, пошел к выходу. Вадим понуро поплелся сзади, задевая ногами торчащие со всех сторон столы и стулья и отшвыривая их от себя, как цепкие, слабые чьи-то руки.
* * *
Светка выла дурным голосом в ванной песню про любовь. Стол был накрыт, и у Вадима как-то отлегло от сердца. Даже показалось, что он соскучился по ней, а дома хорошо и уютно.
— Тук-тук! — весело постучал он в дверь ванной комнаты и Светка призывно взвизгнула.
Вадим открыл дверь и заглянул. Светка улыбалась. Ее мокрые волосы темными прядями облепили голову, лицо, шею и змеились по смуглым, выпуклым ключицам и гладким плечам. Они обтягивали ее голову, как резиновая купальная шапочка. Из шапочки по бокам торчали два больших оттопыренных красных уха. Вадим, протянув уже руки к вздрагивающей Светкиной груди, вдруг остановился, удивленно уставившись на эти вызывающие уши и оторопело улыбнулся. Как это раньше он не замечал таких ушей? Сколько раз он закутывал ее в полотенце, приносил на руках из ванной, сушил ей, как маленькой, голову феном и никогда не замечал огромные чебурашкины уши. Или замечал, но прощал их, скользя взглядом по ладной Светкиной фигурке. А сейчас они так возмутительно высунулись, так не вовремя подвернулись ему, что он почувствовал, как жестоко не прощает им их величину, пухлость, цвет и грубую форму. Он даже возмущен их присутствием в своей ванной. Ну такие уши!
— Господи, — прошептал Вадим озадаченно и, задернув штору, шутливо прикрыл клеенкой Светкино голое тело вместе с головой и ушами.
— Фу! Фу! — возмущенно защебетала Светка, выкручиваясь от липнущих к спине и бедрам розовых дельфинчиков, ромашек и звездочек шторки, темнеющих и оживающих от прикосновений к мокрой коже. — Что за дурацкие шутки! Забери меня отсюда!
Вадим машинально взял полотенце и развернул его широко, приглашая привычным жестом Светку на руки. Жест был отработан, как сцена в спектакле, идущем лет двадцать подряд и надоевшем и актерам, и пустым креслам в зрительном зале. Светка зашвырнула штору за рейку и задержалась на минуту, давая Вадиму время полюбоваться собой. Вадим осмотрел ее, как осмотрел бы стоматолог манекен, и отметил новую интимную прическу. Все остальное было таким же, как в учебнике анатомии, знакомо, обычно, привычно. Все, кроме вот ушей…
Вадим торопливо завернул Светку в полотенце и понес в спальню. Светка шутливо отбрыкивалась, цепко хватаясь за его шею и мешала дышать. Вадим усадил ее в кресло, подал халат и сел напротив на кровать.
Светка счастливо смотрела на него. Глаза ее без косметики были теплыми, по-детски беззащитными. Она робко улыбнулась и сняла с головы влажное полотенце.
— Какие у тебя ушки, — улыбнулся Вадим.
Светка вздрогнула, лицо ее напряглось и она принялась сосредоточенно лохматить мокрые волосы над ушами. Тепло из глаз мигом улетучилось, и они стали колючими.
— А у нее какие? — деловито спросила она, вытирая волосы полотенцем.
— Маленькие, — брякнул честно Вадим.
— Совсем маленькие? Как у мышки? — уточнила Светка тем же тоном.
Вадим недовольно промолчал.
— Или как у морской свинки?
Она остервенело терла полотенцем голову, будто хотела стереть с головы все волосы, уши, а также черты лица.
— А сама она большая? — громко спросила она.
Вадим поднялся с кровати:
— Успокойся.
— Большая корова с ушками мышки? — орала Светка, нервно кривя рот, вокруг которого пролегли две тонкие складки, поделившие пополам ее отсутствующие щеки.
— Я чувствовала! Я давно чувствовала, что у тебя кто-то есть!
Вадим вяло побрел на кухню.
— Ты проговорился! Ты изменяешь мне!
— Свет! — строго сказал он, — Прекрати сцены!
— Я приготовила ужин, я все убрала, жду его, но у меня оказывается большие уши! Раньше это были нормальные уши, а теперь выросли! — возмущалась она, потерянно сидя в кресле.
— А потом он будет недоволен тем, что у меня только два глаза, а у нее три! Кто эта трехглазая? Где ты ее взял?
--- Нигде…
— Где?! Где у нее этот глаз?
Светка вскочила, на ходу накинула халат и побежала на кухню.
Вадим сидел за столом и с отсутствующим видом жевал магазинный салат.
— Ты его видел?
— Кого?
— Глаз!
— Нет.
— Понятно, — успокоилась Светка и опустилась на стул. — Значит она все-таки есть.
Вадим молча сосредоточенно ел.
— Я никогда не была у тебя одна, — сказала Светка, и глаза ее налились слезами. — Ты сволочь.
— Да, — кивнул Вадим, — И устал тебе это доказывать.
— Он даже не оправдывается! Даже не спорит!
Вадим кивнул.
— Раньше хоть спорил… — пожаловалась Светка кому-то.
Вадим кивнул.
— Тогда сказал бы раз и навсегда, что все между нами кончено, — воскликнула Светка.
— Я говорил тебе, что мы разные…
— Вадик, люди не бывают одинаковыми. Мужчина — это одно, женщина — это другое. Мы с тобой уже столько лет вместе! Мы уже все построили. Осталось родить детей.
Вадим напрягся и перестал жевать.
— Я не хочу детей, — жестко ответил он.
— Ты не хочешь детей от меня. А так ты их хочешь, — устало сказала Светка, поднялась со стула и пошла в спальню.
Вадим сложил грязную посуду в раковину и направился в ванну. Он прислушался к звукам в спальне. Светка нервно швыряла какие-то вещи и по быстрым ее шажкам было понятно, что она собирается домой. Вадим равнодушно представил, что сейчас громко хлопнет входная дверь, и включил душ.
Ледяные струйки полились по разгоряченной груди и спине. Кожа покрылась жесткими, воинствующими мурашками. Вадим поежился, резко выдохнул, но воду переключать не стал. Он подставил под ледяной душ голову, надеясь, что холод приведет в порядок все его чувства, но низкая температура воды не взбодрила, как обычно, а наоборот, обратила в хаос все его мысли. Он долго тер тело жесткой мочалкой, пока не вспомнил, что забыл ее намылить, и когда совсем посинел от холода, выскочил из ванной, чтобы нырнуть с размаха в теплую постель.
В спальне была полутьма. Ночник уютно горел. Светка мирно читала в постели журнал мод, распустив высохшие блестящие волосы по подушке и обнажив стройные, гладкие плечики и часть груди.
—?!
— Я хочу вот такое платье. Купишь мне на восьмое марта? —спросила Светка.
Она осторожно развернула глянцевую страницу и, приподнявшись, пододвинулась к нему поближе, освобождая от теплого одеяла почти все голое тело.
Вадим задумчиво скользнул взглядом по знакомым плавным линиям ее спины, бедер и тяжело вздохнул.
— Не купишь, что ли? Денег нет? — ответила на его тяжелый вздох Светка. — Ну тогда колье. Вот видишь, какое? Супер, да?
— Супер, — кивнул Вадим и залез под одеяло.
— Я замерз, — пожаловался он.
— Ты что, под холодной водой час стоял?
— Угу, — буркнул Вадим, сдерживая дрожь и кутаясь в одеяло.
— Так я тебя сейчас согрею, — прошептала Светка. — Сейчас я согрею моего птенчика, замерз мой маленький мальчик, — приговаривала она, перелезая через него, чтобы выключить ночник. Потом она юркнула к нему под одеяло, прильнув всем горячим, гладким телом, и Вадим, впитывая, как губка, ее тепло, покаянно подумал, что все-таки ему с ней хорошо и уютно. Он гладил ее узкую, крепкую спину, перебирал в руках шелковистые волосы и целовал лицо, медленно приближаясь к спрятанному в темном шелке ушку. Он трогал губами мягкую мочку и таял от ее нежности. Ему вдруг показалось, что он наткнулся на маленькую золотую сережку с круглой, белой жемчужинкой. Он целовал эту жемчужинку, хотя Светка никогда сережки не носила. Но жемчужинка была! Ему даже показалось, что она, скользнув по языку и остро щелкнула. От этого звука, будто выстрел прогремевшего в его мозгу, он стал пробуждаться, как долго дремавший вулкан с таинственной, спрятанной в самой глубине, силой. Он даже забыл в этот миг, что Светка не носит даже клипсы, а золотую сережку с матовой белой жемчужинкой он видел где-то раньше, там, на фоне черной доски с разлинованной таблицей. Поворот головы, улыбка, сияющий взгляд, волосы, оголенная шея, укрытые тонкой, обтягивающей кофточкой плечи…
Глава 9
— Лидия, ты хотя бы не храпела, — выговаривал наигранно — строго Миша, помешивая ложечкой растаявшее мороженое.
Заспанная Лида сосредоточенно пила кофе, изредка виновато поглядывая на него.
— Ты хоть бы толкнул меня, — укоризненно сказала она.
— Я толкал. Да что толку?
Они сидели в театральном буфете, скромно пристроившись в самом углу за круглым, пластмассовым столиком.
— Не высыпаюсь, — оправдывалась Лида.
— Больше надо спать, будешь высыпаться, — посоветовал Миша, пряча под усами улыбку.
— Нечего было идти на этот спектакль. Тоска какая-то, а не пьеса.
— Ты хоть поняла, что к чему?
— Там и понимать нечего. Из пустого в порожнее воду переливают, все заумно-переумно, ничего не разобрать.
— Да что ты?!
— Ну. Еще хотят, чтобы зрители не спали.
— Лид! — не выдержал Миша. — Мы в каком театре-то находимся?
— В каком? — спросила Лида и незаметно зевнула.
— Мы в театре комедии! Весь зал хохочет, а я вынужден терпеть, потому что ты на моем плече лежишь, а мне не пошевелиться.
— Там ничего смешного не было. Жалко тебе своего плеча, что ли?
— Так ведь храпишь!
— Не ври! Я не храплю никогда.
— А сегодня храпела. Ты всегда в театре храпишь. Я больше с тобой никуда не пойду, — обиженно сказал Миша.
— Ну ладно, пойдем, уже третий звонок.
Лида допила кофе и устало поднялась.
— Пойдем, зануда! Все ему не так и не этак.
Она развернулась и направилась к выходу, плавно огибая легковесные, белые стульчики и зная, что Миша всепрощающе улыбается, готовый снова подставить ей вместо подушки свое надежное плечо.
К середине последнего акта она снова придремала и проснулась от громких аплодисментов и бряканья сидений.
— Ну и показали! За что только деньги берут? — возмущалась она по пути в гардероб.
Миша уже не подтрунивал над ней, он молча подал пальто и заботливо поправил воротник.
— Пешком пойдем? — спросил он.
— Куда?
— Ко мне.
— А что мы там опять забыли?
— Картошку жарить будем.
— Ночь уже, какая может быть картошка? Мне домой надо.
— Я есть хочу, — выдвинул Миша последний мужской аргумент.
— Ты съел мороженое.
— Ну тогда поедем на такси, раз не хочешь пешком. Какая лень, Лидия, два квартала не пройти!
— Мне в метро надо! — воскликнула Лида уже без игры в голосе и направилась к выходу.
На вечернем Невском проспекте было шумно, как днем. Миша незаметно поднял руку и тут же поймал машину.
— Садись! — скомандовал он и властно усадил Лиду на переднее сиденье, хлопнул дверцей, не обращая внимания на ее возмущение, и сел позади.
— Мне до метро! — уверенно сказала Лида.
— До светофора, направо и во двор, — ответил Миша.
— Уже поздно! Мне до метро или до Фрунзенской. Пересечение с Обводным. У моста.
— Да-да, можно и так проехать, вы правильно повернули. Теперь во двор.
— Давайте здесь, — предложил водитель.
— Да, можно и между этими домами, — согласился Миша.
— Я не поняла? Меня в машине нет? Это что такое, Миш? Я серьезно! - воскликнула Лида.
Возле подъезда, расплатившись с водителем, Миша подал ей руку, но она вышла из машины самостоятельно.
— Будешь ловить вторую, — прошипела она сердито и направилась к подъезду.
— Сначала нажарь мне картошки. Я есть хочу. Я голодный.
— Сам жарь, — бросила она через плечо.
— Хоть почисти тогда, — попросил Миша, легонько подталкивая ее в спину.
— Еще пихается тут! — огрызнулась Лида. — Ничего за так не делает. Свел в театр, а теперь я ему должна картошку чистить, а дома все голодные сидят, ждут меня, — приговаривала Лида, поднимаясь по ступенькам и зная, что сейчас будет восседать, как королева с ногами на диване, а Миша все будет делать сам, рассказывая ей со счастливым лицом всякие были и небылицы.
Миша был закоренелым холостяком. Он уже прошел «точку возврата» и уже не собирался жениться, хотя всегда думал об этом. Лиде было с ним просто, тепло и уютно. Она не нервничала, не волновалась, не напрягалась, не сердилась. Ей было хорошо, спокойно, надежно и всегда — временно. Так было лучше. Замуж он ее не звал, потому что знал, что не пойдет, а она знала, что он ее замуж не позовет, потому что у нее сложное семейство, и потому никто никуда не спешил.
— Позвони Зое, скажи, что я попозже приду, — попросила Лида.
— А сама? Боишься?
— Боюсь, — созналась Лида.
— Распустила ты ее, не воспитываешь.
— Уже она меня воспитывает, как видишь. Шаг в сторону — расстрел.
— Нельзя же только работать. Должна же быть и личная жизнь у человека!
— Она поймет это лет через десять.
— Десять лет — это долго. Надо объяснить сейчас.
— Бесполезно. И я ее понимаю. Свои уроки надо сделать, Ванька на ней, деда покормить, продукты принести.
— Есть выход.
— Какой?
— Взять еще одного работника.
— Нанять, что ли? Дорого.
— Да нет, взять бесплатного. У меня кандидатура даже имеется.
— Жарь картошку, кандидат, — улыбнулась Лида, — Я сама позвоню.
Зойкино «алло» было возмущенно-громким, и Лида замерла на полуслове, словно пойманная врасплох. Было понятно, что Зойка ждет ее звонка.
— Будьте добры Бушуеву. Лидию Павловну, — сказала Лида грубым, чужим голосом.
— Ее нет дома, — гаркнула Зойка, хотя была научена с детства разговаривать вежливо.
— А когда она будет, не скажете? — спросила Лида официально, и Миша прыснул.
— Позвоните утром. Она приедет поздно, — сказала Зойка поспокойнее.
— А вы, наверное, ее дочка?
— Да, — Зойкин голос стал почти мягким.
— Это Зоя?
— Да.
Зойка насторожилась, все нотки в ее голосе стали исключительно корректными:
— Извините, а кто ее спрашивает?
— Ничего, ничего, я перезвоню. Это так… — замялась Лида.
— Может быть, что-то передать?
Зойка была уже приветлива и доброжелательна.
— Скажите, что звонила Лидия Павловна и передавала всем привет, особенно Зое.
— Какая Лидия Павловна? — уточнила Зойка.
— Да мама твоя родная, — незнакомым голосом мягко ответила Лида.
Трубка долго молчала, потом она сердито задышала и, наконец, гаркнула возмущенно:
— Мам!!!
— На теперь ты! — прошептала Лида и сунула трубку Мише.
— Трусиха, — тихо сказал Миша и взял трубку.
— Зоя, здравствуй. Да, это я. Да это мама твоя балуется. Ага! Ну, она же пошутила, Зоинька, мы же в театре были, и она вообразила, что тоже актриса. Да… Зой, ты там справишься с хозяйством? Уже справилась? Вот и молодец. А как ты смотришь на новый сотовый телефон к 8 Марта? Почему не надо? С фотоаппаратом и кинокамерой. А по-моему хороший подарок. Нет? У тебя есть? А…Слушай, у меня тут картошка горит, я перезвоню через десять минут. А мама? Мама чистит другую картошку, у нее руки грязные, она телефон запачкает. Да, другую будем жарить теперь. Эта сгорела вся. Ага, дотла. Хорошо, перезвоним, когда пожарим. Ага, не торопимся…
Миша осторожно, как мину, положил трубку на аппарат и вытер пот с разгоряченного лба.
— Хуже судьи с прокурором вместе взятых…
— А я тебе что говорю!
— Ты как-то неправильно ее воспитываешь. Что это она так со мной разговаривает? Я старше… С каким-то все вывертом, с подколом. Она еще почище тебя будет!
— Сейчас она старше нас, потому что мы ведем себя, как дети. Захочет накажет, захочет простит.
— Через десять минут еще раз перезвоню. Засеки время.
— Ладно, — кивнула Лида.
— Я уже картошки не хочу.
— А я говорила тебе, что вторую машину будешь ловить.
Миша присел возле Лиды на диван и положил руки на колени. Так они сидели десять минут рядышком, словно продолжали смотреть спектакль из зрительного зала.
Телефон зазвонил резко и требовательно сам. Оба вздрогнули и Миша нервно схватил трубку. Трубка что-то долго бубнила, Миша не успел сказать ни слова, как на другом конце попрощались.
— Ну? — прошептала Лида.
— Телефон подойдет, но лучше из комиссионки, потому что там в два раза дешевле.
— Так, — приободрилась Лида.
— А на эту разницу — Ваньке плеер. И тоже можно из комиссионки.
— Да, Ваньке, точно… — кивнула Лида.
— А деду бритву новую. Но только не из комиссионки. Потому что старая засасывает щеки, и уже остался один нос…
— Это ты сам придумал?
--- Ну зачем же? – развел руками Миша.
— Они это вместе обсудили?
— Думаю, что она одна — покачал головой Миша.
— Я ее неправильно воспитываю, точно…
Миша счастливо, облегченно вздохнул, обнял ее за плечи и прижал к себе.
— Пойдем есть картошку.
— Жарить — напомнила Лида, расстроено уткнувшись в раскрытый ворот его рубашки.
— Какая разница, — прошептал он тихо. — Тем более, что мне вторую неделю картошку не купить. Забываю…
Глава 10
Деду снились города и люди. Лиц людей он не видел, только чувствовал рядом сглаженные временем темные, прокопченные пятна в грубом обрамлении железных касок. Круглые каски, как половинки планет, кружились, мельтешили хаотично вокруг него, и он никак не мог разобрать, которая своя, а которая — чужая. Города он тоже не видел. Осколки камней, груды кирпича, остовы зданий с мертвыми глазницами окон в душном, пыльном тумане дрожали нервной дрожью и двигались словно живые, словно могли дышать, то разрастаясь на весь горизонт, то сжимаясь почти до полного исчезновения. И тогда деду казалось, что это он высоко поднимается над развалинами городов, и потому они становятся такими маленькими.
Все вокруг грохотало, звенело и рычало железом и свинцом, поглощая мужицкую ругань и слабые стоны раненых. И где-то за спиной нарастал, приближаясь, монотонный, вкрадчивый рокот. Дед понимал, что это танк, но никак не мог его увидеть. Вокруг кружились каски, и как бы он ни повернулся, танк всегда оказывался позади. А он уже начинал задыхаться, чувствуя, как тяжелая, липкая земля засыпает ему лицо, лезет в кричащий рот и затыкает уши, превращая грохот в вязкую, бесконечную тишину. Грудь начинают сдавливать тяжелые гусеницы, и он изо всей силы упирается в них руками, понимая, что не сможет удержать ускользающую из-под пальцев бесконечную ленту ледяного металла, которая затягивает в себя потихоньку ногти, пальцы и обе его руки. Дед кричит, но не слышит своего голоса, крик растворяется, тонет в земле, и, сознавая, что ему уже больше никто никогда не поможет, он отпускает гусеницы и закрывает окровавленными руками лицо.
«Тихо, тихо!»— слышит он над собой, но разум угасает и не может распознать, чей это голос. Через несколько минут он вдруг видит перед собой грузина Серго, откопавшего его из-под земли после страшного боя под Сталинградом.
«Дед, дед!»— позвал Серго Лидиным голосом и сон сразу исчез.
Лида испуганно тормошила деда за плечо, положив руку ему под голову.
— Проснись!
Дед, тяжело дыша, приподнялся на локте.
— Танки? — спросила Лида.
Дед протяжно, со стоном вздохнул и стал подниматься с кровати.
— Я пойду на кухню…
— Ты повернись на правый бок. Не надо спать на спине, — посоветовала Лида.
— Пойду на кухню, — не согласился дед, — А ты ложись, спи.
Лида послушно легла на свой диван. Она чувствовала себя защищенной и маленькой рядом с родным стариком, даже когда ему снились страшные сны, но беспокоилась за него.
Деду было почти девяносто. За всю войну он не получил ни одного ранения, ни одной царапины, а вот на старости лет сломал ногу и та неправильно срослась.
Стараясь не греметь, дед взял костыли и побрел на кухню, подальше от спящей, усталой внучки, чтобы скоротать в одиночестве долгую ночь, оберегая свое спящее семейство.
На кухне он разложил на столе бумаги и письма и принялся старательно их переписывать, заботясь о том, чтобы каждое слово было прочитано и понято в высоких инстанциях.
«Дорогой товарищ Путин!»— написал он и долго, пристально разглядывал слово «товарищ». Потом громко, досадливо крякнул, перечеркнул слово жирной, корявой линией и дрожащей рукой поверх линии нацарапал «господин», после чего задумался и просидел над этим словом остаток ночи, не решаясь писать дальше. Обращаться к господину с такой просьбой, которую он хотел написать товарищу, было как-то неумно.
Под утро дед взял другой листок бумаги и торжественно вывел: «Уважаемая Валентина Ивановна Матвиенко!» Добавлять ничего не стал насчет госпожи и принялся старательно и долго выводить буквы. Он писал упорно и терпеливо, будто пахал нескончаемую полосу, пока на кухню не пришел заспанный Ванька.
— Чего не спишь? Танки приезжали? — поинтересовался Ванька, наливая в чашку воду из-под крана и жадно ее глотая.
— Я тебе раз рассказал, а ты теперь век будешь подкалывать, — обиделся дед.
— А что я сказал? — растерялся Ванька.
— Ветер сегодня. А в ветер я не сплю.
— А, — кивнул Ванька, — ну, днем тогда отоспишься.
— Некогда мне днем спать. Я делом принялся заниматься. Марина меня научила, дай Бог ей здоровья. Пишу письма в руководство, дай Бог им здоровья.
— Это верно, — согласился Ванька непонятно с чем. — Только не дадут тебе ничего.
— Я инвалид войны, Марина мне сказала, что дадут.
— Нет, дед, не надейся, — уныло, по-Лидиному, вздохнул Ванька.
— Кто во что верит, тот то и получает, а я верю, что дадут, — уперся дед и снова стал писать.
— Пиши, пиши, — разрешил Ванька. — Тут дело такое, что как повезет.
— То-то, — довольно крякнул дед, — а то не дадут, не дадут… Я вот распишусь, руку-то натренирую и буду книжки писать про войну. Оставлю тебе на память. Чтобы знал.
— Ты нам лучше квартиру на память оставь, — назидательно сказал Ванька, запихивая в рот зубную щетку, — И машину. И желательно не «Оку», а «Мерседес»
Дед окаменел. Он медленно развернулся, уставился красными, немигающими глазами в Ванькины худые лопатки и сурово задышал.
— Ты это что, стервец, мне сказал сейчас? — грозно пробасил дед, шаря рукой в поисках костыля. Ванька оторопело зажав зубами щетку оглянулся и резко отскочил от раковины к двери.
— Ты это что мне сейчас сказал? — повысил голос дед, зло раздувая ноздри.
— Про квартиру сказал, — удивленно прошепелявил Ванька, не вынимая щетки изо рта и утирая текущую по подбородку слюну и зубную пасту. — И про машину… Что я не так сказал?
Ванькины белесые брови поднялись над круглыми, искренне удивленными глазами до самого вихра, наморщив до предела выпуклый, высокий лоб.
Дед растерянно посмотрел по сторонам, будто где-то на стенах был написан нужный ответ.
— Значит, тебе книжка не нужна? Значит, про войну писать не надо?
— Так ты мне уже все рассказал. Остальное мы в школе пройдем. Чего тебе мучиться? Руки-то болят, сам говорил.
— Значит, про все мои бои не надо? И за Сталинград, и за Будапешт, и за Берлин? Послушал и ладно? А дети твои? Кто им про войну расскажет?
Голос деда дрогнул, он отвернулся к стене и замолчал.
— Ну, если хочешь, то пиши, — робко предложил Ванька. — Я тебе и ручек принесу, и тетрадок старых. Там листов чистых много осталось, пиши… Что я такого сказал-то…
Ванька опасливо косясь на деда, вымыл щетку и поставил ее в стакан.
— Может, ты и правильное задумал, — добавил он, — чего зазря-то бумагу переводить разными письмами. Все равно ничего не дадут. А книжка — она останется, ее потом продавать можно будет. Ты пиши, дед, Зойка перепечатает, ей все равно делать нечего. А мы продавать будем.
Дед безнадежно покивал головой в ответ на его слова, мол, тут уже не перевоспитаешь, не прошибешь эту породистую мужицкую изворотливость. Когда все разошлись из дома, дед позвонил Яне Васильевне.
— Васильна, приходи на чай с домашними пирожками. Как откуда? Лида с Зоей напекли. Или Марина принесла. А может, Ванька в школе купил. Короче, жду.
— Только, Георгий Ефимович! Не говорить о плохом! О крематориях и тому подобное. Только о хорошем будем говорить.
— Согласен, — мрачно отрезал дед, будто собирался на самом деле посудачить о кикиморах и леших, но на этот раз не удалось, и он торжественно опустил трубку.
Яна Васильевна примчалась на удивление быстро, словно боялась, что ее могут не дождаться, передумать и отменить встречу.
Она принесла с собой фарфоровую вазочку с конфетами-карамельками и принялась ворковать о них еще в прихожей, кружась вокруг растерявшегося Георгия Ефимовича и цепляясь хваткими концами своей шали за его костыли.
— Шоковадные мы быство съедим, а этих хватит на довгий-довгий вазговов, — припевала Яна Васильевна, контролируя, хорошо ли он закрыл входную дверь. — Чай у вас зеленый? Я пью последнее время только зеленый. И отлично себя чувствую!
— Ладно, ладно, иди! — добродушно скомандовал Георгий Ефимович, тряся костылем и освобождая его от приставшей шали.
Яна Васильевна с места тронулась в галоп, и старый паркет даже не успел опомниться и сыграть под ее туфельками какую-нибудь мелодию, как она уже вспорхнула на кухню.
— Как молодка бегаешь, Васильевна, — похвалил ее Георгий Ефимович, старательно бодрясь и быстро передвигая костыли. Паркет испуганно и удивленно заохал и закрехал под ним, опасаясь за деда, сомневаясь в разумности и благополучном исходе этой спешки.
— И не скажешь, что пенсионерка, — продолжал рассыпать комплименты Георгий Ефимович, устраиваясь на кухне в кресле.
— Да вы что, я не помню, когда я на пенсию вышла, уже сто лет назад, — кокетливо отмахивалась Яна Васильевна, расставляя на столе чашки.
— А ты не рассказывай никому, никто и не догадается, — посоветовал ей Георгий Ефимович.
— Прям так и не догадается, ну вы скажете тоже… — застеснялась Яна Васильевна, поправляя довоенную газовую косыночку на белоснежных кудряшках. — Я уж тут похозяйничаю с вашего позволения?
— Давай, давай, — разрешил по-отечески Георгий Ефимович, — Я уж проголодался, заждался тебя.
— Как это заждался? Я же сразу прибежала? — удивленно приподняла подкрашенные бровки Яна Васильевна.
— Долго не было, — сурово сказал дед и постучал пальцами по столу.
— Как это так? — виновато переспросила Яна Васильевна, — Минуты три, не больше.
— За три минуты можно дом взорвать, квартиру ограбить, человека убить, — поучительно начал Георгий Ефимович.
Яна Васильевна всплеснула в ужасе руками и прижала пухлую ладошку ко лбу.
— Нет, я не выдержу эту беседу. Он опять говорит о дурном! — театрально воскликнула она и тут же, спохватившись, принялась разрезать яблочный пирог.
— Женщин надо в строгости держать, как солдат, — объяснил свои слова Георгий Ефимович. — Иначе, если женщина распустится, то она сама себе не рада — разленится, загрустит, неаккуратной станет.
— Мне это не грозит.
Яна Васильевна гордо поджала губки и стала разливать чай.
— Вот, пожалуйста, пейте. Тем более, что я вам совсем посторонний человек.
— Совсем, да не совсем, — не согласился Георгий Ефимович. — Ты мне любимая соседка, а значит, уже своя.
— Может быть, конечно, и так, возможно, что и так… — засмущалась Яна Васильевна, — И даже, может быть, что я как-то навязалась вам сама…
— Ну что ты, что ты, — добродушно успокоил ее Георгий Ефимович.
— Нет, я, конечно, навязалась, если честно сказать. Но я от чистого сердца. Без всякой дурной мысли, поверьте.
— Да чего ты оправдываешься, Васильевна? В одном доме живем, считай, что в одной деревне, или в одном полку служим. Свои есть свои.
— Ну, хорошо, — согласилась Яна Васильевна и, облегченно вздохнув, развернула конфетку.
— Так вот что я хотел тебя попросить, Васильевна, — серьезно начал Георгий Ефимович и Яна Васильевна насторожилась.
— Век наш короткий, а я уже чужую жизнь живу, за всю роту свою пашу, что они не прожили, все мне досталось, все на мою голову легло. Уж и не знаю, кому лучше.
— Геовгий Ефимович! — строго, как учительница прервала его Яна Васильевна, — Мы с вами договорились говорить о хорошем. Если вы начнете говорить о поховонах, я встану и уйду!
— Так я о хорошем, — убедительно протянул Георгий Ефимович, — Это просто вступление такое. Я ж хотел вам вот что сказать, Яна Васильевна! У меня личная просьба к вам.
— Что? — переспросила Яна Васильевна и вся напряглась.
— Вы одна. У вас никого нет, ни мужа, ни детей, ни родственников.
— Это ничего не меняет, — начала оборону Яна Васильевна, не ведая ни сил, ни направления атаки противника.
— Вы, может быть, потому меня и не поймете…
— А почему теперь на «вы», почему так официально? — разволновалась Яна Васильевна.
— А у меня семья, — печально вздохнул Георгий Ефимович и откинулся в кресле.
— И что?
— Ты же видишь, Васильевна, какое разведено семейство? И все непутевые, — доверительно пожаловался он.
— Не согвасна, — возмущенно закрутила головой Яна Васильевна. — Семья ваша мне нравится.
— Да семья-то хорошая, но все неустроенные какие-то. У кого мужа нет, у кого жены, у кого отца, у кого матери. Один я имею все, что положено: детей, внуков и правнуков. Устроен, как сыр в масле под старости лет.
— Ну уж, как сыр…
— А ты думала! Ванна, туалет теплый, печку топить не надо, батареи парют, как в бане. Даже грелку наливать не надо. Сунул ноги к батарее и сиди, как кот на припеке. И неловко мне даже оттого. Все кругом мучаются, один я радуюсь. Живу, Васильевна, и радуюсь, хоть два века так живи. Книжки читаю, провожаю и жду. Неловко даже как-то.
— Вот и свавненько! Вот и радуйтесь! А мне одной тоже непвохо, я уже пвивыква. У меня есть кошка, радио, телевизор, книги. Я не одна.
— Это все хорошо, но когда ты помрешь, то радио твое не испортится, телевизор не сгорит, книжки не загорюют…
— Зачем вы так зло? — обиделась Яна Васильевна и отвернулась от него.
— Да я не хотел обидеть. Я ж к тому разговор веду, что моя седая голова по Лидии болит. Жалко мне ее. А я ведь могу помочь. Только мне одному не справиться, вот и позвал тебя.
— Я готова помогать! — отважно согласилась Яна Васильевна, еще не зная, о чем пойдет речь. — Я к Идочке очень хорошо отношусь. Она трудяга и очень умная женщина.
— Васильевна, я тут письма написал. Лиде некогда со мной путаться, а ты проверь. Если что не так, то перепишешь.
— С удовольствием! — воскликнула Яна Васильевна радостно и захлопотала на кухне.
— А потом на почту сбегай, отправь письма.
— Хорошо! — согласилась Яна Васильевна
— А потом еще напишем с тобой про льготы. Тебе ведь тоже за телефон и за свет льготы отменили?
— Да, отменили. Такое бессовестное правительство! — возмутилась Яна Васильевна.
— Так вот что я хочу у тебя попросить, — таинственно прошептал Георгий Ефимович и придвинулся к Яне Васильевне. — Я хочу посетить губернатора. Нанести ей, так сказать, недружеский визит.
— Ну зачем же недружеский, — осуждающе сказала Яна Васильевна. — Надо все делать дипломатично, корректно…
— Не переживай, я если не дружу, то корректно! Ты можешь мне помочь в организации этой операции?
— В смысле, какой операции? Дружеского визита?
— Ну, коли хочешь так, то так.
— Не знаю, — засомневалась Яна Васильевна.
Дед заволновался.
— Понимаешь, Васильевна, Лида меня не выпустит одного, а со мной не поедет. Мы с ней по-разному мыслим. Она считает, что все бесполезно и уже даже детей научила этому безверию. А я доверяю власти. Просто до начальства письма не доходят, вот и не решают они наших проблем. Сидят канцелярские крысы и штампуют ответы: «Отказать!» А я ордена и медали надену, все документы возьму и пойдем с тобой лично. Поможешь?
— Да как не помочь?
— На такси поедем с тобой, как господа. У меня деньги есть. А за костыли мои не переживай. Я уже и веревочку приготовил, и ремешок. Я на переднее сиденье сяду, а ты на заднее с моими костылями. Только Лида мне всегда «Волгу» заказывает, в маленькую машину мне не влезть.
— Надо сначала записаться на прием, — засуетилась Яна Васильевна
— Вот! Вот! — ободрил ее Георгий Ефимович, — Ты ж у меня умница! Ты ж хваткая женщина, все знаешь. Запишешь, куда следует, и будешь готовиться к походу. Только никому не рассказывай!
— Так что вы хотите просить у Матвиенко? Квартиру?
— Конечно. А ты как думала? Соседи наши приедут и кончится моя сладкая котова жизнь. Скоро целое полчище татар нагрянет. А Лиде каково будет? Ни постирать, ни приготовить. Она и так еле терпит, с такой-то работой…
— Да, ей нелегко, — грустно согласилась Яна Васильевна.
— Так поможешь мне?
— Помогу, — отважно кивнула Яна Васильевна.
— А если ругать тебя будут вместе со мной?
— Не будут, если не упадем где-нибудь вместе в высоких коридорах. Вот будет позор! Не завалитесь? А то мне не поднять…
— Васильевна, ты меня обижаешь. Ты не гляди, что я на костылях. Я еще хоть куда! Я ж — герой! Сталинград — мой, Варшава — моя, Будапешт — мой, Берлин — мой…
— Да, Георгий Ефимович, только Петербург не твой… И Россию всю… — она печально вздохнула.
— Россию, да… Хитро взяли. Без боя сдал я ее. Думал, что кроме честного боя до смерти — никакого другого не бывает. А вон оно как. Бывает! Но ничего. Буду возвращать. Они хитрые, а мы хитрее. У самого-то сил нет воевать, но я других настрою.
— Кого же это? — засомневалась Яна Васильевна.
— А вон, Ваньку настрою. Погоди, Васильевна, время покажет, кто кого.
— Да что ребенок сможет? Куда ж вы его под танки?
— Все сможет. Должен смочь!
Дед нахмурил брови, долго сосредоточенно мигал, а потом неожиданно громко грохнул кулаком по столу. Чашки и ложки подпрыгнули, Яна Васильевна в ужасе вскочила с табуретки и встала по стойке «Смирно!»
— Я пошла звонить в приемную губернатора, — пролепетала она, перебирая в пальцах кромку рюшечки от кофты.
— Вперед! — кивнул дед сурово.
Глава 11
В сквере напротив Витебского вокзала плавали, как остаточные сгустки ночных теней, сонные утренние бомжи. Они рылись в мусорных ящиках, собирали пустые бутылки и банки из-под пива. Один бомж с лохматой, седой бородой и в черной спортивной шапочке, держась за спинку скамейки, старательно топал ногой, пытаясь попасть в железную баночку и смять ее. Рядом, растопырив ручки, стояла пузатая брезентовая сумка, наполненная сплющенными банками, а на лавке лежала груда круглых разноцветных баночек. Бомж топал ногой, но сплющить банку никак не мог, попадая то пяткой, то носком на круглый ее бок. Удар должен был попасть точно на середину, но бока банки выскальзывали из-под неуверенной ноги и банка летела в угол двора. Бомж терпеливо поднимал ее, подносил к прежнему месту, тяжело нагнувшись, устраивал ее в рытвинку в снегу, брался медленной рукой за спинку скамейки и, крепко держась, снова прицеливался. Банка, как живая, опять выскальзывала из-под пятки, и все повторялось сначала, будто пленку этого кино с бомжем кто-то крутил по кругу.
Тимоха не выдержал, встал со своей скамейки и подошел к бомжу.
— Давай помогу, — предложил он. — Мне все равно делать нечего.
Бомж, ничего не ответив, продолжал сосредоточенно работать.
— Слыш, мужик, помочь тебе? Или ты глухой?
Бомж поднял равнодушные глаза и пристально посмотрел на Тимоху. Потом он равнодушно кивнул на груду баночек. Тимоха взял одну и с размаху прижал ее к земле ногой. Банка щелкнула и сплющилась. Тимоха поднял ее, бросил в сумку и взялся за другую.
Бомж медленно подошел к сумке, выискал брошенную Тимохой банку, вытащил ее и положил на снег.
— Надо еще раз. Чтоб совсем плоская была — сказал он дребезжащим, неживым голосом и стукнул по банке ногой.
— Ты давай, бей их, а я буду добивать, — предложил он и выпрямившись, сурово посмотрел на Тимоху. Глаза его в густых зарослях лохматых волос были огромными, синими, яркими. Такого благостного, умиротворенного взгляда без суеты и печали Тимоха давно не встречал. Он завороженно уставился на бомжа, медленно изучая его чуть сдвинутый от перелома нос, ровную линию губ, едва приметную под неподстриженными усами, овал лица, потом он окинул взглядом всю фигуру, остановившись на тонких кистях с длинными, нервно подрагивающими пальцами и потерянно прошептал:
— Александр Сергеевич…
— Здравствуй, Тимофей. Я тебя сразу узнал. Ты все такой же, — сказал он, наклонившись к сумке с банками и обращаясь не к Тимофею, а к сплющенным банкам. — Уж и не чаял, что увидимся. Рад, рад, весьма рад нашей встрече.
— Александр Сергеевич… — промямлил Тимоха, пытаясь заглянуть в обращенное к земле лицо бомжа. — Что же с вами случилось?
— Ничего удивительного, Тимофей. Типичный случай, — сказал Александр Сергеевич. — И не самый худший.
— Вы бедствуете? — спросил Тимоха и растерянно присел на скамейку.
— Да нет, — пожал плечами бомж и тоже устало опустился рядом. — Это у меня теперь такое хобби. А основная работа продолжается. Я много пишу. Очень много.
— Стихи?
— И прозу тоже. Года, как говорится, к суровой прозе клонят. А у тебя что нового? Говорили, ты уехал в деревню хозяйствовать.
— Уехал. Приехал вот.
— Нахозяйствовался?
— Да.
— Пишешь?
— Бросил.
— Не надо бросать. Иначе какой во всем этом смысл?
Александр Сергеевич провел рукой по воздуху и будто перечеркнул Витебский вокзал и все ларьки под ним размашистым, плавным крестом.
— Кому дано, с того и спросится. Легко тем, кому не дано, с них меньше спросу.
— Что теперь с меня спрашивать, когда я исписался?
— Спросится все равно. Не отработаешь ты, будут отрабатывать твои дети или внуки. Все равно спросится. Ибо было дано!
Александр Сергеевич многозначительно поднял вверх указательный палец, давая знак Тимохе, откуда было все дано.
Тимоха поежился:
— Я сам это предполагаю, но не ведаю, о чем теперь писать. Апатия какая-то, идеи никакой, безысходность…
— О том и пиши.
— Кто ж это читать будет? Сейчас нужны обезболивающие таблетки на час-другой в виде любовных романов. Сейчас нельзя по живому стружку соскребать, и так больно, хоть кричи.
— А ты ласково состругивай, так, чтоб незаметно было, чтоб вроде бы мочалочка щекочет, аж смешно, а на самом деле так разотрешь, что алым пламенем потом душа горит. Кровь потому что к ней приливает, грязь отходит, работа начинается. Однако, заметь, никаких операций, никакого настырного хирургического вмешательства. Ты лечи.
— Писать весело об отсутствии смысла?
— Смысл отсутствовать не может. Это ты сам можешь временно отсутствовать во время своей жизни. Смысл — это Истина. Она вечна, но ты ее перестал понимать. Закрыл свой канал восприятия, или перегрузил его.
— Вот потому и не пишу, чтобы не завести читателя в тупик.
— Не переоценивай свою роль, Иван Сусанин. Читатель почти всегда умнее писателя. Писатель иногда и сам не понимает, о чем написал, идет надиктовка. У тебя такого не бывает?
— Раньше было. А теперь вымучиваю. Голова становится огромной, как земной шар, когда вымучиваешь.
— Читатель читает и строки, и между строк. А мы это пространство не чуем, нам не дано. И потому — то, что для тебя тупик, для него — выход.
— Я сам в тупике. Мне бы что-нибудь почитать, чтобы самому выбраться для начала.
— Это тоже не лишнее. Чужие муки принимая, как свои, ты перестанешь мучиться и мучить…
— Это чья строчка? — насторожился Тимоха.
— Теперь моя, — улыбнулся Александр Сергеевич. — Ты не словил, прозевал, вот она мне и попала сейчас.
— Хорошая строчка, — задумался Тимоха, — Чужие муки принимая, как свои, ты перестанешь мучиться и мучить… Главное, мучить… Сначала мучаешь, а потом принимаешь эти муки, как свои. Конечно, они свои…Сам мучаешь…
— Не пытайся читать между строк.
— Почему же? Я сейчас читатель, а не поэт.
— Потому что негде читать. Второй строки еще нет.
— Ну ищите, ловите, Александр Сергеевич. Я теперь стихов не могу писать, грязный стал душой, пил много. Проза — она добрее поэзии, хотя коварнее. Вот ведет она тебя, ведет, и все разрешает, и все прощает, а потом — раз! А ты, оказывается, зря шел. И надобно брести назад. И доброте ее уже не рад.
— Так требуй же по строгости закона! — восхищенно продолжил Александр Сергеевич. — А говоришь, стихи не пишешь. Ты просто вслух их не говоришь. Говоришь все не то и не с теми. А в тупике тоже порой неплохо посидеть, подумать.
— Долго не насидишься. Начнешь головой об стенку биться. Вот я теперь бьюсь, и вчера бился, и завтра буду. Уже весь лоб пробил, мозги отшиб, вернуться вот опять решил… — сказал Тимоха и насторожился перед случайной рифмой.
— Так требуй же по строгости закона! — радостно воскликнул Александр Сергеевич, — Лоб твой на месте, Тимофей, мне лучше видно. Расшибаются не мозги, а кирпичи. Побейся еще, может быть окошко протаранишь, а там и свет увидишь. Туда и полезешь, на свет.
— Вы-то его увидели, этот свет? — спросил Тимоха, косясь на заношенные, рваные ботинки Александра Сергеевича, на бывшее когда-то черным серое драповое пальто, изъеденное молью, на затасканную желто-зеленую брезентовую сумку.
— А как же. Этот свет и ты заметишь вольно иль невольно. А про другой давай не будем рассуждать. На этом свете мы такие же растения, как и прочие. Без света поблекнем, ослабнем и от собственной тяжести загнемся. Приходи сегодня вечером в Союз писателей. Может, среди тьмы и сверкнет лучик. А то ты совсем как-то под собственным весом к земле склонился.
— Во тьме, говорите? — ухмыльнулся Тимоха, — Я от этой тьмы ушел, чтобы возвратиться снова?
— Чем ночь черней, тем звезды ярче. На сером фоне ничего не различишь.
— Луну увидишь…
— Разве что луну. Она одна, глупа и постоянна…
— Зачем нам много лун? Достаточно одной…
— Должно быть много ярких звезд! Так нужно.
— Зачем?
— Не нашего ума деяния Вселенной.
— Ужель Вселенная сама заботы ведает про город этот тленный?
— Коснулся тлен сознанья твоего, ты истины теперь не примечаешь.
Тимоха оторопело откинулся на спинку скамьи, потом резко поднялся:
— Экая оказия… Не Шекспир ли мимо пролетал?
— Когда? — деловито переспросил Александр Сергеевич.
— Нынче… Давеча… Когда мы с вами говорили…
— Тут разные летают, всех не перечислишь. Ты, Тимош, не переживай. Ты лучше стихи говори, тогда они слетаться будут. Их тут, в городе, пруд пруди, только поймать за хвостик надо. Я тебе потом места для ловли покажу. Клев хор-р-рош!
— Нельзя так, Александр Сергеевич, о стихах! Это не рыба, это высшее существо, его не поймаешь силком, оно приходит в руки только тому, кого избрало хозяином. Иногда оно упадет в ладони все больное, покалеченное, израненное, будто продиралось к тебе сквозь колючую проволоку облаков, и ты его лечишь, пеленаешь, зашиваешь, бинтуешь…
— Ишь ты, — ухмыльнулся Александр Сергеевич, — а я, как рыбу ловлю. Клюнуло, — значит мое. Ты приходи, приходи сегодня. Поговорим. На Большой Конюшенной пара комнатушек вместо сгоревшего Дома писателей. Там вот и теснимся, держим в узде русскую литературу.
Тимоха зло хмыкнул, представив, как несколько тщедушных, измученных мужичков, обычно серых и средних, а с ними кучка стареющих, суетливых поэтических дам держит в узде всю русскую литературу. Эту не управляемую никем и властвующую над всем миром, непобедимую, неодолимую силу - русскую литературу! - они держат в узде.
— Да… — покачал строго головой Тимоха. — Надобно к вам зайти…
— Вернее, мы ее спасаем, — поправился Александр Сергеевич, поняв, что переборщил. — Спасаем от смерти. Она ведь уже не та, обласканная властью сноровистая кобылица. Она уже старая, совсем издыхающая кляча.
— Сноровистой она никогда не была, — возразил Тимоха. — Та покладистая, избалованная, услужливая попрошайка, которая идеологию на спине катала за мешок овса – это Александр Сергеевич, не русская литература!
— Тимофей! — Александр Сергеевич осуждающе глянул на него огромными, пронзительными глазами. — В путаете русскую литературу с советской. И совершенно напрасно это делаете! Это два разных организма! Русская литература — это алмазная щетка, а советская — это шлак, прилипший к алмазам. Хотя и в ней было и есть несколько самородков, истинных национальных гениев. Коля Рубцов — это разве не русская литература? Коля гений…
— Коля — национальный поэт. Жил, как бездомная собака. Как мы…
— Живем, как живется. Мы с тобой, Тимоша — мостик с одного берега на другой. Придется терпеть любые башмаки и держаться до последнего. После нас не останутся квартиры, дачи, виллы и автомобили, хотя мы спокойно могли заработать это все, если бы пошли на сделку с совестью. Но всякая сделка рождает не только права, но и обязанности. Чем придется отвечать по договору с честью, с достоинством? Чем? Мы с тобой, Тимоша, знаем, чем, потому и не лезем к воробьям в кормушки. Пусть хватают, пусть чирикают. Не орлиное это дело — вместе с воробьями подачки клевать или подворовывать. После нас останутся книги, если мы их напишем. И волноваться ни о голоде, ни о холоде не надо. Все Господь подаст, как на ладошке, если не будешь лениться работать.
— Это важно для первых, для больших писателей и поэтов. А вторые, третьи, четвертые и серые — те могут писать, могут не писать, никто этого не заметит. Особенно сейчас, когда никому ничего, кроме денег, не нужно.
— Ты ряды не выстраивай и себя в графоманы не зачисляй. Это не твоя забота – ряды строить. Будет так, что последний станет первым, а первый окажется последним. Если можешь не писать — не пиши. Ели не можешь, то подумай хорошенько — стоит ли молчать? Тимоха резко сел на скамейку, узнав слова, которые сказал Власу.
— Это слишком ответственно и тяжело. Это страшно – быть первым.
— Тяжело бояться, а быть - легко. Можно этого даже не замечать. Вот, как Коля Рубцов. Он ведь не лез из последних, а был первым. Тихо, как тень, на задних рядах сидел, а когда читать начинал, то все остальные таяли, как прошлогодний снег. А ведь ты подавал большие надежды, Тимоша. Неужели ты можешь не писать?
— Могу. Когда пью. Но тогда мне плохо.
— Так и не мучай себя, пиши. — посоветовал Александр Сергеевич и поднялся со скамейки, — Пойду я сдавать банки. Всю ночь печатал, спать хочу, но вот заставил себя прогуляться. И город почистил, и денег заработал, и сюжетик в голове обкатал. Не все так плохо, как ты со стороны увидел. Раньше ты умело заглядывал в суть, а теперь не знаю, не разучился ли?
— Не разучился, Алексадр Сергеевич. Я по глазам вашим вижу, что духом вы сильны. Но что такой лохматый-то, неухоженный, Александр Сергеевич! Милиция же пристанет…
— И пристает, а как же. Но я писательский билет показываю, я его с собой ношу. Они очень удивляются, что есть еще такие люди.
--- Надобно постричься, - упрямо повторил Тимофей.
— Тимоша, мне пора. До обеда еще поработаю, а потом два часа посплю. Если хочешь, то сегодня в пять встретимся у Казанского собора и пойдем вместе в Союз. Ты же не знаешь, где теперь наше подполье, а я тебе покажу.
Сердце у Тимохи заколотилось от волнения. Он пристально глянул на свой потертый чемодан с пожитками, которые наспех собрал, пока спала Оля. На дне чемодана тощей стопкой лежало то, что он наработал за эти страшные три года. И всего-то кот наплакал несколько слезинок, но кое-чем он гордился.
— Есть что показать? — строго спросил Александр Сергеевич, и Тимоха робко, как первоклассник, кивнул.
— Если нечего, других послушаешь.
Александр Сергеевич поднял с земли сумку и медленно побрел к выходу из сквера.
«Служенье муз не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво», — прошептал Тимоха, вглядываясь в высокую, статную фигуру старика с прямой спиной и гордо поднятой головой, туго охваченной линялой вязаной шапочкой. Тимоха пододвинул чемодан к лавке и поднял повыше воротник. Предстояло просидеть на морозе еще часа полтора, чтобы не прийти в квартиру слишком рано и не нарушить течение устоявшейся без него жизни.
* * *
По Московскому шумному проспекту он к Обводному каналу не пошел, пошел по узким, безлюдным с утра улочкам, разглядывая чужие низкие окна, новые вывески, и сшибая чемоданом лохматые гроздья сосулек, повисшие на сопливых носах водосточных труб, так как он это делал с шестнадцати лет, когда стал студентом филологического факультета ЛГУ. Сердце защемило от воспоминаний, он мысленно увидел Неву из окон аудитории. Плывущие по ней кораблики, Исаакиевский собор напротив здания ЛГУ, всю громаду, ширь, простор и величие этого города.
Именно оттуда, с набережной, от входа в университет, Тимоха впитывал в себя мощь Петербурга, его незыблемость и непреклонность, тонкость и нежность. Никакой другой город не мог быть одновременно таким мощным и беззащитным, таким властным и смиренным, таким суровым и всепрощающим. Построенный на зыбком сыром болоте, пронзенный и отшлифованный бесконечными морскими ветрами, исхлестанный до истощения прутьями дождей, с перекопанным, израненным, залатанным нутром, он, на самом деле совсем больной, был и остается навсегда непобедимым и непреклонным. Но сейчас этот великий воин устал без дела. Украшенный, будто его вырядили в пышные липкие перья поверх доспехов, он стал похож на сонного старца, над котором решили чуть подшутить, но увлеклись, а потом махнули рукой, мол, пусть так и ходит.
Петербург Университетской набережной отличался от Петербурга Обводного канала, где жил Тимофей. Петербург Обводного канала, как мрачная мельница, стирал в порошок зерна, разбрасывал по ветру шелуху и производил болезненное отделение зерен от плевел, без анастезии отдирая живую шкуру от голого, кровоточащего зерна. Он много зерен ссыпал в жернова.
Петербург Обводного канала, заросшего, зацвевшего, дурно пахнущего в жару, никогда не выходящего из своих берегов, смирного и покладистого, огибающего охранной подковкой слабую сердцевину города, был полукольцом, полусферой, полукругом - только половиной чего-то целого, нецельным, бесцельным, бессмысленным. Эта половинчатость сжигала в бездонных дворах-колодцах миллионы невидимых и ненужных никому человечеко-дней и человеко-жизней, притаившись за частоколами черных окон и осененных крестами оконных рам.
И вот этот Петербург был дан ему после парадного, гордого, властного, великого. После окончания Университета он поселился в коммунальной дядькиной квартире вместе с приехавшей из дома Тамарой.
Тамара в городе не прижилась, мучилась на ночных дежурствах в больнице, а днем отсыпалась на узком диване. В выходные дни она занималась домашним хозяйством и не хотела выходить из квартиры даже в магазин, не говоря уж про музеи и театры. Тимоха и сам скучал по лесу, по деревне, по материнскому дому, но старательно пытался влюбить Тамару в город, в старую квартиру с неродной мебелью и равнодушными вещами. Тамара упрямо ненавидела все, начиная с кружек, ложек и кастрюль и заканчивая Тимохиными друзьями, которых она считала пустыми людьми, лицемерными актерами, игравшими жизнь по чужому сценарию, по чужим словам и не своими голосами.
«В нем два человека. Одного он показывает, а второго прячет», — говорила она об очередном госте. «Второго человека» Тамара безошибочно угадывала и описывала, и когда этот «второй» в какой-то ситуации выползал и начинал действовать, Тимоха уже не удивлялся. Он прощал Тамаре слезы, тоскливые вздохи, собранные в прихожей сумки с пустыми банками, говорящие о ее ежеминутной готовности все бросить и по любой команде, в любой момент отправиться в деревню. Он все прощал Тамаре кроме своей беспомощности, своей почти уверенности в безнадежности их будущего и осознания временности, ненужности проходящих мимо дней. И все-таки он пытался не предчувствовать краха, пытался создавать основу для будущей великой стройки, пытался привыкнуть и полюбить сам эту чужую квартиру вместе со всеми ее обитателями, которые менялись, как актеры на сцене. Он тащил Тамару на крышу смотреть салют, потому что к Петропавловке она ехать не хотела, боясь толпы и давки в метро, но Тамара не шла, угрюмо уткнувшись в телевизор. Тогда он, сдерживая отчаяние, шел на чердак один, убеждая себя в том, что чердак — это старинное, историческое место, и не обращая внимания на лежбища бомжей. Он лез в чердачное окно, взбирался по скользкой жести на гребень покатой крыши и с ужасом разглядывал цветастые астры праздничных залпов, распускавшиеся на несколько мгновений над зелеными клумбами садиков и скверов, старательно обложенных кирпичами домов. Он стоял, раскинув руки на высоте, продуваемый морскими ветрами и кричал во все горло этим звездным астрам «Ура!», прислушиваясь к рокоту людских голосов, доносящихся снизу, а потом шепотом добавлял сам себе: «Дурак!»— когда астра, не успев расцвести, осыпалась в темную зелень. И снова кричал «Ура! «, и почти верил, что рад, счастлив, свободен, как летающие рядом, испуганные его криком вороны и чайки. Потом он слезал с крыши, скользя по покатому наклонному железу на полусогнутых, дрожащих от напряжения и страха ногах и глупо улыбался, влезая в чердачное окно.
Возвращаясь к Тамаре, он обреченно понимал, что все это ему ни к чему — ни астры, ни крики, ни крыша, ни Тамара, ни он сам.
Тамара никогда не употребляла слова «дом» в Петербурге. «Пойдем в коммуналку», «У нас в коммуналке», а по вечерам она напоминала ему: «Ты позвонил матери домой? Что-то сейчас дома? Когда домой поедем?»
Они оба обрастали тоской, как крепкие снежки липким снегом и скоро составили собой одного тоскливого ледяного снеговика.
При этом его ком был с оторванными от земли корешками, а ее ком — с вросшим в землю крепким корнем. Этим его и держала его на свете. А когда уехала, то он начал медленно таять, обнажая засохшие хрупкие ниточки вырванных из тела Родины корней. Они топорщились и кололи всякого, кто подходил к нему близко. И только Ольгу эти уколы не испугали. Она их не чувствовала, будто была бестелесая. Она не умела обижаться на него, ее все радовало — и красота его, и уродство, и доброта, и злость, и нежность, и агрессия. Она была с ним как хозяйка с любимой, породистой собакой, объясняя все плохие поступки издержками породы. «Писатели все такие», — смиренно защищала она его перед им самим после очередной провинности. Она находила оправдание любому его шагу и поступку и, слушая ее, он сам начинал себе верить. Сначала его разбаловала она, а потом, когда он совсем расслабился от этой безнаказанности и вседозволенности, она взяла с него пример, как с уважаемого, любимого человека, как с великого писателя, которому можно и даже нужно подражать. А потом, когда появился Ванька, они вдруг поняли, что утонули в своей свободе и простоте жизни. Ванька тоже мог утонуть вместе с ними. Его вытащила Лида.
Тимоха вошел в глухой двор-колодец и привычно задрал голову. Окна на последнем этаже тускло светились, значит, все уже встали. Тимоха задрал рукав куртки, чтобы посмотреть время на часах, но во дворе было темно, стрелки часов растворились в серебристом блеске циферблата, как поплавки в бурной воде во время клева, и Тимоха недовольно дернул рукой. Он подошел к двери, ведущей в грязный, неотапливаемый подъезд и замер: дверь была железной, видно, ее поставили недавно взамен старой, деревянной, прогнившей, повисшей на ржавых петлях, уткнувшейся в мокрую лужу.
Зимой дверь примерзала к луже, а весной размокала от сырости, поэтому никто и никогда не пытался беспокоить ее сон, ибо тогда она могла сразу рассыпаться. Видно, рассыпалась. Подъезд старого дома долгие годы не отапливали. В глубоком подвале, тайные размеры которого никто из жителей не знал, раньше, во время войны, было бомбоубежище, а теперь там стали жить бомжи, потому что недалеко находилась районная котельная, и через подвал проходили крупные теплотрассы.
Трасса иногда прорывалась, и тогда из подвала поднимались клубы белого, жидкого пара. Они заволакивали весь подъезд густым, как овсяный кисель, туманом, часть которого, не вмещаясь, вырывалась во двор через раскрытую дверь, и дом был похож на издыхающего дракона. Когда очередная аварийка залатывала и заматывала дыры, то туман рассеивался, и дракон засыпал на время, как перебинтованный больной, покрыв на память нутро подъезда чешуйками сталактитов и сталагмитов, а также просто гроздьями мелких сосулек, наросших на лифт, перила и стены от его холодного, сонного дыхания.
Тимоха озадаченно присел на чемодан, разглядывая кнопки кодового замка в двери. Некоторые кнопки были более светлыми, потертыми, и Тимоха попытался открыть дверь. Несколько попыток не увенчались успехом. Тимоха нажимал замерзшими пальцами, в пустом утреннем дворе, рупором уходящем в небо, легкие щелчки железа звучали резко и громко, как выстрелы на соседней улице. Тимохе стало неприятно от этих металлических, тонких звуков, от пустоты и безлюдности двора, ставшего за три года чужим и недружелюбным, оттого, что он, словно неродной и никому не нужный со своим чемоданчиком топчется возле гладкой двери. За то, что он приминает нетронутый утренний снег, нежный, как тополиный пух грубыми грязными своими башмаками.
Тимоха грузно сел на чемодан и почувствовал, как тот чуть покосился и легко хрустнул под ним. Тимоха равнодушно поднялся и присел на корточки. Он достал сигареты и закурил. То, что он был выброшен из кипучей жизни, было не так страшно. То, что он чувствовал себя никому не нужным — могло быть ошибкой. Но бесспорным было только одно: его ни к кому не тянуло, ни к сестре, ни к деду, ни к Ваньке. Он не хотел открывать эту плотную дверь и звонить в квартиру, потому что там, за другой дверью, его снова ждала беспомощность. Мука ничуть не легче, чем та, оставленная в доме матери, у Тамары, и в деревне у Ольги. Безвыходность и безысходность завтрашнего дня, в котором все будет тяжелым и ненужным, все будет чужим и лишним — и вопросы, и советы, и каждая минута, проведенная в одиночестве — все будет ему мешать. Все, кроме вот этого чемодана, сосредоточившего внутри себя смысл нерушимого течения времени к тому могучему океану, где кончается все и вновь все начинается.
И проступают в тишине,
Как сыпь по коже,
И как мурашки по спине,
Шаги прохожих.
И заполняют темноту
Пустые руки,
Хватающие на лету
Ночные звуки.
Строки прошептались сами собой. Тимоха замер. Настолько быстро выстроилась строфа, что в первый миг показалось, что это он вспомнил чужое стихотворение. Тимоха затравленно оглянулся по сторонам, нервно затянулся несколько раз сигаретой и стал шарить по карманам в поисках ручки. Ручки не нашлось, сосредоточенно уставившись на стену, стал шептать: «Тишине, спине, кожи, шаги прохожих…» Потом он быстро подошел к заброшенной, покалеченной машине-развалюхе и на капоте, покрытом слоем снега, стал писать пальцем: «темноту, руки, на лету, звуки». Остальное потом вспомню, успокоил он себя.
Он понял, что неожиданно вошел в определенный слой пространства, а эти слова были кодом, шифром невидимого замка. Теперь он отыщет в любой момент и замок, и этот пласт, и он войдет в него, чтобы промучиться там ночь или несколько ночей и спуститься на землю с готовыми стихами. Вот эта простейшая рифма, и он — уже в полете. Она не оставит уже его в покое, не уйдет, пока не родит весь стих.
Тимоха оглядел со всех сторон машину, убедился в том, что она никуда не уедет на спущенных колесах и не увезет его записи. В это время дверь за спиной щелкнула, заскрежетала, Тимоха испугался и отпрыгнул от машины, как застанный врасплох воришка, и в потоке тусклого света, рванувшегося из открытой двери парадной, он увидел два темных силуэта: один большой, а другой — маленький.
Тимоха встал, как вкопанный, глядя во все глаза внутрь света.. Дыхание его замерло, как в последний миг перед расстрелом, и он услышал:
— Ты приехал? А где моя мама?
Глава 12
Аллочка сидела за секретарским столом, положив правую ногу поперек левой, и нагло курила. То, что это была продуманная наглость, можно было определить по размеренному, вызывающему танцу ее ступни и задиравшемуся при выдохе подбородку.
— Где Марьянка? — спросила Лида.
— За нахалками не слежу, — невозмутимо ответила Аллочка, и Лида поняла, что демонстративному курению предшествовала бурная разборка.
— Заведующего нет? — спросила она.
— Как видишь. Стала бы я при нем курить! — сказала Аллочка и, грохнув ногой об пол, поднялась со стула. Уставшая от напряженного танца ступня расслабилась и подвернулась. Аллочка ойкнула и села назад в кресло.
— Всё против меня! — застонала она, — И даже ноги не ходят. Мало того, что нервы не работают, теперь еще и другие члены тела…
Широко раскрыв свои печальные глаза, Аллочка беспомощно уставилась на Лиду, и та, поняв, что полчаса работы пропали, покладисто присела напротив.
— Что теперь?
— Я влюбилась, — трагично прошептала Аллочка.
— Вот и хорошо.
— Ничего хорошего. Эта моська тоже влюбилась в него, а она меня моложе.
— Глупости какие! На лет пять? Зато ты умней.
— А размеры! — всплеснула руками Аллочка, — Размеры-то! А это немаловажно! Девяносто-шестьдесят-девяносто! Попу кренделем отставит и пошла перед ним туда-сюда, туда-сюда… А я? По ночам есть встаю. Днем-то мне некогда…
Аллочка, скривив пухлые губки, отвернулась.
— И не вздумай разрыдаться! — велела Лида, — Не выношу я твоих слез. Иначе сразу уйду. Кто он, этот герой-любовник, этот коварный искуситель, Джек-потрошитель, дилетант?
Аллочка нежно улыбнулась и осуждающе глянула на Лиду.
— Зачем ты его так называешь? Он хороший. Он стажер. Просто еще молоденький.
Она мечтательно вздохнула.
— Ну, это уже неплохо. Это хотя бы не смертельно, не так, как в прошлый раз…
— В прошлый раз. В прошлый раз что у нас было? Санечка? Санечка — это глупости, по сравнению с этим мальчиком. Лида, это смертельно! — горячо прошептала Аллочка, — Это хуже прошлого раза! Я просто с ума схожу от ревности! Ведь она, козявка эта, каждый день его видит, а я бегаю по городу, как савраска по овражкам. Прихожу, а она мне так язвительно сообщает: мол, был стажер Владимир, целый день дежурил, сейчас только что ушел. Пирожными меня кормил французскими, чай четыре раза пили от нечего делать. А я, как раненая рысь по судам и тюрьмам и каторгам. Мол, вот вам пакетик остался.
— Мне надо в компьютере пару распоряжений посмотреть, потом жалобку состряпать, я тут долго буду сидеть. Потом поговорим.
— Я сбегаю в магазин. Придет Марьянка, ты вытяни из нее максимум информации о нем. Хорошо?
— О ком?
— О Вовочке.
— Кто такой Вовочка?
— Да моя любовь! Сейчас я тебе о нем говорила!
— А как он выглядит?
— Не важно. Высокий, худой, стройный брюнет. Красавец. Изящный, как Арамис! Потом покажу. Узнай, не встречаются ли они вне консультации?
— Как я узнаю? А если встречаются? Зачем тебе?
— Я потом буду сладко страдать.
Аллочка красила губы перед зеркалом, медленно, тщательно натирая помадой нижнюю оттопыренную губку и шепеляво сказала:
— А что делать? Это жизнь. Она требует счастья.
— А как же Денис?
— Что Денису станет?
Аллочка деловито щелкнула футляром губной помады.
— Ты его разлюбила?
— Лида! — возмутилась Аллочка, — Как ты можешь? Влюбленность и любовь — это разные вещи! Денис — это святое, это муж, которого я буду любить всю жизнь до смерти, даже если совсем его разлюблю. Но это не должно мешать мне жить. Я не могу, когда все хорошо и скучно. Я должна же как-то страдать, мучитья, верить, надеяться и ждать. Я же должна с удовольствием идти на эту поганую работу!
— Ты хочешь страдать? – растерялась Лида.
— Да! Мне нужен стимул. Иначе мне никак не выйти из дома. Я обленилась. Мне, честно говоря, опостылела такая жизнь. Может, мне второго ребенка родить? Я устала. Но надо зарабатывать деньги. Денис. Денис — это любовь, иначе я бы давно его построила.
— А вдруг этот, как его, Вова, — тоже любовь?
— Ну нет, — протянула Аллочка, — Я четко различаю любовь от нелюбви. И знаешь, как?
— Как?
Аллочка огляделась по сторонам и прошептала, как заговорщица:
— Я не хочу детей от Володи. Любовь — это когда хочешь родить мужчине его ребенка.
— Какая ты опытная! – восхитилась Лида.
— Да! И плюс ко всему, любовь бывает только с первого взгляда. Увидел и все. Стрела Амура!
— А тут не с первого?
— Да нет, — махнула рукой Аллочка, — Сначала показалось, что он долговязый такой, медлительный, Арамис, короче.
— А потом рассмотрела?
— В процессе общения у нас возникло чувство. И причем, больше у него, чем у меня. Я просто отвечаю.
— Чем?
— Вниманием, чем еще?! – завопила возмущенно Аллочка. – Ты же не думаешь, надеюсь, что я способна изменять мужу!
— Тогда стимул есть, и что тебе не нравится?
— А тут эта шимпанзе! Лезет внаглую.
— Не придумывай. Она со всеми одинаково.
— Ну вот пусть со всеми она одинаково, но не с ним, — недовольно пробурчала Аллочка и принялась считать мелочь в кошельке.
В этот момент из глубины консультации появилась жующая на ходу Марьянка.
— Где ты шляешься! — воскликнула строго Аллочка, — Телефон разрывается, заведующий два раза звонил, а я так и сказала, что на месте нет ее, а где находится, — неизвестно. Консультация открыта, бери, что хочешь. Распустилась! Одни мужики на уме!
Марьянка нервно сглотнула непережеванный кусок, поперхнулась и громко закашлялась, побагровев в одно мгновенье и вытаращив круглые, полные слез глаза.
— Господи Боже мой! — воскликнула Аллочка и принялась стучать ее по спине между лопаток. — Нагнись, нагнись! Задохнешься.
Она заполошно забегала вокруг кашляющей Марьянки:
— Лида! Лида! Воды!
Лида вскочила из-за компьютера, резким двиджением толкнула Марьянку на стул, нагнула ее к полу и, выбирая моменты, коротких, напряженных выдохов, чередующихся с сильными, страшно свистящими вдохами, сильно хлопала ее ладонью между лопаток. Но вдохи становились все короче и труднее, Марьянка синела, а выдохов почти не было.
— Скорую! — закричала жутким голосом Апллочка.
Лида грубо, изо всей силы схватив Марьянку за плечи, встряхнула ее так, что голова Марьянки безжизненно заколыхалась. Аллочка взвизгнула, а Лида, пригнув Марьянку к полу, стала беспрестанно сильно хлопать ладонью по позвоночнику, понимая, что вдохнуть воздух Марьянка больше не может. В голове возникла жуткая картина детства. Мальчик в городском автобусе, подавившийся куском яблока, студент мединститута с окровавленным скальпелем в руках, проткнувший в последний момент ему трахею…
— Господи! — взмолилась Лида, чувствуя, что тоже задыхается и хлопая обмякшую Марьянку, не сводя глаз с блестящих ножниц, торчащих острыми концами вверх на столе. Одна ее рука уже тянулась к растопыренным концам, готовясь схватить их, а другая легла на опущенное лицо Марьянки, поднимая его кверху и готовясь запрокинуть голову за спинку стула, чтобы было удобнее колоть… В этот миг Марьянка вздрогнула всем телом, и Лида зажмурилась, решив, что это судороги. Марьянка странно захрипела, гулко сглотнула и начала слабо фыркать носом. Лида почувствовала ледяной холод ножниц в своих ладонях. Она отстраненно и хладнокровно разглядывала шею Марьянки в тонких голубых прожилках и уже нащупывала кадык.
— Что ты хочешь делать? Что ты хочешь? — ошалело шептала за спиной Аллочка
— Уйди, — отрезала Лида.
В этот момент Марьянка коротко вздохнула, потом громко фыркнула, потом фыркнула еще раз.
— О-о-о-оййй! — стонала Аллочка.
Марьянка медленно открыла глаза и стала крепко, по-здоровому кашлять.
— Водички, водички! — засуетилась вокруг нее Аллочка, подставляя трясущимися руками к ее губам пустой стакан.
— Н-н-налей в-ва-ва-ды, — заикаясь, попросила Лида.
Марьянка громко кашляла и с ужасом смотрела по сторонам.
— Проскочило! Проскочило! — приговаривала Аллочка, — Хорошо, что ты ей голову вот так вот и - и – набок! Вот, проскочило.
Лида присела на стул, положив трясущиеся руки на коленях.
— Слушай, а что ты хотела сделать? — спросила Аллочка, кивнув на ножницы.
— Не знаю, — потеряно сказала Лида.
— Ты могла бы проколоть ей горло? — ужаснулась Аллочка. – Сумашедшая!
Марьянка поднялась со стула, хватая ртом воздух, и, шатаясь, поплелась к дверям.
— На уличку, на уличку! — заворковала Алочка, подхватив ее под локоть.
— На воздушек, на кислородик, — приговаривала она, ведя ничего не понимающую Марьянку к выходу.
Лида машинально раскрыла ежедневник и стала кому-то звонить. Когда на другом конце взяли трубку, она поняла, что не знает, кому позвонила. Оставив все, как есть, она тоже вышла на улицу. Ее трясло то ли от холодного свежего воздуха, то ли это была запоздалая реакция на случившееся. Тяжкий, изнуряющий озноб завладел всем телом. Постукивая зубами и подскакивая на носочках, Лида стояла рядом с Марьянкой и Аллочкой и тоже сосредоточено втягивала носом выхлопные газы застрявшего на узкой улице потока машин.
— Затравили! — возмущенно воскликнула Аллочка, обращаясь к плотной пробке, но машины продолжали терпеливо жужжать в ожидании своей очереди и выпускать выхлопные газы.
Ничего не оставалось делать, как только дышать тем, что имелось в наличии.
Все кабинки были заняты, разговоры велись хором, помещение консультации заполнял размеренный, монотонный гул. Из-за плохой звукоизоляции кабинок конфиденциальность бесед с клиентами не соблюдалась, но старый заведующий, привыкший в советские времена к простоте и аскетизму, был верен своим принципам до конца.
«Богат не тот, кто много имеет, а тот, кому хватает», — говорил он очередному ходоку за евроремонтом. — «Столы покрасим, стулья можно обтянуть другим материалом. Это недорого. Мебель менять нет никакой необходимости».
«Я не обладаю даром говорить даром», — прерывал он речь следующего искателя престижа для консультации, если того очень мучило красноречие. «Не место красит человека, а человек место», — сообщал он третьему, и все оставалось на своих местах.
Заведующему было почти восемьдесят лет и спорить с ним из уважения никто не смел. Когда все боевые вылазки и походы к нему были проиграны, в консультацию торжественно привезли второй компьютер. Ходоки ликовали! Наконец-то хоть в чем-то они убедили старика. Но компьютер оказался древним и замученным, и его, как выяснилось, подарил заведующему его бывший студент. Компьютер видал виды, да такие виды, какие не всякому компьютеру покажут. Он оказался не только старым, но и смертельно больным. Жизнь его прошла в недрах ФСБ, и он там подцепил какие-то вирусы. Эти вирусы сожрали не одну дискету у адвокатов, пока Марьянка от греха подальше не спрятала все шнуры.
— Нету! — невозмутимо отвечала она возмущенным адвокатам, — Распечатывайте дома!
— А что я могу поделать? Нету шнуров. Пропали. Не знаю, куда. Может, украли… — как робот отвечала она стажерам.
Шнуры-то на самом деле были, но пряча их, хитрая Марьянка избегала бурь и штормов, которые были слишком опасны для утлой, обшарпанной, старой лодочки, которой она фактически управляла.
— Легким движением руки у нас скоро появится новый телефонный аппарат! — торжественно обещала она, колупая развалившиеся проводки черного, грубого, как кирзовый сапог дореволюционного телефона.
— Можно подумать! — сомневались все вокруг.
— Точно вам говорю! Иван Александрович, наш адвокат, обещал мне лично подарить на восьмое марта, чтобы я не мучилась с этими вот проводами. Опять отошли, чтоб вас!
Марьянка, как заправский телефонный мастер, крутила синюю изоленту, придерживая щипчиками для бровей тонкие, хрупкие проводки, чтобы через несколько часов кто-нибудь из особо энергичных обязательно выдернул или порвал слабую конструкцию.
На помощь ей приходил изредка Котофеич, старый, молчаливый слесарь, подрабатывающий за копейки в консультации. Но это были исключительные случаи, когда вовсе ломались замки, или терялись ключи, или разваливались двери, или выбивались стекла. Когда существовала прямая угроза закрытия консультации, тогда только вызывался усатый и лохмобровый Константин Феоктистович, в простонародье называемый Котофеичем.
И тогда Котофеич, как злобный зубной врач, гремел железом инструментов, швыряя их в металлический, гулкий ящик и бубня при этом, что из гада рыбину не сделаешь, и горбатого могила исправит. Он посылал Марьянку в магазин за новым замком, а всех остальных, сочувствующих его напрасным трудам по сбору из трех довоенных замков одного современного, — и вовсе куда подальше, совсем не в магазин.
Во всех неудачах Котофеич тоже обвинял Марьянку, требовал от нее соблюдения всеми адвокатами правил техники безопасности, проверял в ящике ее письменного стола наличие инструментов первой слесарной необходимости и ругал ее за то, что все мужики в консультации за всю жизнь ничего приличного в руках не держали, и руки у них не в том месте.
Марьянка слабо оборонялась от Котофеича, который годился ей в деды, всегда поддакивала ему насчет мужиков, и вдвоем они терпеливо который год решали дешево и не сердито, практически бесплатно, все хозяйственные вопросы. Со стороны казалось, что так домовиты, скромны и экономны они оба из-за беспросветной нищеты, а может даже и близких военных действий, на время которых закрыты магазины, фабрики и склады, а все лучшее страна поставляет фронту.
Лида нашла свободную кабинку и устроилась там в ожидании клиентов. Она разглядывала детские журналы, которые купила для Ваньки, стараясь отключиться и забыть о происшедшем. Но, пролистывая их один за другим, все же волей-неволей возвращалась к этим проклятым ножницам. Они так и засели двумя растопыренными концами в ее памяти, будто были раскаленными и припечатались, как неизгладимое клеймо.
* * *
— Хорошо, что приехал, — сурово сказал дед. — Давно пора было.
— Все не собраться, — промямлил Тимоха.
— Делов хватает у всех, — согласился дед, — Но ты вовремя. Как раз к бою. Мне одному не справиться.
— Какие у тебя бои? — насторожился Тимоха.
— Первой важности. Квартиру буду получать.
— Кто ж тебе ее даст? — улыбнулся Тимоха.
— Дадут. Никуда не денутся. Только ты Лиде не говори, она ругаться будет. А мы с Яной Васильевной план захвата составили.
Яна Васильевна, сидевшая напряженно за кухонным столом, с осуждением посмотрела на Георгия Ефимовича.
— Не говови гоп, пока не пеепвыгнешь…
Дед отмахнулся.
— Не скажешь — не перепрыгнешь. Мы на войне сначала кричали «За Родину! За Сталина!»— а потом в атаку шли. Когда знаешь, что победишь, тогда и побеждаешь.
Яна Васильевна поджала накрашенные губки, согласно отступая.
— А теперь я буду орать: «За правду!»— воодушевился дед ее отступлением.
— У меня личный адвокат. Марина. Она все письма проверила. Одним законом все и порешим. У меня, Тим, впереди последний бой. Он трудный самый. Но я же, знаешь, чего только не брал! Всю Европу протопал. Что ж, я нашу власть не возьму с бою?
— Там был враг, а тут свои, — покачал головой Тимофей. — Тут атакой не возьмешь. И законом не возьмешь. Власть вашу-нашу… Власть наша — это не Берлин тебе. Ты не кипятись, не мальчишка уже, куда собрался?
— На войну пойду, — сказал дед. — Вон с ней вместе пойдем, — кивнул он на застеснявшуюся Яну Васильевну. — Пойдешь, Васильевна, со мной до победы?
Та кивнула, виновато глянув на Тимоху.
— Ты не перечь, Тимофей, деду, мал еще. К тому ж, на меня одного — вся надежда. Ты домом займись, на работу устройся. Хватит стишки свои писать. Стишки никуда не денутся, другим оставь, а жизнь-то идет.
— Дед, ладно, — огрызнулся Тимоха.
— И я не понимаю, с чего бы это в нашей хорошей, здоровой семье, из роду в род уважаемой, работящей, и такие глупости завелись? Вроде все были порядочные люди, ни пьяниц, ни убогих, ни лентяев — никого такого не было, кроме тебя. И выдался на славу! — пожаловался дед Яне Васильевне.
— А мне нравится Тимошино твовчество, — возразила Яна Васильевна, густо покраснев.
— Твовчество! — передразнил ее дед, — Творец мне нашелся! Творчеством сыт не будешь! Озорнина одна и паскудство!
— Где это у меня озорнина? — растерялся Тимоха.
— Я нашел вот! Не думай, что не грамотные. Тоже книжки читаем. Все про любовь. Не озорнина?!
— Любовь — это не озорнина, — возразил Тимоха.
— А мне нравится… — завела Яна Васильевна.
— А ты молчи! — рыкнул на нее дед. — Нравится ей… Любовь одна должна быть! А если их много, то это — озорнина и паскудство! Сам распустился, женок по свету распустил, ребенок брошен. Любовь!
— Ты ничего не понимаешь, — недовольно бросил Тимоха, — Каждому — свое.
— Это кто тебя научил такому - каждому — свое?! — взвился дед, — Фашисты так говорили, и на воротах Бухенвальда такая надпись была. Цитируешь?
— Правильно было написано, но не там, где надо.
— А где надо? — оторопел дед, — Может, на дверях нашей квартиры надо так написать? А что? Это будет верно. Ну так я тебе сейчас устрою, сукин сын, Бухенвальд! Я тебя, засранца, без оружия со свету сживу!
— Георгий Ефимович! Вы что?! — воскликнула Яна Васильевна, но было уже поздно.
Дед поднял костыль и со всего маху саданул Тимоху по плечу. Тимоха подскочил от неожиданности и метнулся к двери.
— Сдурел, что ли? — крикнул он оттуда.
— А ну, на место встань! — гаркнул командным голосом дед, — Я что, за тобой бегать буду? Встань, где стоял!
Тимоха нерешительно потоптался у двери и вернулся.
— Смотри мне в глаза, наглец! Сивая твоя голова! Это кому ты сейчас сказал «сдурел»?
— Тебе, — буркнул Тимоха.
— А ну, повернись задом, — грозно прошептал дед, — Повернись, говорю, а то мне неловко тут размахиваться!
Тимоха хмыкнул и повернулся к деду спиной, чутко прислушиваясь к ноткам его голоса и веря в то, что дед уже успокоился. Но сильный удар между лопаток отрезвил его. Тимоха ойкнул и снова метнулся к дверям.
— Давай, давай назад! Ты еще не все получил, — деловито сказал дед.
— Георгий Ефимович! — возмутилась Яна Васильевна, — Ну это же неэтично, бить взрослого мужчину. Да и непедагогично это, в моем присутствии.
— Это не мужчина, это — внук. Давай, давай, иди сюда. Я из тебя дурь выбью.
— Блин, — нервно сказал Тимоха и снова подошел к деду, — Дед, блин, что за концерты?
— Еще и блин? — побагровел дед, — А ну, нагнись, я счас тебе зубы-то пересчитаю.
— Счас! Нагнусь! — завопил Тимоха, — А мне потом зубы вставлять? Ты знаешь, сколько это стоит?
— Георгий Ефимович! — воскликнула снова Яна Васильевна, — Я требую порядка!
— А ты иди домой, предательница.
Яна Васильевна виновато замигала глазками и стала теребить кудряшки над ушами.
— Дед, хватит, — мирно предложил Тимоха, — Я все понял. Беру свои слова назад.
— Ты бы еще и поступки свои назад взял, — грустно сказал дед, — Мало тебя в детстве били, но ничего, я теперь наверстаю. Васильевна, ты сильно нежная стала, не переживай, я ж горячий. Наломай мне лозы в парке, я в ванной вымочу, буду принимать меры. А то вот видишь, никого ни во что не ставит, выражается нецензурно, блин говорит. Прутом надо, а костылем-то — больно. Больно, Тим, костылем-то?
— Да ладно…Ты и Ваньку так воспитываешь?
— А то как же? И за себя, и за того парня отдувается, — кивнул дед, — Бью на убой!
— Врет, — отрезал Ванька из-за двери.
— А ты там? — спросил удивленно дед. Голос его мгновенно стал робким, как у провинившегося школьника.
— Там, там, — сказал Ванька, заходя в кухню, — Я только что из школы пришел.
— Подкрался и подслушивал, да? — стал выводить его на чистую воду дед, но Ванька хмуро промолчал.
— Ой, непедагогично, — сокрушенно запричитала Яна Васильева.
— Зато справедливо, — спокойно сказал Ванька и, открыв кран, стал мыть руки.
Тимоха растерянно присел на стул, чувствуя, как ноет плечо и спина. Он напряженно следил за Ванькиной светлой стриженой макушкой, а тот не поворачивался к нему лицом, чтобы не смотреть в глаза.
— Сынок, — тихо позвал Тимоха.
Ванькина спина напряглась, он резко оглянулся и сурово глянул на Тимоху.
— Где мама?
— Она в деревне.
— Почему ты не в деревне?
— Мне нужно было приехать сюда.
— Тогда почему она в деревне?
Тимоха опустил голову, а дед промолчал.
— Уезжай к маме, — сказал Ванька.
Тимоха молча кивнул и вдруг стал затравленно озираться по сторонам.
— Подожди, подожди, как там? Забыл…
Он шлепнул со всего маха себя ладонью по лбу.
— Записать надо было! Баран!
— Что такое? — удивился дед.
— Я ж записал! На капоте машины записал! Во дворе. Я мигом.
Он побежал в прихожую, а дед поплелся в комнату, приговаривая на ходу, что бодливой корове Бог рога не дал, а она, безрогая, все равно бодается, потому что у безрогих больше гонору, чем у рогатых. И может это даже хорошо, потому что если бы было наоборот, то всех людей эти рогатые забодали бы и так далее, и так далее.
Глава 13
Ольга проснулась в холодной, простывшей за ночь избе в полной тишине. Тишина была гулкой, морозной, ледяной, насыщенной спящими до первого прикосновения необычными звуками. Звуки действительно были необычными и непривычными. Слух Ольги отвык от их за долгое время приключений и путешествий, привык к другим, и потому был скован и насторожен.
Ольга встала с кровати. Громко заскрипели проржавевшие полувековые пружины выпуклого, неловкого матраца. Гул наполнил комнату, и она мгновенно ожила. Ольга накинула теплый халат, сунула босые ноги в валенки, и пошла растапливать печку. Печка была хозяйкой дома и занимала четверть его пространства. Тимохины дед и бабушка сложили ее в новом доме еще перед войной, и до сих пор она исправно согревала дом.
Ольга убрала заслонку и стала разводить в поде костерок, так, как научил ее Тима. Она положила по центру приготовленный пук сухих мелких веток, предварительно сняв подпоясывавшую его проволоку, сунула под пук несколько смолистых лучинок, лежащих пучком на припеке, кусочек бересты и ком смятых газет, зажгла спичку, поднесла к газете, и маленький, слабый огонек мгновенно позолотил черную пасть печи, захватил острые кончики лучинок, перекинулся на сухие ветки, прыгая и качаясь на них радостно и счастливо, как птенчик Жар-птицы. Он шуршал и щелкал тонкими, хрусткими сучками, как своим клювиком. Ольга положила сверху несколько березовых поленьев. Завитушки бересты закружились, завертелись, как живые, уворачиваясь от жара. Они вспыхивали и почти мгновенно сгорали, бесследно, почти без пепла, исчезая в общем бегущем кверху пламени.
В избе стразу стало уютно и спокойно. Ольга налила в чугунки воды и принялась готовить. Самое лучшее для печки и для деревенского жителя — это щи да каша. Помыл крупу, насыпал в воду, подцепил ухватом чугунок, поставил в уголочек и — дело сделано. Со щами тоже особых хлопот нет. Две картошины, капустка из бочки, немного мяса, луковицу, если хочешь, то и нечищенную, целиком, — так цвет у щей будет желтоватый, теплый и аппетитный. Все вместе в чугунок накидать, накидать, водичкой залить, да ухватом в печку уставить. Тут главное — не прогадать, в какой момент и в какое именно место.
Вот когда пироги печешь, то жар разгребаешь по сторонам, чтобы внутрь установить противень. И хлеб также печется. Они с Тимохой как-то баловались, пекли хлеб из грубых отрубей, что продавались на корм скоту. Вкусный получался хлеб, ароматный, дед Филя говорил даже, что с детства такого не едал.
Ольга задумалась: может, испечь пирог? Пироги она летом пекла каждый день. «Вся Россия на пирогах стоит, — говаривали бабка. — А что, милая моя, по семь-десять ребятишек нарожаем, а которая и двенадцать осилит, а которая, прыткая, дак и двадцать принесет. Сколько смолоду, с восемнадцати-то годов нарожать успеешь до срока? А которая и до сорока пяти гонит. Смотря у кого какая любовь. Да много и двоен, и троен рожали. Ой, кровинушка, этих ребят, бывало, по деревне бегает, не познаешь, который чей. Мне-то послабку Господь дал: мерли детушки, одни мальцы выживали, а девочки квелые были. Такая, видать, порода наша, такой завод мужиковый. Мальцы хорошие, крупные, румяные, что поросятки бегают. Рубашонки с вечера поменяю, с утра по куску пирога, по кружке молока и — на улицу. В избе зачем сидеть? Изба-то мала на всех, только вечерять, да спать, да зимовать зиму, чтобы не замерзнуть. А так изба нам — ни к чему, жили мы всё на воле. Так вот пирогами и жили. Мука есть — считай, больше ничего и не надо. Мальцы мои, поросятки мои толстые, без делу не сидели. Который грибов из лесу тащит, который — ягод, кто рыбы наловит, кто орехов наберет. И в огороде не гостевали, а хозяйничали. Всему я их научила: и копали, и сажали, и пололи, и урожай собирали. А я муки замешу, тесто поставлю, тесто выходится, и знай пихай в печку пироги. Особо с грибами и с картошкой да рыбники любили. А если мясо есть, так мясной пирог — лучшая еда. Уж когда совсем ничего не остается из запасов, то с морковкой, с капустой шли. Каждую неделю во весь стол с противиней пирогов накидаю и живем, не горюем. Вся Россия на пирогах росла, это теперь они в диковинку, за лакомство. А все от лени». Ольга отыскала в кухонном шкафу муку и снова задумалась. Тесто ставить уже поздно, печка разгорелась. Она внимательно, настороженно пригляделась к дому. Что-то неуловимо изменилось в нем, даже воздух был встревоженным и напряженным, насыщенным невидимыми частицами, заряженными тяжелой энергией, которая могла выплеснуться от любого шороха, или слова, или даже мысли. И мысль эта, как яркая вспышка, охватила внезапно всю Ольгу, когда она увидела распахнутую дверцу шкафа с пустой перекладиной, на которой раньше висели ненужные дорогие галстуки. Мысль еще не оформилась, вывод еще не был сделан, но эта страшная пустота, отсутствие бесполезных вещей, будто раскрытое преступление, обнаруженная кража, вопияло о необходимости присутствия этих безделушек где-то в другом месте. Понятно, где, - в городе Санкт-Петербурге.
Ольга присела прямо на пол возле печки и уставилась на танцующий беззвучно огонь. Язычки пламени прыгали в ее зрачках, зеркально отражавших каждое их движение, будто любовались собой и наблюдали со стороны за своим танцем.
Ольга отвела пересохшие, заслезившиеся глаза к порогу и увидела старые Тимкины валенки с калошами, боты, в которых он шлепал возле дома. Все это говорило о том, что он уехал. Никогда раньше она не поверила бы в то, что ее муж может сделать такое. Вчера он вскользь сказал, что уезжает, а сегодня его уже нет. И это после бессонной, счастливой ночи, когда оба поняли, что приросли друг к другу навсегда каждой клеточкой, что не могут жить друг без друга. Ночью поняли, а утром расстались.
Ольга поднялась с пола, растерянно сунула пакет с мукой в шкафчик, стала прибирать а столе, машинально составляя грязные стаканы, ложки, вилки, отыскивая по всем полкам и углам любую мало-мальски запачканную вещь, чтобы все отмыть, отчистить содой до блеска, чтобы все сверкало и сияло чистотой. Потому что больше ничего не оставалось делать.
Она распахнула дверцы шкафа, вывалила с полок на пол все содержимое и принялась разбирать забытые за долгое время вещи, раскладывать их на две кучки: нужные и ненужные. Тут были свитера и брюки десятилетней давности, кофточки, платья, которые она носила еще в училище. На дачу было отвезено все прошлое. Ольга отыскала даже нежно-салатовое платье, в которым она была в день знакомства с Тимой и свитер, который она связала ему на первый Новый год. Ольга встряхнула поношенный свитер с протертыми до дыр рукавами и прижала его к лицу. Свитер пах Тимофеем, он пах, как все старые вещи в шкафу или на чердаке: немного пылью, немного арбузом и еще чуть-чуть — сжатым в крутые петельки ушедшим временем и еще чуть-чуть — оставшимися днями. И вот это неуловимое чуть-чуть встревожило, от него защемило сердце. Ольга могла сейчас бросить свитер в печку и уничтожить оставшиеся дни, она могла взять ножницы, разрезать, распустить его, а из ниток связать другой — с новым рисунком и нового фасона. Она может решить судьбу этой вещи, которую Тим столько лет любил. Но кроме этого она ничего больше не может решить. Если вещи не будет, Тимоха будет любить ее в памяти, потому что она была напитана ушедшим счастьем.
Ольга надела Тимохин свитер, закатала рукава и почувствовала себя уютно, по-домашнему. У нее даже поднялось настроение. И ничего страшного, что придется пожить одной. Она наведет везде порядок, все отмоет, перестирает, может быть даже переклеит к лету обои и побелит потолки, займется производством творога и сыра.
Нет, зря она с Ионом снова не уехала в Норвегию. Его огромный чужой дом с двумя молчаливыми, будто глухонемыми женщинами-служанками, стоял в чистом поле, как огромный боровик посреди пустой лесной поляны. Он был красив и доступен, но как-то вызывающе обречен, так же, как и видимый со всех сторон боровик. Дом был обречен на неуют, он был открытым, как на сцене. Дом был показательным и официальным. Он выставил себя на славу, а получалось, что на посмешище. Он добивался чести и похвалы, а получал равнодушное удивление. Жена Иону нужна была под стать дому — удивительная. Завести русскую жену было престижно. Русские женщины считались самыми покладистыми, экономными и, конечно, красивыми. Ион был намного старше Ольги. Их познакомили ее подруги, которые уже вышли замуж за норвежцев и жили в Норвегии. Сначала Ольге не понравилось, что Ион — сельский житель, но потом, измерив километраж и изучив округу поподробнее, она прикинула, что пять километров до крупного центра, где у нее будет свой маленький магазин с русскими товарами и сувенирами, подальше он скучного, непонятного нового мужа, — это гораздо лучше, чем маленький магазинчик под городской малюсенькой квартиркой, так похожей на питерскую хрущевку. Ион влюбился в нее сразу и ходил сзади высокой, счастливой тенью с глупым, встревоженным лицом. Он тщательно вызнавал Ольгину подноготную, и она не стала ничего скрывать про Ваньку. Ион сказал, что Ваню они заберут, и чем раньше, тем лучше. Чтобы он сделал хорошую карьеру в Норвегии, ему нужно закончить норвежскую школу. Ольга не спала ночами, рисуя в голове картины одна другой краше: как она удачно выйдет замуж, как быстро и легко она заработает хорошие деньги, года через два-три заберет Ваньку, а потом они уйдут от Иона. Зачем ей этот Ион, если перед ней раскинется целый мир, который она потом откроет для сына. Надо только потерпеть, она сделает все, лишь бы только он увидел мир. Он и так долго мучился. Она обеспечит его будущее. И не только его. Она мечтала, как приедет в Питер на автомобиле, и они с Тимошей купят маленькую, отдельную двухкомнатную квартиру в старом сталинском доме в центре. Тимоша любит центр, ему очень плохо на окраине. Он просто мучается от этих окраин. А потом он приедет к ним, а потом они приедут к нему, так и будут ездить. У всех семьи теперь разные, а у них будет вот такая.
Ольга мечтала, как они с Тимом будут приезжать в деревню и привозить подарки бабе Липе и деду Филе и всем дачникам, как будут бродить по течению мелкой деревенской речушки, ловя по пути руками щук и налимов под камнями, а потом возвращаться берегом, подставляя опаленные солнцем плечи и лицо вольному ветру и вдыхая полной грудью сладкий, теплый луговой воздух. А дома их будет ждать Ванька, подросший, умненький, красивый, иностранный Ванька, ее гордость и смысл всех этих мук. И все было так близко, так доступно, если бы не ее душа. Она не смогла больше ничего терпеть…
Ольга помешала кочергой угли в печке, поставила ухватом чугунки и прикрыла топку железной заслонкой. Она накинула на голову платок, надела теплую куртку, сунула ноги в валенки и пошла к соседям. Хоть сомнений никаких быть не могло, смирившись с мыслью о том, что Тим бросил на нее все хозяйство, она все же решила сходить к бабке Липе. Какой все же жестокий Тим. И как она его плохо знает! Выскользнул, как ящерица между пальцев. Вовремя же она приехала! Такую возможность ему предоставила!
Ольга и жалела его, и злилась, но капелька надежды все же оставалась. Неизвестно на что. Может, на то, что он оставил записку деду для нее или сказал какие-нибудь слова на прощание…
Она вышла из дома, прикрыв за собой осторожно, как чужую, дверь веранды, и пошла по притоптанной тропке берегом реки к дому бабки Липы. Свежий воздух, сочный, спелый, как сок арбуза, вливался в нее, окрасив вмиг розовым цветом щеки, озябшие руки, щекоча холодом повлажневшие глаза. Заснеженный, покатый берег сливался с гладким пространством замерзшей реки и плавно поднимался белым пригорком противоположного берега. Русло обозначалось только серой пушистой от инея щеткой прибрежных кустов, за которыми едва угадывался бывший летний пляж с покосившимися деревянными «грибками», построенными Тимошей для детей. Две пляжные лавки стали неприметными снежными бугорками, и казалось, что лета никогда не было и никогда больше не будет.
Эти грибки она уговорила Тимошу построить года четыре назад, и сама помогала ему в этом: пилила ножовкой доски, носила жердочки, устанавливала вместе с ним столбы. Но пляж был сырым, и «грибки» быстро покосились, из крепких, упругих, свеженьких мухоморов они превратились теперь в черные, покосившиеся, замороженные поганки. У них в детском доме было много песочниц с «грибками».
Ольга поморщилась и отмахнулась от своей памяти. Если бы была придумана и разработана такая медицинская операция по удалению памяти, она прямо сейчас бы, в валенках на босу ногу пошла в райбольницу и согласилась сделать ее первой. Она попросила бы удалить из памяти все, включая сегодняшнее утро, все, исключая Тимошу и Ваньку, потому что все остальное было лишним. С этого бы и началась новая жизнь.
— А, красавица, явилась — не запылилась, — язвительно, но беззлобно пропела бабка Липа, — Долго спать в городе привыкла.
— Здравствуйте, — тихо поздоровалась Ольга и нерешительно встала у двери.
— Покрепче закрой, а то холоду напустишь. Зима долгая, а дрова с неба не валятся. Проходи, — сказала бабка Липа, откладывая в сторону половину связанного носка.
— Вяжете? — спросила Ольга.
— А что мне еще делать? Пряду вот нитки, да носки вяжу. Дед продает в городе. Жить-то надо.
— А Тима не видели? — спросила Ольга и затаила дыхание.
— Уехали они в город. И мой поехал. Провожать.
— Провожать, — согласно кивнула Ольга.
— Ага, провожать.
Ольга потерянно опустила голову.
— Не горюй, приедет, — приободрила ее бабка Липа.
Ольга кивнула.
— Так вот и будете ездить, то один, то другой. Непутевые какие.
— Непутевые…
— Хоть бы вместе ездили туда-сюда, а то один приедет, а другой уедет. Чего болтаться по свету? — недовольно спросила бабка Липа.
— А вот. Жизнь такая, — пожала плечами Ольга.
— Жизнь такая! — передразнила бабка Липа, — Это вы такие, а не жизнь. Драть вас надо ремнем. Мало в детстве били, разбаловали.
— Били много, — не согласилась Ольга, — Я пойду. Он ничего мне не оставлял?
— Нет, ничего.
— И на словах ничего не передавал?
— Нет. А ты что, даже мужика не проводила?
— Я спала, а он сбежал…
— От доброй-то бабы мужик не убежит. Проспишь своего мужика вовсе. Да уж и проспала. Хотя, скажу тебе, не мужик и был. Пьет. Как есть говорю, пьет. И курит, — добавила она. — Мой не такой. Мой исправился под старость. Но сколько я его исправляла, сколько слез пролила, один Господь знает. А теперь-то, исправленный, кому он надо? Как помирать пора, так исправляются, за ум берутся, когда жизнь прошла. Раньше не собраться, недосуг им. Да ведь и все равно худой. Проблем – не обересся…
— Пойду, — вздохнула Ольга и направилась к двери.
— Погоди, не серчай. Поругать-то вас некому. Катерина молчком все, не лезет в вашу жизнь. Оно, может, и верно. А я — человек посторонний, мне какое дело? Мне можно. У тебя, Олюшка, ни мамки, ни отца не было. А разве детдомовскую семье научишь? Семье учиться надо в семье. В детдоме семье не научат. Да и мне тебя не научить. Одно скажу: рушить — проще, чем строить. А вы рушите. И как только все держится? Рушите, рушите, а оно все равно держится. Опять рушите – снова восстает… Что ж такое?
Бабка Липа снова взяла вязание и, поправив очки на носу, принялась ковырять спицами серую шерстяную нитку. Нитка не подцеплялась и бабка сердито засопела.
— Теперь кто да как живет. А это неправильно. Вот раньше была одна мода, все по этой моде и жили. А теперь сколько людей, столько и мод. Кто во что горазд, вольники. Развеселились, веселая жисть да сладкая быстро приестца. Беда детям а такую жизнь смотреть. Хорошо ль тебе было в твоем детдоме?
Она поправила очки и сурово глянула на Ольгу.
— Хорошо, — кивнула Ольга.
— Чего ж там хорошего-то? — изумилась бабка Липа.
— Мне сравнить не с чем.
— Не думаю я, что там хорошо, — сомнительно покачала головой бабка Липа. — А теперь у всех — похуже детдома. Чему вы детей научите? Семье не научите. Семей-то у вас нет. Так, одно баловство. Словно в игрушки играют, а не жизнь живут. Будто четыре раза жить будут, а не один.
— Я пойду, — вздохнула Ольга, — Дед Филя приедет, пусть ко мне зайдет. Хоть расскажет, что к чему.
— Пусть, я скажу, — пообещала бабка Липа, — А что к чему, ты и сама заешь. А я добавлю, доченька, тебе вот что: Тимку я не осуждаю, хоть он и худой. Но он - мужик. Ему можно быть худым. А ты – баба. И тебе цена — две копейки по деревне. А чем дальше, того и меньше будет. И не обижайся. Не баба ты, хоть и женского рода. Нету в тебе бабьей власти. А власть наша знаешь где спрятана? Не знаешь. А я тебе скажу: надо все руками к дому, к дому подгребать, под мужика, под деток, как курица крылами, грести и грести, грести и грести. Они, цыплятки, разбегаются, а ты крылами, крылами, да под брюхо их. А которого и хлопни легонько, чтоб не прыгал, не вольничал, а которого приголубь, да похитри с ним, а третьему ни слова не скажи, так, молчком. А ежели они опять в разные стороны, то ты опять их к дому, к дому. И так без устали всю жизнь. Ястребов и коршунов кругом полно. А где они, твои цыплята? Где оно, твое хозяйство, кастрюли, да тряпки, да ложки-плошки? По миру пущено. Не надо тебе ничего своего. Ты к чужому привыкла. Ты не чуешь, что— родное.
— Я пойду, — всхлипнула Ольга.
— Иди, — тихо сказала бабка Липа и уткнулась в вязанье, — Я тебя и жалею, и не жалею. Как хочешь.
— Спасибо, — кивнула Ольга, вытирая глаза.
— Вечером поговорим. Иди, хозяйство корми. Что там, где — найдешь, я в твои дела не полезу. Я в твоем доме хозяйничаю, когда скотина подыхает. А теперь есть кому ухаживать. Развели, так и содержите. А не хотите работать, так перережьте и дело с концом. Не мучайте животину.
— Пойду кормить, — тихо сказала Ольга и мышкой выскользнула в тяжелую, утепленную войлоком дверь.
Морозный день, прокаленный морозом, от которого, как от жара в печи, сухим треском исходили живые ветки кустов и деревьев, был пасмурным, словно собирался вот-вот растаять от печали и пролиться слезами мелкого дождя.
В доме было тепло и страшно оттого, что это тепло никому, кроме нее не было нужно. Когда она с маленьким, потрепанным чемоданчиком уходила из детского дома, Майя Михайловна, ее любимая воспитательница, сказала: «Оля, все силы приложи для того, чтобы создать свою семью. Сколько я видела кукушкиных слез! Не цветков болотных — те красивые и редкие, а кукушкины слезки льют матери, бросившие своих детей. Самое главное — семья. Все остальное в этом мире для женщины — пустое. Если станешь кукушкой — не приходи плакать, не пожалею. А так я жду тебя всегда».
Родителей своих Ольга не помнила. Как оказалась в детдоме — тоже не помнила. Помнила самое начало: ее поставили в угол босиком, было очень холодно, и она простояла там целую вечность, ожидая, что придет мама и заберет ее. Было страшно оттого, что ее никто не замечал, а воспитательница отхлопала ее, а потом толкали и обзывались дети — все, кому не лень. Наказали ее за то, что она дергала за торчащие щеткой кончики волос на выбритой макушке какой-то новенькой девочки. Ей было просто любопытно и странно, как из белой кожи вылезают такие острые, короткие черные волоски, а воспитательница решила, что она обижает девочку. А потом у нее поднялась температура, и она долго жила в больнице. Оказалось, воспаление почек. В больнице ей понравилось больше, и когда ее снова привезли в детдом, она опять стала драться и хулиганить. Но ее больше не били и в угол босиком не ставили – берегли застуженные почки.
Когда Ольга выросла, ей сказали, что ее родители погибли. Но Майя Михайловна постоянно вела с ней разговоры о кукушках — женщинах, которые бросают своих детей.
— Это как самоубийство. Один совершил — и пошло по роду. Обязательно повторится во втором или в третьем поколении, пока кто-нибудь мученичеством или каким другим подвигом не вылечит родовую проказу. Любой смертный грех, как пиявка, впивается в род. Убийцы, воры, блудницы — дают гнилые плоды, грешные. «По плодам их узнаете их», — написано в Библии. Вот и мы по вашим судьбам узнаем о ваших родителях больше, чем написано в документах.
— А что в документах написано про моих родителей?
— Погибли, — кратко сказала Майя Михайловна.
— Я хочу знать все.
— Поживем-увидим, — ответила та.
С тех пор Ольга ощутила себя большим плодом неизвестного растения. Она чувствовала себя, как дыня или кабачок на осенней выставке урожая, которую они ежегодно устраивали в детском доме. На столы выгружались самые крупные тыквы, репа, картошка, свекла. Все подписывалось по сортам, а снизу ставились фамилии — кто вырастил на приусадебном участке этот овощ. У Зиминой была всегда самая крупная морковка и лук.
— Ты, Зимина, — луковая баба, — смеялась ботаничка Валентина Витальевна. — В деревне бывает, ни у кого лук не уродится — мошки поселятся, тля погубит или еще какая напасть, а у луковой бабы — у одной на всю деревню — луку не обобраться каждый год. Будто слово какое знает. Не скажешь, какое слово, Оль?
— Скажу, — улыбалась хитро Оля, — Пятерку поставите, скажу.
— Я тебе две пятерки поставлю, только скажи!
— Я его просто люблю. Больше других растений. Сажать люблю, полоть люблю, поливать люблю. И он меня любит.
— Ты ему об этом говоришь?
— Конечно. Всякие слова говорю. Он радуется и растет.
— Вот так и с человеком, Оленька! — поднимала вверх указательный палец ботаничка, не забывая ни на минуту, что она в первую очередь педагог и призвана воспитывать детей. — Если ребенку говорить ласковые добрые слова, если растить его с любовью, то он растет не по дням, а по часам и душа у него растет добрая, а если со злом его растить, отталкивать, то вырастет «обоиш».
— Что это — «обоиш»?
— Это ребенок, которому все крылья обили, все мечты разбили и самого все время только били.
И Ольга ощущала себя побитой, помятой тыквой, желтеющей по центру длинного стола, смастеренного из сдвинутых парт.
Она мысленно всегда разглядывала себя со всех сторон, отмечая вмятины, царапины и пробоины на крепкой, желтой кожуре плода и все не могла добраться до сердцевины, расмотреть плод изнутри — что в нем — зрелые семечки или пустота, прогнившая слякоть. А если семечки, то какие они — горькие, пустые, полные и спелые? Нет ли внутри тыквы уродливых, сросшихся в ком зерен блуда, или воровства, или предательства? Ольга не знала себя, потому что круглая тыква взялась неведомо откуда на этом столе, она была выращена не на их приусадебном участке, Ольга не видела ни почвы, ни семян, ни корней ее, ни листьев. Она все могла сказать про лук, но про тыкву — ничего, кроме того, что та была хороша.
По плодам их узнаете их… Во время тихого часа, когда не спалось, а воспитательница или няня ходили по очереди между рядами и строго заглядывали в лица детей, Ольга отворачивалась к стенке или накрывалась наглухо одеялом, чтобы побыть одной, но так было не положено. Няня сдирала гневно одеяло, заставляла лечь на бок, положить ручки под щечку и закрыть глаза. Оля послушно складывала ладошки лодочкой и ложилась на бочок. Но сон не шел, а няня сердито шаркала стоптанными тапками.
— Зимина! — злобно шипела она, чтобы не разбудить других детей, — Компот ты не получишь! Еще раз увижу, что не спишь — не получишь печенья.
Оля любила компот, особенно, если попадался оранжевый, разварившийся абрикос. Она копила абрикосовые косточки, и в ее шкафчике, в самом укромном месте в белом носовом платочке лежало уже шесть накопленных косточек. Четыре компота подряд были без абрикосов. Значит, всего прошло десять дней. Когда пройдет еще пять, Оля торжественно перещелкает косточки в туалете, подкладывая их по одной в дверную щель и нежно прижимая ее, так, чтобы не раскрошить вместе с косточкой сладкое-сладкое зернышко.
Она крепко зажмуривала глаза и сжимала губы, стараясь не расплакаться от обиды и тайно надеясь, что няня забудет о своей угрозе. Чтобы дотерпеть до конца тихого часа, она мысленно забиралась в шкаф с игрушками, на самую верхнюю полку, где стояли красивые новые куклы, мягкий медведь и плюшевый заяц — новые игрушки, в которые не разрешалось играть. Она представляла себя маленькой-маленькой, как пупсик, меньше, чем кукла. Она разглядывала вблизи красавицу, трогала ее волосы, ресницы, опускала их, а кукла моргала, потому что была моргающей. Потом Оля решительно представляла себя побольше, такой, чтобы можно было взять куклу на руки и послушать, как она плачет и кричит «ма-ма». Она поднимала тяжелую, моргающую куклу, наклоняла ее вниз головой и, не услышав долгожданного звука, в ужасе открывала глаза, вытаращив их на эту самую полку, боялась, что кукла сломалась. А полка начинала шататься от Олиного веса, потому что она представила себя слишком большой, такой большой, что чуть не упала оттуда вместе с красавицей-куклой.
— Нельзя такой большой на полку! Только пупсиком! — шептала Оля.
— Куда тебе нельзя? — грозно нависала над ней няня.
— На полку, — испуганно признавалась Оля.
— Мое терпение лопнуло. Без компота и без печенья сегодня будешь! Ручки под щечку! — командовала няня железным, равнодушным голосом.
Оля послушно складывала ладошки лодочкой и снова закрывала глаза и мысленно заставляла себя спрятаться в большой резиновый мячик, который был проколот, валялся в углу, и в него никто уже не играл. Оля уже совсем реально представляла уютное, темное пространство внутри мяча, так надежно охранявшее ее от всех людей. Это пространство вкусно пахло резиной, на стенах не было окон, а пол был неровным, скользким, мягким, уходящим из-под ног, по которому она шла, шла, а мячик из-за этого, наверное, катился.
— Фу ты, чуть не упала, — восхищенно восклицала Оля и хваталась в испуге ладошками за щечки.
— Зимина! Вставай! Иди за мной.
Сонное тепло одеяла вмиг растворялось в железном голосе и в холодном воздухе большого зала спальни.
Няня, содрав с нее одеяло, строгими шагами шла к столу записывать в журнал ее фамилию.
Оля робко вставала с кровати и, краснея от стыда, под хихиканье притворяющихся спящими детей, шла за няней в одних трусиках и маечке.
— Платье-то надень, наглое отродье! — шипела няня, — Уже взрослая девка, а ходишь голышом!
Няня ее не любила. Оля возвращалась к стульчику, дрожащими руками натягивала фланелевое полинялое платье с номерком на подоле и снова шла к столу.
— Выходи вон из спальни, — шепотом командовала няня.
— Скажите, — шептала ей Оля, — Я очень некрасивая?
— Иди вон из спальни, я тебе сказала, — шипела няня.
— Я некрасивая?
— Я устала от тебя, красавица!
— За что вы меня так не любите?
— А за что тебя любить? — возмущенно шептала няня. — За твое возмутительное поведение?
— За просто так, — отвечала Оля, — Не надо любить, только не любить — не надо.
Ольга прилегла на диван, зажмурила глаза и сжала губы, чтобы не разрыдаться. Она сложила ладошки лодочкой, сунула их под щечку и постаралась уснуть хоть на несколько минут, чтобы отрезать забытьем ненужные картины, оторваться от этого тяжелого, ползущего позади хвоста.
«Ручки под щечку!»— прозвучал в голове ледяной, железный ее собственный голос, которым она усыпляла Ваньку. Она вздрогнула, проверила, на месте ли ее руки и, судорожно сжав их в кулаки, вскочила с дивана.
«Вон из спальни! Ты не получишь компота! Противный мальчишка!»— шипел ее голос, как будто рядом был провинившийся сын.
Ольга лихорадочно обулась, накинула Тимохину куртку и поспешила на улицу.
Глава 14
— Тетя Лида, — канючил Ванька, — ну давай, поговорим про страны!
— Что про них говорить, Иван. — Их надо изучать. Для начала — разглядывать на карте, читать, учить учебник географии. Пока нет возможности узнать страну изнутри, надо подбираться к ней издалека.
— У нас нет географии.
— Бери глобус, иди к деду, он тебе расскажет.
— Он только Европу знает. Он ее по-пластонски пропахал.
Лида насторожилась. Ложка, которой она помешивала кашу, замерла в руке.
— Почему ты сказал это с сарказмом?
— Что такое сарказм? — уточнил Ванька.
— Ирония.
— Что такое — ирония?
— Где-то почти смех, скорее, усмешка…
— Юмор?
— Не совсем. ..
— Ну какой тут может быть юмор, тетя Лида, — помотал серьезно головой Ванька, — Поползай на брюхе вдоль Европы, да еще и под огнем врага. Вот нашли смешное!
— Иван! — прервала его Лида, — Ты не хитри! Ты меня разводишь все время, как маленькую!
— Как маленькую лохушку, — уточнил Ванька.
— Что такое — лохушка?
— Это типа — совок.
— Что такое — совок? — спросила Лида сухо.
— Это, Зойка сказала — советские люди.
— Да? Зоя? И какие ж они, эти совки?
— Доверчивые, глупые, как дети. Как ты.
— Отлично! — сказала Лида.
Она швырнула ложку на стол, железо загромыхало по тарелкам, и Ванька плавно сполз с табуретки, неслышно юркнул мимо нее.
— Дед — лох, я — лох, бабушка в деревне мучается одна — тоже лох, родители твои советские — тоже лохи. А вы с Зойкой — не лохи! Кто ж вы?
— Мы русские… — брякнул Ванька.
— Какие ж вы вы русские, если вы — не лохи? — ядовито спросила Лида.
— Мы с Зойкой — новые русские, — провозгласил Ванька. — А новые русские — не лохи, — важно добавил он.
— Этому тебя тоже Зоя научила?
— Ага, она сейчас придет из музыкашки. Поведет меня на каток. И никакого ей отдыха со мной.
— Хорошо, я доберусь до этого учителя! — пообещала Лида. — Что она еще тебе говорила? Например, насчет стран?
— Да всякое говорила, — отмахнулся Ванька.
--- А точнее?
--- Не помню. Хорошего мало. Безобразия в мире нынче творятся. Никакой политики не соблюдают, творят, что хотят, лишь бы денег побольше наворовать.
— Понятно, — кивнула Лида, — Когда, ты говоришь, она придет из музыкашки?
— Да вот через часик-другой, если к подружкам не забежит или к дружкам.
— К каким дружкам?
— Девица взрослая, как без дружков? — вздохнул Ванька, — Уж пора, пора…
— Иван! — воскликнула Лида, — Я всегда опасалась, что вы вдвоем вгоните в гроб деда, но теперь я уверена, что это случится сначала со мной! Мне не справиться с вами! — воскликнула Лида в отчаянье.
— Справишься, куда ты денешься, — по-отечески подбодрил Ванька. — И не с такими справлялась.— А я еще хотел сказать про Яну Васильевну.
— Что про Яну Васильевну?!
— Важное скажу. Они с дедом шушукаются. Тайна у них есть какая-то… Не поженились бы!
— Не приучайся наушничать.
— Не навредила бы она, невеста эта, нашему дому, — задумчиво произнес Ванька.
— Нельзя не доверять близким людям.
— Никакая она нам не близкая. Чужая кровь.
— Она нас любит, мы ее тоже, значит, — своя. Не надо бояться людей, Ваня, а то они будут тебя обижать. Твой страх может спровоцировать других на плохие поступки, породить агрессию. А доброжелательность, искренность рождает добро. Вот и выбирай.
— Да я бы выбрал, но каждый раз задумываюсь…
— Недоверчивый ты.
— Верить можно только Богу, а больше никому. Самому себе даже нельзя верить, не то что чужим людям.
Лида остановилась на ходу, медленно оглянулась:
— Ты так думаешь?
— Не думаю, а знаю. Сведи меня в церковь.
--- Мне нужно на работу, я опаздываю, - заволновалась Лида.
Ванька до сих пор был некрещеным и крестить его без родителей она не смела.
— Вы меня не берете, потому что я — нехристь. Сами крещеные, один я — нехристь.
Лида накинула шубу и стала застегивать пуговицы. Руки ее задрожали, и пуговица не поддавались. Неожиданный поворот разговора испугал ее.
Ванька терся рядом, поглаживая мягкий зеленый мех расклешенных пол. Он заглядывал снизу вверх в ее глаза, как слабый, обиженный людьми котенок.
— Меня Бог не видит. И ангела-хранителя у меня из-за этого нет. Я же не могу пойти сам и окреститься.
Лида присела перед ним на корточки:
— Хорошо. В воскресенье пойдем.
Ванька потерся щекой о ее плечо, и синтетический мех шубы щелкнул электрическим разрядом.. Волосики на Ванькиной макушке поднялись дыбом, оба ойкнули и засмеялись, отчего Лида пошатнулась на корточках и, хватая руками воздух, чуть не завалилась набок. Ванька успел схватить ее за воротник, напряженно уцепившись за ворс, старался держать ее.
— Вставай, вставай, — подбадривал он, обхватив ручонками за шею, якобы не давая упасть, но на самом деле тревожно, трепетно и крепко обнимая.
* * *
В кафе, где была назначена встреча, посетители недовольно попивали кофе из крошечных чашечек, щуря глаза то ли от удовольствия, то ли от напряжения, то ли от едкого табачного дыма. Лида села за столик, пододвинула поближе чашку и развернула газету, которую всучил ей настырный подросток возле метро. Вернее, не настырный, а отчаянный. Газеты никто не брал, и он налетел на Лиду маленьким коршуном-подранком, пихая ей в руки газету, будто сам написал в ней все статьи, издал и оплатил, а теперь очень хотел, чтобы именно она прочитала.
Но читать там было нечего. Лида свернула газету и задумчиво уставилась на мужчину в дальнем углу кафе. Вот бы Зойку устроить раздавать у метро газеты и прочую рекламную продукцию. Так она не пойдет. Нет, не пойдет. Скривит накрашенные губки и сморщит нос. Скажет, мое дело — учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал вам великий Ленин и как учила вас коммунистическая партия, чтобы не жить так, как мы сейчас живем. «Твое дело — выйти замуж за любимого человека, родить детей и содержать в порядке семью. Учеба — не главное для женщины». — скажет Лида, а та ответит: «Еще чего не хватало! Замуж выходить! Чтобы потом развестись и растить детей одной? У нас примеры есть. Они рядом». «У нас примеры есть и с учеными. По два института закончившими», — возразит Лида. «Хорошо, тогда я и учиться не буду, — заявит Зойка, — Пойду газеты раздавать»
Зойку не переспоришь. Зойка имеет редкий дар – сокрушительно и победоносно обороняться.
— О! — вздыхал дед, — Эта наша Зойка вас всех перепрыгнет. У нее душа разумная.
— А у меня? — спрашивала Лида.
— А у тебя ум душевный. Это тяжело. Зоя хоть и добрая, но осторожная. Она жалеет по выбору. Она людей сортировать умеет, а ты нет. Тебе — все свои, все хорошие, а у нее четко разграничены: свои и чужие..
— Чужих не бывает. Чужие — те, которых мы не знаем. Остальные — свои.
— А вот ты с ней поговори об этом, — посоветовал дед. — Она, может, что и дельное тебе подскажет. Она все делит пополам: черное — белое, день — ночь, добро — зло, свой — чужой, друг — враг.
Мужчина в дальнем углу кафе приветливо кивнул и отставил в сторону чашечку с кофе, выжидающе глядя на Лиду.
Лида растерянно замигала и, схватив газету, быстро развернула ее и снова принялась читать. Она слишком долго взирала в никуда, и он принял ее взгляд за знак внимания. Лида глянула на мужчину поверх листа, тот разочарованно придвинул кофе и решительно утопил в крупной руке мелкую, как белый зубик чашечку. Он поднес ее ко рту и было непонятно, что он пил из нее так долго? Вся чашка — не больше куска сахара — содержала такое количество кофе, которое выпивалось в течение получаса. Эти странные, еще недавно чужие, не свои манеры, легко прижились и были послушно приняты.. Идти в кафе и пить кофе, мучительно пытаясь ухватить толстыми пальцами игрушечную ручку нарочной чашечки, стало также необходимо и нормально, как купить жетон и пройти через турникет.
— Добрый день! — прозвучало над ее головой.
Лида дежурно приветливо улыбнулась, быстро свернула газету и подняла лицо. Якобы ласковая улыбка медленно, как зимний сугроб от яркого солнца стала таять и сползать с ее губ бесконтрольно и невольно. Лицо ее вытянулось и побледнело. Она переводила взгляд с одного мужчины на другого, пока не услышала, наконец:
— Извините, еще раз. Мы немного опоздали.
— Да-да, — кивнула Лида. — Очень приятно.
— Нам тоже очень приятно, — не растерялся мужчина, — Я — Анатолий, тот самый, от Сергея Степановича.
— Ничего страшного, — зачем-то успокоила его Лида.
Анатолий озадаченно запнулся.
— Я пойду закажу кофе, — мрачно сказал второй.
— Мне, пожалуйста, чай, — попросила Лида, исподлобья разглядывая его.
— Я вас не познакомил, это — Вадим. — мимоходом добавил Анатолий. — Закажи мне два пирожных.
— Очень приятно, — тихо ответила Лида, глядя мимо Вадима в дальний угол кафе на пустой столик, где несколько минут назад пил кофе незнакомый мужчина.
— Мне тоже, — буркнул Вадим, — Два кофе? — спросил он Анатолия.
— Не тормози, — рыкнул тот. — Пирожных два, а кофе один. Потом другой. Но сначала один. И чай один.
Он придвинул стул поближе к Лиде, уселся по-хозяйски удобно и начал разговор, провожая взглядом широкую спину Вадима.
Говорил он быстро и путано, торопливо съедая окончания слов и переставляя их местами, неверно строил предложения. «Кто плохо говорит, тот плохо мыслит», — подумала Лида сочувственно и настороженно. Анатолий изредка косился по сторонам. Это типичное бегание глаз, так знакомое Лиде по ее подзащитным уголовникам, открывало весь подтекст, и высвечивало второе дно. Хотя Толик предлагал ей работу с правовыми и законными методами решения вопросов.
— Оплата ежемесячная. Считайте, что вы поступаете на работу в фирму.
— К кому?
— Например, ко мне. Или к Сергею Степановичу.
— Что за фирма?
— Вы не знаете разве, что Сергей Степанович веников не вяжет?
— Я только знаю, что защищала в суде его сына. И еще знаю по какой статье…
— Отец за сына не отвечает, — отмахнулся Анатолий.
— Увы, не согласна.
— Лидия Павловна! — Толик сделал непроницаемое, чуть оскорбленное или обиженное лицо, и видно было, что он злится. — Наше дело — предложить, ваше дело — отказаться. Суть вопроса вы знаете, а все автобиографии вы можете истребовать у интересующих вас лиц сами. Думаю, что и к базе данных у вас доступ есть.
— Не без этого, — согласилась Лида, — но вы ушли от ответа. Я буду работать с юридическим лицом?
— Конечно! И не с одним, — заулыбался Анатолий. — У нас одни юридические лица.
— По договору?
— Зачем? — удивился Анатолий. — Кому нам его предъявлять? Налоговым органам? Если начинать с недоверия друг другу, то какой смысл работать?
— Хорошо, чтобы избежать недоверия, я позвоню сегодня Сергею Степановичу.
— Это лишнее. Не рекомендую. Я его уполномоченный. Все вопросы через меня, — строго сказал Анатолий.
Лида коротко вздохнула. Вздох получился судорожным, будто она только что безутешно рыдала.
— По рукам? — спросил Анатолий.
— Пока нет.
Анатолий недовольно заерзал на стуле.
— Ну, как говорится, на нет и суда нет. Адвокатов сейчас много, я не стану вас упрашивать. Где наш кофе? Сколько можно покупать? — занервничал он.
Вадим уже подходил с подносом. Он поставил прибор перед Лидой и сел напротив.
— А поднос куда девать? — спросил Анатолий.
— День куда-нибудь, — посоветовал Вадим напряженно.
— Ладно, пусть будет, — согласился Анатолий. — А мы уже тут в двух словах все обсудили. Лидия Павловна в принципе согласна, а детали мы обговорим чуть позже.
Вадим хмуро глянул на Лиду.
— Вадим — он будет ваши, как сказать, ну, - ноги и руки. Куда отвезти, привезти, подстраховать — все с ним.
Лида вежливо и благодарно улыбнулась Вадиму и помешала ложечкой кофе.
— А вы, Анатолий, тоже бывший спортсмен?
— Да, боксер, — кивнул Анатолий, уминая пышное пирожное.
«Хорошо там тебя по голове настучали, судя по всему», — злорадно подумала Лида.
— Скучаете по спорту?
— Неа, пусть он по мне скучает. Я без дела не сижу.
— Все бывшие спортсмены теперь… — начала Лида, в упор глядя на Вадима. Тот выпрямился и побледнел.
— Не все они — тренеры, — сказала Лида, — Зачем столько тренеров, правда?
— Правда, — кивнул Анатолий, — Но тренерскую работу потихоньку ведем.
— Спорт — это жизнь, — вздохнула Лида, — А жизнь — это спорт. Верно, Анатолий?
— Согласен! — кивнул Анатолий.
— Без борьбы не обходится. А борьба без победы — пустой финиш. Фальшивый. — вздохнула Лида и, резко отодвинув чашку, выпрямилась, взяла в руки сумочку и достала визитку.
— Ладно, попробуем потренироваться. Это вам, Вадим. Поскольку теперь вы — мои ноги и руки. Завтра в десять в помещении консультации я жду вас со всеми документами. Пожалуйста, не опаздывайте, потому что в начале я прочитаю вам небольшую лекцию по поводу нашей дальнейшей совместной работы.
— Вот это по-нашему! — восхищенно сказал Толик, — Я так понял, что…мы…вы…короче окей?
— Все правильно поняли. Будем работать. Как в спорте, по правилам, без нарушений. У вас свои правила, а у меня — свои. И в данном случае у нас не боксерский поединок, значит, соблюдать будем мои правила. Так?
— Ну, не думаю, — засомневался Толик, — Что это за правила такие?
«Не все мозги тебе отшибли, чуть оставили на случай атомной войны», — подумала Лида и сказала.
— Правила закона.
— Кто же их сейчас соблюдает? — кисло усмехнулся Толик и протянул руку к Лидиной визитке. Вадим увернулся и спрятал визитку в нагрудный карман, тяжело и хмуро глядя в сторону.
— Я соблюдаю. А вы разве — нет? — наивно спросила Лида, — Жду вас завтра, Вадим. Всего доброго, спасибо за кофе.
Она накинула шубу, не дожидаясь, когда ей ее подадут и поспешила к выходу.
— Пирожное какое-то — дрянь. Вязкое. — недовольно пробурчал Анатолий. — А ты чего сидишь, как сыч надутый, ни слова не сказал? А она тоже — хрен разберешь. Обрадовалась, раскомандовалась, пигалица голозадая…
— Заткнись, — недовольно поморщился Вадим.
— Не понял… — удивился Анатолий.
— Не видишь, что ли, что она не подходит нам? Где ты ее взял?
— Где-где.. Где взял, там уже нет. Нормальная баба, чуть обтесать и будет супер. А ты бы хоть перья распустил, позавлекал бы. Переспать с ней надо, легче дело пойдет.
— Перья зря распускать… Она нас насквозь, как рентгеном. Сижу, вон, облученный.
— Чего, повлияло на потенцию? — заржал Толик.— Да, баба она умная. Под дуру косит. Но выдержанная. Это нам и надо. Степаныч говорил, что она умеет пахать за пятерых.
— Не думаю, — засомневался Вадим, — Гонора в ней много, проблемная. С такими работать тяжело. К тому ж правду хочет найти.
— Проблемная ему! — возмутился Анатолий, — Я тебе говорил, найди сам! Говорил? Мы для чего тебя учим? Вожу его, как телка! Найди, приведи, посади, выслушай капризы! Еще и оплати…
— Я с ней работать не буду. Мне она не понравилась, — отрезал Вадим.
— Кто тебя спросит?
— Я другую найду. У меня есть три на примете. Сейчас и позвоню им.
Вадим вытащил сотовый телефон и стал нервно нажимать кнопки..
— Отвали! — заорал Анатолий, — Эта уже согласна, а с теми еще два дня потеряем. И кофе на пятисотку вылакают. Завтра документы ей отвезешь.
— Нет, — сухо сказал Вадим.
— Повезешь, — сказал Толик.
— Не повезу.
— Не, я не понял, — удивился искренне Анатолий, — Я вообще ничего не понял! — восхитился он своей непонятливости. — Или у тебя крыша съехала?
—Она нам не подходит. Тупая она. Мне про нее говорили, она все испортит, все дела проигрывает, с судьями спорит, на клиентов орет. Иди-от-ка она! И все!
— А чего раньше молчал? – растерялся Толик. - Степаныч говорил…
— Пошел твой Степаныч! И ты тоже туда же! — заорал Вадим. Он вскочил со стула и, размахивая руками, принялся поливать грязью какого-то Василька, Дрему, Бучу, и других.
— Я опять не понял, — тихо прошептал Анатолий, замотал головой и мрачно, медленно, как разъяренный буйвол стал подниматься из-за стола.
— Тебе прям здесь врезать или потом? Без свидетелей?
— Потом, — сказал Вадим, зло дергая молнию на куртке, пытаясь ее застегнуть. Он резко повернулся и направился к выходу под удивленные взгляды посетителей кафе.
* * *
— Папа умер! Папа умер! — восхищенно заголосил Ванька, выбегая в прихожую. Лида растерялась.
— Какой папа? Когда?
— Сейчас вот только. По телевизору сказали.
— Почему — по телевизору?
Лида прислонилась плечом к стене, не зная, раздеваться ей или нет.
— Умер папа! Зой! Умер! — кричал Ванька на всю квартиру.
— Чей папа?! — тонким голосом воскликнула Лида.
— Да ничей. Не наш. Римский! — крикнул Ванька с кухни.
— Фу ты, — облегченно вздохнула Лида, растирая рукой грудь и усмиряя бешенные удары сердца. — Зачем ты меня так напугал?
Она разулась, взяла сумки и понесла их на кухню.
— Зоя, разбери продукты. Ваня, грей ужин. А где твой папа?
— Не пришел еще.
— Дед спит?
— Деда тоже нет.
— Как это — нет деда? — удивилась Лида, зная, что без спросу дед никуда из дома не выходит.
— К Янке-обезьянке помчался. Надушился одеколоном своим вонючим «Шипром» и поскакал.
— Ваня, что за лексика? — дежурно пожурила его Лида, — Зой, сходи за ним, позови ужинать.
— Зачем мешать людям? — равнодушно спросила Зоя, раскладывая в холодильнике по полочкам пакеты, — Насидится — сам придет.
— Хорошо. Дядя Тим не звонил?
— Тим не звонил, — вяло доложила Зоя, — Звонил Стасик. Привет тебе передавал. Собирается навестить.
— Ты сказала, что мы его день и ночь у окна ждем, слезы льем?
— Сказала. Все равно собирается.
— Ну ладно, — вздохнула Лида. — Родителей надо уважать.
— Особенно таких, — уточнила Зоя.
— Любых! Иначе тебя потом не будут уважать твои собственные дети. И не смей называть отца Стасиком!
Зойка примолкла.
— А папа Римский умер! Жалко мне папу! — вздохнул Ванька, переводя тему разговора.
— Ты надоел каркать! — возмутилась Зоя. — Как ворона! Второй час летает по дому и каркает про этого папу.
— Я переживаю, — сказал Ванька. — Теперь ведь придет Антихрист и наступят последние времена.
— С чего ты взял, Ваня? Кто тебя такому учит? — устало возмутилась Лида.
— Папа двадцать семь лет сдерживал его приход. Все говорили, что папа и есть Антихрист, но он им не был. Я это точно знаю. Антихрист придет в Россию. Как будто Царь придет. Добрый такой, ласковый, все обрадуются, а потом как полетит все! Наступают последние времена.
— Кто тебе эту муть сказал, Ваня? Телевизор? — спросила Лида.
— Но не я, — сказала Зоя. — Локаторы отрастил, а ума не прибавляется. Он, мам, ходит по паркам и скверам, на каждую скамейку присядет к бабуськам, дедуськам и бомжам всяким, пока его в мешок когда-нибудь не посадят и не унесут, — пригрозила она.
— Зачем ты к бомжам садишься? — испугалась Лида.
— Наберется этой мути, а потом мне ее рассказывает. Летает по дому, как ворона и каркает! — воодушивилась Зоя.
— Да? — выпучил светлые глазки Ванька, — А вы разве не знали?! Они ведь, католики, как меч взяли, так и пошли с мечом на православных! Сколько было крестовых походов против истинной веры? Ну-ка, Зоя! Ну-ка?
— Отстань, — скривилась Зоя.
— А вот и не отстану, — не обиделся Ванька. — У них в этом мече, в его рукоятке, знаете что заложено? Знаете?
Он сделал таинственное лицо, будто собирался сообщить страшную многовековую, никому не известную тайну.
— Вот они тебе доложили, телеграмму прислали, — усмехнулась Зоя.
— Там копье. То самое, которым стражник колол грудь Христа! — воскликнул Ванька. — И опять они с этим копьем против Христа пойдут с его именем. Лукавые!
— А вот это кто тебе сказал? — спросила Лида напряженно.
— Это по телевизору передавали. Я передачу смотрел про меч.
— Там так и сказали про копье? — уточнила Лида.
— Не совсем так. Кое-что я сам могу почувствовать. Я догадался. — серьезно сказал Ванька, — Простое-то копье уж вряд ли сделают святыней. Да и с чем еще против православия идти, чем колоть Церковь в грудь? Простое копье они своей святыней делать не станут.
— Боже! — тихо прошептала Лида. - За что я должна страдать? Я не разбираюсь в этих вопросах. Не трогайте, пожалуйста такие темы. Я бессильна объяснить вам что-либо, но чувствую, что вы рассуждаете о чем-то очень опасном, что это нельзя вам делать. Вы кощунствуете!
— По вере вашей и получите вы, — вздохнула Зойка.
— Ты это — к чему? К тому, что я плохо что-то делаю? – насторожилась Лида.
— Надо уважать чужую веру, — многозначительно сказала Зойка.
— Вот именно, Иван! — подхватила Лида, — Не говори плохо о католиках. Надо уважать..
— Я имела в виду православие, — строго поправила Зоя, — Своим незнанием ты не уважаешь нашу веру.
— Она мне не чужая. Я тоже православная.
— Какая ты православная? — вздохнула Зоя. — Ты в церкви-то когда была? Год назад?
— Можно в церковь не ходить и быть верующим человеком. Я молитвы знаю, я крещусь, я… — сказала Лида робко, как на приеме у врача.
— Стыдливо ты как-то веруешь, чтобы никто, не дай Бог, не прознал. Так?
Зойка пристально смотрела матери в глаза.
— И молишься тайно, чтобы никто не услышал, так?
— А разве я не имею право? Разве надо всенародно?
— Ты когда в церкви молишься, прячешься от людей?
— Нет.
— А дома почему прячешься?
— Нет, нет, Зой! — пошел в атаку Ванька, — Ей не стыдно, просто она устает с людьми говорить, а хочет поговорить с Богом. Ей больше не с кем, Зоя!
Лида судорожно вздохнула.
— Вы хотите, чтобы я ушла? — спросила она обиженно.
— Да ничего мы не хотим, — вяло сказала Зойка, — Просто нам не с кого брать пример. Дом должен быть как церковь. А у нас — как ночлежка. Поесть, поспать, постирать, дальше бежать зарабатывать на жизнь, чтобы поесть, поспать, постирать… Плохо у нас. Не верно, не по вере.
— Ну не ешьте, не спите, — предложила Лида, чувствуя, что начинает злиться на дочь от своего бессилия.
— Тогда наш дом будет совсем ни к чему, — отрезала Зоя и вышла из кухни.
Ванька заерзал на стуле.
— Чего-то она злая сегодня. Наверное, Сереженька не позвонил, — сказал он озабоченно. — Пойду, спрошу у деда, звонил или нет. Да заодно приведу его домой, а то все по сторонам разбежались. К тому ж и папа умер.
— Хватит! — хлопнула ладонью по столу Лида, — Я сейчас тебя накажу! Заладил одно и то же! Ванька испуганно замигал.
— Хватит про папу! Церковь — это не шутка! Не детского ума дело! Не сметь рассуждать о том, до чего нос не дорос!
— А как же ему дорасти, если я ничего не знаю.
— Я расскажу! — воскликнула Лида в сердцах и тут же запнулась. — Завтра возьму в библиотеке книги и буду готовиться. Я, честно говоря, сама ничего не знаю. Изучу — и расскажу. Ну скажи, как я могу креститься открыто, если за все детство мое ни разу никто при мне не перекрестился, если бабушка прятала иконы в шкафу, потому что иконы нельзя было хранить дома. За это наказывали.
— Почему? — удивился Ванька.
— Потому. Иди за дедом. Пусть он расскажет.
— О, нет! Это мне не рассказчик. Я уже спрашивал. Он говорит так: Ваня, Бог есть. Это точно. Но Сталину я верил больше. И крестится при этом. Что с ним после такого можно обсуждать? Но я все равно за ним схожу, а то приживется там у нее, приучит она его к своим «пеценьям и дваникам», будет домой не зазвать.
Ванька ушел с кухни, а Лида принялась готовить ужин. Пару раз она неуверенным голосом позвала Зою, но та не пришла — то ли не услышала, то ли сделала вид, что не услышала.
Глава 14
Тимофей расстегнул куртку и стал ее неловко снимать, отпихивая прижавшихся к нему вплотную, крепко надушенных женщин. Те недовольно зашелестели пачками исписаных листов, которые держали у себя на коленках. Тимофей тихо извинился и, свернув куртку, устроил ее у себя на коленках. В небольшом зале, набитом до отказа людьми, было душно и тяжело. Воздух, густой, как прозрачный дым, не заполонял легкие, а только раскалял лицо, и казалось, что жаждущие легкие растут, разбухают где-то внутри, выдавливая наружу бухающее сердце. Кто-то слабо попросил открыть форточку и дверь, но его не услышали. Мрачный воздух был наполнен стихотворными строками, которые заменяли его, и присутствующие терпеливо и внимательно слушали возбужденного поэта. Стихи были плохими и темными. Тимоха отчаянно мучился и страстно желал уйти, но уходить было неловко.
— Спасибо, — прервал поэта Александр Сергеевич, важно сидящий во главе стола под бумажной ксерокопией портрета своего гениального тезки. Александр Сергеевич уже не был похож на бомжа, собиравшего пустые банки, напротив, он был строг и изящен в светлом пиджаке и коричневой рубашке. Седые волосы и окладистая, аккуратная борода с проседью делали его похожим на Льва Толстого, профессора Преображенского, священника Николая и на Карла Маркса тоже.
— А теперь я предлагаю выступить перед слушателями нашему прекрасному поэту, молодому, подающему надежды, вернувшемуся из длительной командировки, — Тимофею Примерову!
Зал оживился, зашушукался и заворчал. Тимоха вздрогнул, уловив в ворчании недовольство, недоверие и неприязнь, направленные против неправды. Возраст для поэта у Тимохи был уже не совсем молодой, а потому подавать особые надежды он уже не мог. Первым его желанием было встать и послать всех куда сами захотят идти, а также высказать свое мнение о стихах предыдущих ораторов. Но, поднявшись с места, он пересилил себя, свое бешено колотившееся сердце, возмущенные легкие звенящую голову, и чеканным шагом направился к столу.
Александр Сергеевич непроницаемым, холодным взглядом окинул его фигуру и равнодушно отвернулся к стене. Тимоха понял, что тот умыл руки и предоставил его на суд толпы и что настал час подведения итогов за два украденных у самого себя года, час отчета не перед сидящими в зале писателями и поэтами, а перед самим собой. Глубоко вдохнув воздух, забрав полные легкие изнурительного жара аудитории, он начал читать.
Стихи свои он помнил наизусть. Они были сильнее любых слов и вытесняли из памяти все лишнее, все что им не нравилось. Стихи были силой Тимохи, скрытой, дремлющей до поры до времени, неуправляемой стихией. И вот время пришло. Сейчас он тщательно выговаривал слова, которые сотни дней и ночей крутились, перебирались в его голове, как острые, угловатые, колючие камушки, которые обтесались, округлились, стали весомыми, гладкими, приятно прохладными. Ветер времени развеял пыль и песок, содранный с их краев, и теперь они, как блестящие шарики в руках жонглера, мелькали один за другим бесконечной чередой, игрались, прыгали, мелькали, сияли бликами неизвестного происхождения, завораживая и одурачивая зрителей.
Одурачивая тем, что этот сияющий круг из скользящих золотистых шариков, образовавшийся в процессе их движения, эта искрящаяся бутафория, вспышки зигзагов — все это было обманом зрения, результатом ловкости жонглера, плодом его многодневных профессиональных тренировок. Слова цеплялись друг за друга, рассыпались на части, переливались одно в другое, потом снова становились в строгие ряды, будто шарики были соединены между собой бесконечным количеством резинок, и когда руки жонглера уставали, то шарики двигались сами, послушные энергии резины. И тогда жонглер отходил в сторону, поддерживая конструкцию на весу только своим волевым присутствием, а движение продолжалось по инерции, будто был включен вечный двигатель, пока шарики, не теряли свои силы в столкновениях друг с другом, а потом начинали запутываться в резинках.
Жонглер спешил им на помощь, но сам попадал в невидимые сети и начинал сомневаться: не лучше ли было закончить номер вовремя, пока все было красиво и стройно. Но было поздно, вся конструкция падала на пол кучкой загадочного хлама — тяжелых гладких глыб в паутине резиновых времен, еще недавно так восхитительно властвующих над слухом и разумом. На самом деле всякое слово — было камнем, который можно бросить или подобрать на всякий случай.
— Графоман! — воскликнули на задних рядах и это прозвучало как «шарлатан». Тяжелые шарики выпали из рук жонглера и утонули в напряженной, вязкой тишине. Тимоха поежился. Зал настороженно молчал. Александр Сергеевич выпрямился и назидательно простучал карандашом по столу азбукой Морзе какое-то неизвестное усмирительное слово.
Тимоха пристально смотрел в задние ряды. Еще минута и он бросил бы туда перчатку, вызвав крикуна на дуэль, если бы это было теперь принято, и если бы перчатка у него была. И тогда он тихо продолжил:
Когда сомнением полна, собой гонима,
Во тьме – неузнанной - вина проходит мимо,
Не зацепляясь за края столов и стульев,
В опасной близости паря жужжащим ульем…
Он не знал, откуда эти стихи. Их раньше не было нигде. Они рождались на ходу, будто приходили из воздуха или были высечены на какой-то табличке в глубине памяти, так глубоко, что он совсем забыл про них.
Тогда закрыв свои глаза, я счастье вижу:
Оно следит за мной, скользя по краю крыши…
Он удивлено замер.
— Это другое дело, — донеслось из задних рядов. — Это уже стихи.
— Кто там все время мешает? — рассердился Александр Сергеевич, — Что за знатоки такие? Обсуждать будем после прочтения. Первый час читаем, второй час — обсуждаем! Продолжайте, Тимофей.
Тимоха судорожно расстегнул ворот рубашки и прохрипел:
— Да, собственно говоря, все пока…
— Маловато будет! Для двух-то лет, — донеслось из задних рядов.
— Чем богаты, — буркнул Тимофей и побрел на свое место.
Две дамы, охранявшие его куртку, ободряюще заулыбались. Тимоха плюхнулся на свое место, обхватив руками куртку и прижимая ее, как ребенка, защищая свою бурно вздымающуюся грудь от пристальных взглядов. Все остальные выступления он почти не слышал. Он повторял возникшие из ниоткуда стихи, боясь их забыть, пока не додумался попросить у соседки ручку и листок бумаги.
В кафе с поэтами он не пошел. Все эти люди, дышавшие с ним одним переполненным воздухом, показались ему чужими и враждебными. Сейчас они находились по разные стороны жизни: Тимоха наблюдал за всем со стороны, ожидая минуту, когда можно будет шагнуть к ним, как к своим, а они, не обращая на него внимания, трудились, как сосредоточенные муравьи, или, скорее, как пчелки. Или как осы. И ему, не став осой, влетать в улей было смертельно опасно. Да и не нужно.
Тимоха вышел из подвороти и быстрым шагом направился по Невскому в сторону метро. Вечерний Невский сиял огнями, неоновыми иностранными буквами реклам и названий магазинов, накрашенными женскими лицами и припорошенным снежинками мехом шуб. Тимоха, как черная тень в этом чужом, неуютном блеске скользил, боясь коснуться и потушить хотя бы искорку этого зыбкого сияния, боясь обжечь свою темную, жалкую оболочку холодными, опасными лучами, словно они могли растворить ее и обнажить то, что он бережно нес сейчас домой — эти несколько продиктованных ему строк.
Он поспешно нырнул в метро, поминутно извиняясь за толчки и едва держась на ногах от голода и усталости. В электричке была давка, и он с трудом втиснулся внутрь вагона, сдерживая нахлынувшее раздражение и отчаяние.
От метро он почти бежал. Груды домов, нависшие над ним, как старые грибы над осенним муравьем, были грозными и опасными, будто прогнили изнутри, зачервивели и стали трухлявыми и легкими. Они возвышались шатко, готовые в любую минуту рухнуть и рассыпаться, и превратиться в сухой песок вперемешку с кишащими червями.
Тимоха вбежал в свой двор-колодец через черную подворотню, спотыкаясь о люки и проваливаясь в выбоины асфальта. Перевел дух возле подъезда. Над дверью ярко сияла новая лампочка, и у Тимохи сразу посветлело на душе. Он, прищурясь, огляделся и решил перекурить, чтобы отвязаться от одного состояния и перейти к другому.
Тимоха достал спички, подошел к капоту старой машины и прислонился к нему. Закурив, пристально вгляделся в надписи, оставленные им на слежавшемся снегу капота. Снег был тщательно прихлопнут чьей-то рукой и на нем, как на листе бумаги, были выведены четкие печатные буквы:
Мы уходим в пустыню, где нету воды,
Тимоха изумленно прочитал строку, не узнавая утренние слова, и прошептал ей в ответ:
Где два шага до ада по зыбкому зною…
Он вдруг увидел эту пустыню, плавящуюся от жара, ему стало трудно дышать, он захрипел и прошептал, дрожа от холода:
Где до солнца дотронуться можно рукою,
Где покою неведомо знанье беды.
Его затрясло. Он прихлопнул снег на капоте рукой и быстро вывел пальцем: «Зною, покою, беды, до ада» «Остальное вспомню»— подумал он и пошел в подъезд.
Нервной рукой достал ключ и, пытаясь попасть в полутьме в замочную скважину, уловил четкие строки:
Каждое утро холодным, опасным ключом
Ржавое пузо вспоров обезболенной двери,
Я из неверия — в веру, из веры — в неверье
Бодро шагаю с сумой и тюрьмой за плечом.
Ключ громко щелкнул четыре раза и вспоротое пузо двери распахнулось, обнажив тускло освещенные внутренности прихожей. Тимоха громыхнул засовом и на цыпочках пошел в дедову комнату. Паркет заговорчески прошушукал, и Тимоха, юркнул в комнату, чтобы отыскать там бумагу и ручку. Ничего на свете в этот момент не было для него важнее этих внезапных, как вспышки молнии в черную ночь, ослепительных строк. Он подошел к столу и стоя принялся писать на первом попавшемся под руку листе бумаги. Бумага была исписана, и его кривые строчки ложились крупно и неровно поперек текста.
— Ты что делаешь?! — раздался за спиной удивленный возглас Лиды.
— Подожди, подожди! — отмахнулся Тимоха.
— Ты в своем уме? Отдай!
— Да подожди, пожалуйста!
— Тима, это нотариально заверенный документ! — тихо воскликнула Лида, — Это доверенность, Тим! Я с ней завтра в суд должна идти!
— Сейчас, сейчас, — кивнул Тимоха, дописывая слово. Поставив точку, он сел а стул, потер взмокший от напряжения лоб и, подняв а Лиду счастливые глаза, слабо улыбнулся.
Лида оторопело смотрела на брата.
— Ты испортил мне документ, — сказала она.
Тимоха кивнул и расстегнул куртку.
— Я сейчас перепишу, не переживай. Понимаешь, пошло! Я включился.
— Во что?
— Не знаю. Попал в канал. Или он попал в меня. Это редко бывает. Прости, я тут написал на какой-то твоей бумаге. Это ничего.
Он взял в руки доверенность, свернул ее пополам и сунул за пазуху.
— Отдай! — потребовала Лида.
— Потом, потом.
— Отдай, больной!
— Дай мне чистую тетрадку.
Лида послушно достала с полки чистую тетрадь и протянула ему.
— Я так понимаю, что ночью сегодня ты будешь бродить, курить и пить чай? Тогда постели тюфяк на кухне оттуда ни ногой. Даже в коридор!
— Хорошо, — радостно кивнул Тимоха, — Я закроюсь и буду работать. Понимаешь, пошли стихи. Настоящие! Внезапно!
— Я все понимаю, — согласилась Лида, — Я вас всех понимаю, но во мне всегда звучит безответное слово — зачем?
— А ты его напиши, и оно перестанет звучать. Отдай его бумаге, и оно не будет тебя мучить.
Лида медленным движением забрала из рук брата тетрадь и ручку, присела на диван и крупными буквами вывела на зеленой обложке слово «Зачем?»
— На.
Она протянула ему тетрадку, как будто подписала постановление об его освобождении.
— Ну, не звучит теперь? — спросил Тимоха.
— Это теперь не звучит, — медленно, задумчиво произнесла Лида, — Теперь звучит другое.
— На, напиши его.
Тимоха радостно, с готовностью протянул тетрадь.
— Это не одно слово. Их несколько. И писать нельзя, вдруг дети прочитают.
— Ну-у, — недовольно протянул Тимоха и, прижав тетрадку к груди, осуждающе посмотрел на сестру, — Это грубо…
— Рожденный ползать летать не может, — устало вздохнула Лида, — Раздевайся, мойся, ешь и ложись спать. И вспомни, пожалуйста, перед сном, что у тебя есть сын. Ты еще ни разу с ним не поговорил.
— Он не хочет, — сказал Тимоха.
— Ты пытался?
— Пытался.
— Плохо пытался. Попытайся еще раз. Он отвык от тебя, надо приучать заново.
— Сам привыкнет потихоньку.
— Он ждет. Он — мужчина. Он прощает только женщин. И ты дождешься мести.
— Я — отец!
— Сначала докажи ему это. Он не знает, что такое отец. Он не знает, что такое мать. Он перепутал все на свете и просит все разложить ему по полочкам. Кроме ласки и теплоты я ничего не могу ему дать. Заменить мать я с трудом могу, хотя ты сам понимаешь, что такое — заменитель. Но заменить отца ему не сможет никто, даже дед. Ты понимаешь это?
— Я понимаю…
— Возьми его на ладошки. Как цыпленка, — осторожно предложила Лида.
Тимоха криво усмехнулся и побледнел.
— Согрей его, напои слюной, утешь дыханием, приласкай, обереги… Только не жми сильно, не придуши…
— Лида! — прервал ее Тимоха, — Не смей вспоминать это! Тот цыпленок, которого он «зажалел» в детстве, и сейчас часто снился ему.
— Возьми его на ладошки, как цыпленка, — повторила Лида, будто не слышала ни его, ни саму себя, — Пожалей, полюби, только не…
— Хватит! Как зомби! — крикнул Тимоха и вскочил со стула.
— Отдай доверенность! — строго сказала Лида. — Перепиши и положи на стол! — велела она, тоже резко встала и пошла вон из комнаты. В дверях она оглянулась и властно повторила:
— А тебя не прошу, я тебе приказываю: возьми его на ладошки!
Глава 16
Маринка вся сияла и светилась и излучала бешеное количество положительной энергии, несмотря на свой токсикоз.
— Замучилась! Тошнит все время! — счастливо жаловалась она, жуя десятую конфету.
Она не переставала улыбаться, даже когда ела, а в уголках рта появились привычные улыбчивые складочки.
— У тебя мимические морщинки. — Лида погладила Маринкину щеку. — Это от счастья бывает так. Это красиво…
Приготовившаяся было обидеться Маринка, снова радостно заулыбалась:
— А мне какая разница? Мне не на сцене выступать. Мне теперь пеленки-распашонки стирать, попки мыть, кастрюльками греметь. Господи! Услышал Ты мои молитвы! Как же я хотела отдохнуть от этой нашей дурацкой работы!
— Ты ребенка хотела, — поправила ее Лида.
— Да, но одно другому не мешает. Я и с работы хотела уйти. Слушай! А давай вместе рожать!
— А я — от кого?
— А ты — от Мишки роди, например. Что, разве он не годится в папы?
— Например, он мне не муж.
— Какая разница? Кто сейчас — кому — муж? Теперь все рожают просто для себя. Находят подходящего донора и рожают. Вот проблема!
— Миша — донор? Это интересно… Думаешь, ему понравится?
— Еще как! И к тому же все у вас совпадает: Зойка выросла, ты ей больше не нужна, Мишка тебя любит, на руках будет носить. И теперь модно рожать под сорок.
— За тридцать, — назидательно поправила ее Лида.
— Без разницы. Голова уже на плечах, здоровье еще есть, а мужики — это не проблема. От них все равно другого проку и толку нету.
— Рожать детей надо в браке А в брак вступать по любви, — сказала Лида.
— Глупости, — отмахнулась Маринка, — Это ты в книжках прочитала и запомнила. Бедная твоя память, запоминает лишнее.
— Это я в жизни прочитала. Внебрачные дети несчастные всегда.
— Еще раз глупости! Все великие люди были внебрачными!
— Назови хоть одного.
Маринка наморщила лоб, сосредоточено разворачивая очередную конфету. Лида сердито и решительно отодвинула от нее вазочку.
— Что такое? — обиделась Маринка.
— Вспомнила?
— Нет, не вспомнила. Все брачные. Отдай конфеты.
— Причем браки были венчаными.
— А конфеты тут при чем?
— Диатез будет у девочки. Зачем ты столько лопаешь?
Маринка замерла.
— Думаешь, девочка?
— Да, девочка. Она мне уже приснилась. Большая такая и сразу говорить начала.
— И что сказала?
— Сказала, что зовут ее Машей.
— Я хочу девочку, — кивнула Маринка.
— Девочкит хороши в детстве, я вообще-то больше мальчиков люблю.
— Как ты можешь их любить! — возмутилась Маринка, — Им ни бантиков не завязать, ни косичку не заплести. Как только ползать научатся, уже драться хотят.
— Воины потому что.
— И все только машинки им подавай, танки, самолеты. «Мама, папа» еще говорить не научились, а уже — дыр-дыр-дыр — едут на машинках. Откуда это?
— Мужчины потому что, — нежно улыбнулась Лида, — Но ты не переживай, у тебя девочка будет. Ты мальчика не достойна, слабовата ты для мальчика.
— Ха! А она достойна! У тебя-то — тоже девочка!
— Я достойна. У меня и мальчик есть.
— Но не твой же.
— Мой. Мы в воскресенье с ним креститься пойдем. Я буду его крестной мамой.
— А, — кивнула задумчиво Маринка, — дело хорошее. Петечка сказал, что мне тоже надо окреститься. А я не знаю… Боюсь как-то, будто недостойна…
— Не торопись. Всему свое время. У тебя сейчас другой вопрос решается.
— А Петечка сказал наоборот, что надо поторопиться.
— Тогда лучше сходи к батюшке, поговори с ним. Вот моя Зойка, как выяснилось, ходит в церковь, к отцу Никандру.
— Да что ты? — удивилась Маринка.
— Не знаю, что ее туда привело…
— А я знаю, что, — сказала Маринка серьезно.
— Вообще-то я тоже догадываюсь.
— Отца у нее нет. А хочется. Вот она и нашла себе отца сама, без тебя.
— Смышленая девочка, — горько усмехнулась Лида, — Мне тоже страшно не хватает папы. Дед — это совсем другое дело, он уже как маленький и я отношусь к нему, как к ребенку. И он ко мне — как к ребенку. Папа был… Просто — папа. Мне с ним было уютно, спокойно, как за стеной. Даже на расстоянии было спокойно. А когда ушел…
Лида резко выдохнула, зажмурила глаза и глубоко вдохнула воздух:
— Когда он ушел…
— Ну перестань, — тихо попросила Маринка, тронув ее за руку.
— Когда он ушел..Дом стал чужим, и мама другая стала. И голос у нее неживой, железный, каменный. Потому что … умер голос у нее… И у меня…
— Лида, ну не плачь, — заплакала Маринка, — А если я начну вспоминать своих? Я ведь совсем одна!
— Живет там, в этом чужом доме, как собака на могиле хозяина. И никуда ее оттуда не выгонешь, не выманишь… А я не хочу больше туда. И здесь не хочу! Не могу больше — нигде!
Лида все же заплакала, негромко, сдерживая силу слез, будто мог прийти другой более тяжкий день, когда они могли пригодиться. Маринка, так редко видевшая слезы подруги, растерянно молчала. Потом осторожно сказала:
— А я деда встретила вчера в суде.
— Какого деда? — всхлипнула Лида.
— Георгия Ефимовича. На костылях. Вместе со своей подружкой…
— С какой подружкой? Лида резко подняла голову, судорожно вытерла слезы и уставилась на Маринку:
— В каком суде?
— В Московском. С Яной Васильевной под ручку. Смех и грех. Они бродили по всем этажам. По-моему, и в администрацию ходили. А меня увидели и стали прятаться.
— Куда прятаться, — замигала Лида, — Ты меня за нос не води! Жалобы ты им сама написала, зачем им от тебя прятаться?
Лида встала и подошла к мойке. Включила холодную воду и сполоснула лицо, — А ну давай, рассказывай честно.
— Да я хотела тебе сразу позвонить, а потом передумала… Жалобы-то я писала, но дальше пошел эксцесс исполнителя. Походы запланированы не были. Шерше ля фам, елки-палки…
— Дед из дома не выходит. Ты обозналась, наверное.
— А я тебе говорю, они были на приеме у судьи Антиповой. А она на вашем участке. Знаешь Антипову? Хорошая судья, не нервная. Умная.
Лида напряглась:
— Это ты его научила?
— Да не учила я его! — воскликнула наигранно Маринка, — Мы с ним жалобы писали про лифт, про бомжей, про коляску инвалидную, про уборку двора, асфальт, да я уж не помню, мы всякие писали…
— Про квартиру, про машину, я знаю…
— Ну вот машину будут давать. Ты в курсе?
— Нет.
— А квартиру… Там что-то серьезно застопорилось. Я даже не знаю, что. Они в суд заявление относили.
— Приняли? Не отфутболили?
— А то! Пусть бы только попробовали не принять! — возмутилась Маринка и осеклась на полуслове.
— Это ты научила, — уверенно подвела итог Лида. — И документы собрала им ты. Прятались они от нее, как же. Ты их и водила! Марина, не лезь! Это не шутки! Он слабый, а хорохорится. А вы с ним, как с игрушкой! А он живой! Он упасть может!
— Но ведь квартира тоже нужна, Лид! Я это к тому, что там парочку справочек осталось собрать, а эти справки могут дать только тебе.
— Так ты это дело курируешь вплотную?! И какие справки?
— А там форма семь, форма девять, из налоговой, потом о средней заработной плате, потом свидетельства о рождении детей, — радостно затараторила Маринка. — Я вот тебе тут списочек подготовила, все на бумажке написала. Собери, пожалуйста, беременным нельзя отказывать. Дело выигрышное, поверь мне на слово. И потом очень хочется «вырубить» администрацию. Они это заслужили.
— И это он без моего ведома шатается по городу! — всплеснула руками Лида, — И это вы все меня так обманываете! За моей спиной, как партизаны.
— Пока как партизаны, а потом пойдем в бой открыто, — важно заявила Маринка. — Ты пойми, что это — последняя и, наверное, единственная возможность для вашей семьи получить квартиру.
— Мир сошел с ума. И эта болезнь началась с отдельных людей. — горестно сказала Лида.
— Не будь такой пессимисткой и не расстраивай меня. Беременных нельзя расстраивать, надо все их просьбы выполнять. Сделаешь справочки?
Лида с восхищением помотала головой.
— Все так ловко обводят меня вокруг пальца! Ладно — дети, ладно — дед. Но — еще и лучшая подруга. Еще и беременная. Будущая мать!
— Я ж хочу как лучше! — воскликнула Маринка.
— А получается, как у Черномырдина — вокруг пальца! Тут Тим со своими стихами доверенность мне испортил. Зойка вообще от рук отбилась, Ванька ересь о церкви говорит. А про деда я молчу, с ним разговор впереди.
— Тим пишет? — быстренько перевела тему Маринка.
— Пишет. Мы теперь тут все пишем, — угрюмо кивнула Лида.
--- Ты знаешь, я думаю, это неплохо, — сказала Маринка, поднялась и потянулась за конфетницей.
— Ну! Нельзя столько! — возмутилась Лида.
— Беременным нельзя отказывать! — командным голосом произнесла Маринка и взяла конфетку, — Все, последняя.
— Можно подумать…
—Тим чувствует мир каждой своей клеткой, а мы только оболочкой. Все остальные клетки у нас не работают. Они заняты, например, конфетами.
— Стихи хорошие, — кивнула Лида, — Я на доверенности прочитала.
— Да брось ты эту доверенность! — возмутилась Маринка. — Новую сделаешь. Лишь бы писал. Настоящий поэт рождается один на двадцать миллионов. А ты доверенность пожалела.
— Но это — документ!
— Это для тебя — документ. А для него — это единственная возможность ухватить за хвост улетающую жар-птицу.
— Ухватил. Мне теперь новую надо делать.
— Мишу попроси.
— Не хочу.
— Почему? Вы поссорились?
— Мы не ссоримся. Просто не хочу.
Маринка пристально посмотрела на подругу.
— Ты его разлюбила?
— Я и не любила его никогда.
— Значит, ты влюбилась в другого, — догадалась Маринка, — Бедный Миша. А я-то думала, что это за нытье, что за бубнеж, что за нервы против всех и против меня? Ты влюбилась и мучаешься. И кто же он?
Лида заволновалась, вскочила со стула и достала с полки вазочку с конфетами. Грохнула ее перед носом Маринки:
— На, ешь. Только молчи.
— Уж нет уж! Молчать не буду! — язвительно протянула Маринка, — А конфетку съем. Кто он, говори.
— Не скажу.
— О-о-о! — покрутила головой Маринка, — Да тут не влюбленность даже, а сама Ее Величество… Любовь?
— Только предчувствие…
— «Предчувствие любви сильней любви, предчувствие грозы страшнее молний», так у Тимохи? — спросила Маринка
— «И взгляды молчаливые твои значительнее речи многословной»…
— «Как лепесток летящий и скала, как облако и грозовая туча, я в каждом миге разная была»… Кто он, говори. Я завидую.
— Студент, — обронила Лида и принялась нервно чистить картошку.
— Ты, по-моему, только что сделала пюре. Целую кастрюлю. Дубль два, что ли? — озадаченно спросила Маринка.
Лида отбросила в сторону нож и сокрушенно села напротив подруги. Она долго и горестно смотрела ей в глаза.
— Точно, любовь, — простонала Маринка,— Красивый?
— Не знаю. Я не понимаю в мужской красоте. Обыкновенный.
— Умный?
— Упертый. С характером. Старается.
— Богатый?
---- Ну, начинается песня! – разочарованно протянула Лида.
— А какое развитие отношений ожидается в дальнейшем? Он тебя куда-нибудь пригласил? Ты не отказывайся!
— Я уже согласилась.
— Да? — обрадовалась Маринка, — И куда же?
— На работу. В бандитскую группировку. Участвовать в правовых и законных разборках в натуре. Рейдеры.
Маринка обомлела. Она выпрямила спину и принялась шевелить вялыми, побледневшими губами, словно повторяя про себя Лидины слова и безуспешно стараясь понять их истинный смысл.
— Что — в натуре? — прошептала она.
— Имущество. Чужое. Выдел доли миллионов на двести и прочее. Много всякого прочего.
Маринка нервно расстегнула ворот кофточки.
— Еще раз повтори мне это все, — попросила она.
— Услышишь то же самое, — отмахнулась Лида.
— Ты с ним спала?
— С имуществом? Нет.
— Так. Хорошо. Это уже хорошо… Ты говоришь, Лид, что Тим не в порядке? Доверенность испортил? А ты, Лидия, в своем ли уме? Ты зачем туда полезла? ?
— Это единственная возможность нормально заработать. Я устала жить в нищете и воспитывать нищих. Я хочу нормальную квартиру, отдельную комнату…
— Стоп! — остановила ее Маринка, — Они тебе это обещали?
— Оплата по результату.
— А результат ты знаешь, какой будет? Держи карман шире! Они за рубль задушатся, а ты хочешь квартиру. Умалишенная! Детей бы пожалела.. Они в два счета сделают тебя крайней! Ты что, не знаешь, как и кто умеет переводить стрелки?
— Знаю, — тихо сказала Лида.
— Они тебя могут убить!
— Не преувеличивай.
— Я преуменьшаю! Законными методами она собралась решать в натуре. Где ты видела на земле закон? На бумажке, около суда? О-ко-ло! Рядом с урной. Завтра же пришлю Петечку, он тебе мозги вправит. Сейчас я ему позвоню.
Маринка засуетилась, резко поднялась с табуретки и присела на затекшей ноге.
— Успокойся! — крикнула ей Лида, — Иначе я ничего тебе больше не скажу!
— А что, есть еще что-то сказать? — насторожилась Маринка.
— Успокойся!
— Как же, успокоюсь я! И не мечтай даже. Тебя придавят, как клопа, а я потом буду с этим всю жизнь жить и мучиться? Нет уж, я лучше сейчас помучаюсь. Ишь ты, развелись шустрые такие! Мозгов нет, а хотим умными быть, законы знать хотим! А этот, молодой да ранний, как его зовут… Пристроился…Как зовут его? Какая группа, номер?
— Вадим…
— Еще и Вадим. Вадик… Валенок какой-нибудь сопливый, в князья метит. Это он тебя туда затащил, корову старую, на вольные травы?
— Марин, — поежилась Лида.
— Молокосос! А ты и пошла, глазами захлопала. Бе-бе-бе – Маринка скривила рот и сделала лицо глупым и страшным.
— Не обзывайся.
— Они любят образованных дам. Особенно в бальзаковском возрасте.
— У меня не бальзаковский возраст! — возмутилась Лида, — Я не чувствую, что я.. я…
— А у меня — бальзаковский. Но совпадений все равно не бывает, — зло поправилась Маринка. — Чем правильней живешь, тем меньше случайностей и совпадений. У тебя их уже не должно быть.
— Документы у меня, я начала работу. Он работает со мной. – пресекла ее Лида.
— Ты дура, — серьезно сказала Маринка.
Лида потянулась, взъерошила волосы, потерла глаза и, радостно глядя на подругу, пропела: « Какая я несчастная! У-у, какая я несчастная дура!»
— Вообще-то это все не шутки, — строго сказала Маринка.
— Не шутки! — пропела Лида, восторженно глядя в потолок. — Все очень серьезно!
— Я пошла звонить Петечке, — бесцветно сказала Маринка и вышла из кухни.
— Звоните, звоните, — кивнула согласно Лида, — Звоните Петечке, Васечке, Мишечке и Стасика не забудьте! Звоните еще в Верховный суд, в ООН, в Гаагу и в Белый дом. Скажите всем, что я — ду-ра! — улыбалась она, разглядывая свои поднятые над головой ладошки. — Но просто дура и влюбленная дура — это разные вещи!
Глава 17
На лекцию он не поехал. Покрутился на машине вокруг здания университета и не решился идти. Видел издалека, как она вышла из автобуса, на ходу растегивая шубу, сняла шарф, берет и поспешила к входу. Она опаздывала всюду и всегда, а ему некуда было спешить. И некуда было себя деть. И никуда было от себя не деться.
Встреить якобы случайно после занятий, чтобы подвезти до дома — тоже не решился. На нервной почве он развел в квартире ремонт и теперь не знал, с какого боку подойти к этому развалу и потому домой не хотелось. Одно было хорошо — Светку как волной смыло. Она ему часто позванивала на трубку, нежно ворковала, говорила, что скучает, приглашала в гости, чтобы не оборвать поводок, но ждала окончания ремонта.
«Поеду я к Гале», — подумал Вадим и завел машину. Машина подозрительно загудела, громко зачихала, зафыркала и оглушительно заглохла.
«Понятно, — сокрушенно подумал Вадим, — К Гале мы не поедем. А чего?»
Он снова попытался завести машину, но та упрямо молчала.
«Не хотим», — ответил за машину Вадим. Ключ зажигания бесполезно вертелся в его руке, машина словно заснула.
«Ну чего ты, чего? — спрашивал Вадим, еще и еще раз пытаясь включить зажигание. — Что, я тут теперь ночевать должен?» Машина упрямо молчала. Вадим в сердцах плюнул и пошел смотреть мотор.
На улице было темно. Тусклый рыжий свет фонаря едва освещал ближайшие три-четыре метра. Вадим поднял крышку капота и понял, что сделал это напрасно. Для порядка он потягал провода, покрутил, поправил на ощупь какие-то детали, но только зря запачкал руки. Сел за руль, попробовал еще раз завестись, но все было тщетно.
«Ладно, пойду на лекцию, — согласился он, — Попробуй только не заведись потом!» Он взял тетрадку и пошел в университет.
Она повернулась к нему лицом и приветливо, дежурно кивнула:
— Кулаков, вы опаздываете. Нехорошо. Проходите.
— Пробки, — соврал Вадим.
— Да, город задыхается от транспорта, — согласилась она, но подумала: «Спал, наверное, в своей машине».
Аудитория оживилась, все начали рассуждать на тему автомобилей и улиц, а также нехватки времени.
— Оживились-то! Так! — прервала их Лида, — Поболтать захотелось?
— Поговорите с нами! С нами никто не хочет разговаривать! — забурлила аудитория.
— Через двадцать минут. Сначала работа, потом три минуты разговора, потом опять работа. Вы что, забыли расписание лекции?
Обнадеженные скорым перерывом студенты прилежно и послушно замолчали.
«Железная, — недовольно подумал Вадим. — Ни один мускул не дрогнул. Будто и не сидели вчера в кафе и не разговаривали. Будто и не улыбалась мне, как живому человеку…»
«Хмурься, хмурься, — думала Лида, непрерывно диктуя материал. — Это тебе на пользу, хозяин жизни».
— Почему не все записывают условия задачи? — спросила она, глядя на Вадима.
— Я запоминаю, — сказал он, не сдерживая неприязнь к ее строгому голосу.
— Ну, хорошо. Тогды вы и решите эту задачу. А теперь запишите следующую, к пройденной теме, и решите ее дома.
Вадим с досадой вздохнул, глянул на нее исподлобья, пытаясь все же дождаться, отыскать в самой глубине ее непроницаемых глаз хоть что-то. Но ничего не было. Наткнувшись на холодные глаза, он поежился и озадаченно повернулся назад.
— Леш, дай переписать, — тихо попросил он Лешу.
— Ты ж запомнил, — подколол его Леша и протянул тетрадь.
Вадим снова незаметно глянул на нее. Она громко диктовала задачу и еле сдерживала победную улыбку.
«Ну подожди, подожди», — пригрозил он ей мысленно, чуть улыбнулся сам себе и принялся писать в Лешиной тетрадке, прислушиваясь к живому, теплому звучанию ее голоса, такому отличному от напряженного и чужого, каким она разговаривает с ним один на один.
Почему у нее такой разный голос? По тембру можно было определить важность темы. О легких вещах она говорит спокойно и легко, даже игриво, о серьезных — занудно, медленно и противно, будто хирург, вживляя каждое слово в напряженную ткань их извилин. Вадим слушал музыку ее речи, не вникая в смысл слов и автоматически записыва все не в свою, а в Лешину тетрадку.
К концу лекции у нее зазвонил телефон. Она извинилась, взяла трубку и сказала, что через две минуты выходит. Нежно так сказала и послушно, как провинившаяся жена. Вадим замер, все внутри у него похолодело. Он почувствовал, что хочет встать, отнять у нее телефон, выбросить в окно и приказать сесть за стол и читать дальше. Все лекции подряд! До самой ночи! А лучше до утра! И еще два дня кряду, пока все не уйдут и они не останутся вдвоем, а она не перестанет говорить, а будет только молчать.
— Я предлагаю закончить сегодня чуть раньше. У меня небольшая проблема, я должна идти.
Все радостно зашевелились, стали складывать тетрадки и учебники. Вадим тоже поднялся. Она на ходу скидала в свою сумку конспекты и, быстро попрощавшись, выскочила за дверь.
«Да едь, едь!»— возмущенно подумал Вадим и потеряно поплелся к машине.
Машина завелась с пол-оборота. На заднем сиденье верещали девчонки-однокурсницы.
— Оглох ты, что ли, Вадик? Третий раз спрашиваем.
— Что? — очнулся Вадим.
— Когда в гости пригласишь?
— Сразу всех? — улыбнулся Вадим.
— Можно по одной. Так лучше будет!
Девчонки разыгрывали его, но Вадиму не хотелось отвечать. Ему хотелось только поговорить с Галей.
Галя открыла дверь и тут же рывком бросилась назад.
— Проходи, — крикнула она из ванной. — У нас тут потоп. Коридор был залит водой, легкие, тонкие ручейки робко растекались по комнатам.
— Бери тряпку, собирай воду! — крикнула Галя.
Племянники Сережа и Дина сидели на кухне.
— А вы что сидите, не помогаете? — спросил Вадим, шлепая по лужам.
— Не трогай их, пусть сидят, чтобы духу их здесь не было. Я сейчас все уберу, я им устрою. Пусть смотрят, как мать мучается! Я их заставлю запомнить на всю жизнь, как мать мучается!
— Я-то тут при чем? — оборонялся Сережа. — Это Динка.
— Ты — ее брат! Вот при чем, — кричала Галя из ванной. — За компанию!
Галя была крупной, и в тесную ванную комнату больше никто не вмещался, поэтому она, видимо, и соединяла неприятное с полезным. Все равно добирать воду ей приходилось одной.
— Я и твои вещи стирала! — напомнила Сереже Дина.
— А я тебя не просил, — буркнул Сережа.
— Шланг не вставила, что ли, Дин? — спросил Вадим, выкручивая тряпку в унитаз.
— А зачем ей шланг? — вопила возмущенно из ванны Галя. — Кнопку нажала и пошла. Мать уберет. У них мать — уборщица! Собирай в прихожей, Вадик!
Вадим протянул тряпку Дине и скомандовал:
— Вперед! Дина с готовностью принялась за работу, невзирая на крики матери о том, что она королева и чтобы близко не подходила к грязи, потому что — не царское дело.
— А ты, Серега.ючайник ставь. Я торт привез.
— Ага, — обрадовался Серега, зажигая газ.
Когда вода была убрана, Галя уже помирилась с дочкой, работа объединила их. Потом все вместе устало попили чаю, и дети пошли спать.
— Что так поздно приехал? После занятий?
Вадим кивнул.
— Домой поедешь или остаешься?
— Останусь, если можно. Дома развал, ремонт.
— Оставайся тогда. А чего грустный такой? Устал?
— Не знаю, Галя, устал я или отдохнул… Ничего не знаю.
— Как у тебя с работой?
— Никак. Нормально.
— Деньги есть?
— Ремонт начал, значит есть.
Галя пристально посмотрела на брата. За несколько последних лет он нисколько не изменился. Даже казалось, что годы не влияют на него, а вернее, Вадим не реагирует на годы. Но глаза, которые он теперь почему-то всегда прятал, были другими. Мутными какими-то, непроницаемыми, как заросшее жирной пленкой пыли зеркало.
— Говори, что случилось? Светка беременная?
— С чего бы это?
— А с чего это бывает? Ты не знаешь? С того!
— Не знаю… Вроде, не должна. Почему ты так боишься моих будущих детей? Такое чувство, что именно ты не позволяешь им родиться.
— Я не детей твоих боюсь, я ее боюсь. Светлану твою.
— Пойду я спать. Сто раз одно и то же.
— Да, пожалуйста. Я могу молчать, — обиделась Галя, — Но почему было не рожать детей с Катей? Ну скажи мне, почему? Она — твоя жена. А эта — неизвестно кто! И ты допляшешься! Ты допрыгаешься! Она тебя окрутит и никуда не денешься, такой порядочный!
— Я — порядочный? — удивился Вадим, — И это я слышу от своей сестры? Я всегда думал, что я беспорядочный…
Галя не согласилась:
— Я лучше тебя знаю. И она, Светка, тоже это знает. Она не дура.
— Галь, — перебил ее Вадим, — Я вот что хотел у тебя спросить…
— Ты лоб не морщи и брови не хмурь!
— Галь, ты помнишь, как-то говорила мне про седьмую, которую он просто любил?
— Кто — он? — насторожилась Галя.
— Ну, какой-нибудь мужчина.
— Какой такой мужчина? — испугалась Галя.
— Не Никита же твой! — рассердился Вадим. — Ты мне рассказывала про шесть женщин, которые: одна — готовит, другая стирает, третья — шьет, а седьмую он просто любил.
— Ха! Ха!— возмутилась Галя, — Не готовит и шьет! Одна была богата, вторая имела высокие связи, третья — он с ней спал, с ней было хорошо резвиться в постели, понимаешь? Это как ты со Светкой. Просто спал.
Вадим терпеливо промолчал.
— Но ведь это же не означает, что с такой женщиной надо заводить детей! Понимаешь ли, Вадик, дети — это семья, дети — это навсегда, до смерти! Вадим вздохнул, понимая, что до седьмой, о которой ему хотелось поговорить, ему придется выслушать лекции про предыдущих шесть. Галя откинулась на стуле, скрестила руки на груди, готовясь к длительному рассказу.
— Спать пора, — напомнил ей Вадим, но она пропустила его слова мимо ушей.
— Вот родился Сережка, а я на него смотрю и думаю… Еще на кресле лежу, он на столе орет, синенький, пуповинка блестит, противное все такое вроде бы… И вот думаю: что же я наделала! Зачем я его родила? Ведь он — живой, такой же, как и я. Это не кусок мяса, от которого освободилось тело, это — жизнь! И как ему теперь, бедненькому, свою жизнь прожить? Такую длинную, тяжелую, опасную жизнь, в таком страшном и неустойчивом мире! Как же я могла так опрометчиво поступить с ним только из-за того, что мне хотелось иметь сыночка? А ему-то — хотелось рождаться?! Вот о чем я думала. Как я могла так поступить с ним, с моим ангелом? С Динкой такого не было. Молодой рожать проще. О себе только думаешь, а не о ребенке.
— Галь, — робко перебил ее Вадим, — Эта, седьмая, которую он просто любил, она как отомстила ему?
— А? — переспросила Галя, — Седьмая? Да у тебя не седьмая, а двадцать седьмая, я уже говорила. Ты допляшешься! Ты останешься холостяком. Но и это маловероятно. Тебя окрутит эта Светка и будет всю оставшуюся жизнь пить кровь. И ты взвоешь! Ты попомнишь мои слова! Ты наплачешься с ней в одиночестве!
— Галь, она его не любила, потому что у нее был тоже седьмой, ты так говорила?
— Вадик, разве я могу запомнить все, что говорю. Это же ведь очень много. Сказала и сказала… ну, не любила она его. Не любила. Почему — никто не знает. И никто не знает, почему он ее любил. Любовь необъяснима. Она или есть, или ее нет. Это как музыкальный слух, как талант. Иным дано все, иным — только желание его иметь. Вот и коряжутся, и пыхтят, и стараются, а ничего не выходит. Это — дар. Галя внезапно замолчала:
— А ты это, собственно, к чему спрашиваешь?
— Она появилась, — сказал Вадим и отвернулся к окну.
— Она — это кто? — насторожилась Галя.
— Мне ничего от нее не нужно. Я даже не знаю, нужна ли она мне? Может быть, не нужна. Но она — это все.
— Она — это все? — медленно произнесла Галя.
Вадим хмуро кивнул.
— Ты влюбился! — расстроено всплеснула руками Галя, — Еще чего не хватало! Она, может, еще хуже Светки. А-а-а! Ну это с тобой уже случалось, и не раз, и не два, и не двадцать два…
— Нет, так не случалось, Галь, — сказал Вадим. — Тогда мне было хорошо, а теперь мне— плохо.
— Так сделай так, чтобы было хорошо, — предложила Галя.
— Не могу. Не знаю как… Все глупо.
— Ну вот, приехали. Я тебя предупреждала, что ты доиграешься! И теперь, когда у тебя наконец-то возникло настоящее чувство, Светка точно соберется рожать! Может быть, уже собралась. У нее чутье, как у волчицы, она свое не упустит. И именно поэтому ты не знаешь, как поступить. Жалко мне вас, мужиков. Глупые вы все, как дети, доверчивые…
— И она мне мстит… — задумчиво сказал Вадим.
— Кто, Светка? За что ей мстить-то, коротышке? Пусть спасибо скажет. Пристроилась!
— Она мне мстит за тех шестерых… Которых она не любила.
— Кто? А, эта… Эта может, — кивнула Галя. — Женщины коварны.
— Но она мне мстит за своих мужчин, а не за моих женщин, — напряженно сказал Вадим.
— Ничего себе! — удивилась Галя. — У нее было шесть мужей? Она тебе это сказала? Так прямо и сказала?
— Двадцать шесть! — возмутился Вадим, — У тебя больная фантазия! С тобой невозможно разговаривать! Ты всех ненавидишь!
— Не кричи! — одернула его Галя. — Дети спят.
— Ты орешь на детей, ты заливаешь кипятком соседей, портишь им потолки!
— Ну-ну, — напряглась Галя и тяжело задышала.
— Ты замучила Никиту! Мужик пашет с утра до ночи и домой боится приходить, потому что ты его грызть будешь. Всегда грызешь мужика!
— Да я к нему всей душой, — растерялась Галя.
— Как с тобой разговаривать? Как можно разговаривать с человеком, который слышит только собственные мысли и отвечает сам себе? Ну какие шесть мужей? Я говорю — шесть мужчин! Она мне мстит за них, потому что они были уроды!
Вадим вскочил и, на ходу накинув куртку, выбежал из квартиры.
— Псих ненормальный, — недоуменно пролепетала Галя. — Это Светка его довела, тварь такая. Сухое зернышко, а набухла и чертополохом проросла. Кто же знал? И теперь еще эта появилась… Мстит… Гадина… Мальчику моему… Двадцать шесть мужей… Господи ты Боже мой! Какая глупость! Мир сошел с ума…
Глава 17
Тимоха сильно захотел пить Еще никогда он не испытывал такой жажды. Все тело горело огнем, а во рту было так сухо и горячо, что казалось, дыхни он посильнее на подушку, и та загорится. Тимоха поднялся и поплыл по комнате, натыкаясь на стулья и столы, не чувствуя прохлады паркета, будто и не касался его босыми горячими ступнями. В какой-то миг ему даже показалось, что он действительно парит в нескольких сантиметрах от пола и потому не нужно передвигать ноги, а достаточно лишь изредка легко взмахивать руками. Он попытался соединить ступни, проверить их послушность, стал отталкивать воздух назад руками, как летнюю парную воду, но ступней не почувствовал, а продвижение его по комнате не прекратилось. Через несколько секунд, минуя темный коридор, он вплыл в ярко освещенную кухню. Там открутил непослушной, словно чужой рукой кран, но вода из него не полилась. Тимоха захрипел, чувствуя, что еще немного и он высохнет, сгорит изнутри и превратится в горстку пепла. Он заглянул в холодильник, но там было пусто. Холодильник проржавел изнутри, и в желто-оранжевых, изъеденных временем дырах, торчали комки пыльных, спутанных проводов. В квартире никого не было — ни деда, ни Лиды, ни детей. Тимоха расстроился из-за холодильника даже больше, чем из-за своей жажды. По кухне роем летали комары и зудели жалостливо на разные голоса. Тимоха их не видел и не чувствовал укусов, но точно знал, что они облепили его разгоряченное тело.
Тимоха понял, что на дворе уже лето и ему стало жутко, потому что еще вчера вечером была зима. Лето наступило странным, на улице было темно, а в квартире — светло. Тимоха решил попросить воды у соседей. Он вышел, чуть касаясь пола, в прихожую, и старый паркет пронзительно визжал под его легкими шагами каждой клавишей, будто ему было отчаянно больно или горячо от Тимохиных ступней.
Он долго звонил в соседние квартиры, но ему никто не открыл и даже не отозвался. Он расстроился, рассердился на соседей, недовольно глянул на часы: вдруг еще ночь, а он тут бродит по подъезду, пугает и будит людей. Часы вросли в запястье и стали составной частью руки. Они были ржавыми, изъеденными временем, как пролежавшая на дне океана железная подводная лодка. Тимоха брезгливо поморщился и попытался отцепить часы от руки. Часы не стронулись с места, но он вдруг увидел, как бешено крутятся в обратную сторону согнутые коготками стрелки. В подъезде становилось то светло, то темно, а за грязным, влажным окном возле лифта шумел дождь, выл ветер, потом ярко светило солнце, а после этого дружно на черном небе выступали и мигали мелкие, слабые звезды.
Тимоха недоуменно поежился и нажал кнопку лифта. Лифт брякнул тяжко и глухо где-то на первом этаже, и Тимохе пришлось спускаться по ступенькам пешком.
Выйдя из подъезда, он не узнал свой двор-колодец. Густая трава, не примятая ни ветром, ни людьми, доходила ему до плеч. Она обвивала крупные, плотно стоящие друг к другу деревья. Стволы деревьев были белыми, мелко иссеченные какими-то иероглифами, знаками, цифрами и буквами, видимо это были такие необычные березы. Под самой крупной березой, испещренной черными знаками, примостилась старая развалившаяся машина без колес с выбитыми стеклами, на капоте которой, как пышное одеяло, лежал нетронутый снег. Тимоха обрадовался, подошел к знакомой машине, уставился в белизну чистого снега и прочитал четкие, ровные строки:
Мы уходим туда, где закончится тьма,
Чтобы, жаром горя, стать источником света,
Где сжигает усталая наша планета
Всю опасность ума, и сгорает сама.
— Кто это все пишет? — изумленно прошептал Тимоха и трясущейся рукой стал прихлопывать снег. Снег таял от жара руки, и тонкие ручейки полились с капота в траву. Трава зашипела от недовольства, словно ее полили серной кислотой. Тимоха глянул с интересом на ладонь и ужаснулся: на ладони отпечатались четкие строки. Они перешли на нее с капота машины, уменьшеные в сотню раз и оттого более значительные, видимые им как бы издалека. А на подтаявшем снегу появились новые слова:
Мы оставим сыпучие наши следы
Раскаленным пескам, ненасытному ветру,
Мы уходим в пустыню, где нету воды,
Где ни прошлого, ни настоящего нету…
Тимоха обреченно приложил к снегу другую ладонь, подождал, пока он весь растает, не почувствовав ни холода, ни влаги. Потом почти равнодушно прочитал те же самые строки на своей ладони и открыл ржавый капот машины.
— Кто это пишет тут? — спросил он, разглядывая полуистлевшие внутренности мотора.
— Ну не я же, — донеслось из машины.
Тимоха вздрогнул и отпрянул в сторону.
— Ты, что ли, Тимофей? — донеслось из салона.
За рулем сидел мрачный, недовольный Александр Сергеевич и, поправляя спадающие с носа очки, изучал карту города.
— Вот как, Тимофей, нам выехать в центр? Ума не приложу!
— Так мы почти в центре… Заозерная улица 4…Тут можно дойти…
— Может, ты поведешь машину, я город не знаю.
Тимофей и обрадовался, и испугался, увидев Александра Сергеевича.
— Вы не можете не знать…
— Могу. Я все могу.
— А что вы там делаете? — спросил Тимоха осторожно.
— Тебя жду. Я один ехать боюсь. Мне этого не вынести. Вдвоем, может сдюжим.
— А куда ехать-то надо. Я пить очень хочу.
— Пьянству — бой, Тимоша. Или пить, или жить. Третьего не дано. Садись в машину.
— Я не хочу. Она не поедет.
— А придется. И тебе, и ей. Дело такое, пешком не дойдешь.
— Так и не доедем мы никуда, — кивнул Тимоха а отсутствующий мотор. — Тут только гайки и винтики.
— Этого хватит, — серьезно сказал Александр Сергеевич, — Садись, а то опоздаем. Нас уже ждут.
— Кто ждет? — спросил Тимоха, залезая в машину через разбитое окно.
— Никто, — ответил Александр Сергеевич таким тоном, будто этот «никто» был важным и очень строгим, потому опаздывать не стоило.
— А зачем? — спросил Тимоха.
— Надо.
— Кому надо?
— Поэты не должны задавать вопросы. Поэты должны задавать ответы. Вот для чего поэты.
— Я пить хочу…
— Наше дело — не пить, а отвечать. Не спрашивать и не просить. Едем?
— Я босой…
— Вот и хорошо. Так легче. Глянь, что это у тебя на ступнях?
Тимоха задрал правую ногу и прочитал вслух:
Мы сгорим за минуту, исчезнем за миг,
Легким пеплом взлетая все выше, чтоб слышать.
— Послушайте, что это такое на самом деле творится? У меня и на ладонях написано, и на ногах.
— А на другой — что?
Тимоха задрал левую ступню, наклонился пониже и зашевелил губами.
— Ну! — поторопил его Александр Сергеевич.
— Непонятно.
— Не может быть! — сказал Александр Сергеевич, — Должна быть последняя строка! Иначе — зачем все, если нет последней строки!
— Вы задаете вопрос, а не ответ. — сказал Тимоха.
— Читайте внимательнее, Тимофей, и отвечайте! Вам придется отвечать за все, что прочитали!
Тимоха снова уставился а свою ступню и прошептал:
Ожидаемой истины собственный крик,
Понимая, что больше никто не услышит…
Александр Сергеевич вдохнул воздух и решительно повернул руль вправо.
Тимоха не слышал звука мотора, он не успел даже удивиться, как машина проскользнула сквозь толщу деревьев, и, выехав из подворотни, поплыла по пустынным, гладким улицам.
Сквозь асфальт легкой щеткой пробилась трава, и отсутствующие в машине колеса скашивали ее железными, острыми ободками под самый корень. Трава покорно беззвучно ложилась под колеса и тут же исчезала внутри асфальта.
Тимоха оглянулся назад и увидел через разбитое заднее стекло запруженный автомобилями проспект, толпы людей на тротуарах, текущие густым потоком к станции метро.
Они ехали, уничтожая траву, впереди было глухое, безлюдное пространство мертвого города, а позади оставался город живой, но умирающий, смертельно больной и плохо узнаваемый.
— Куда мы? — спросил Тимоха и осекся, поняв, что снова задал вопрос, а не ответ. Он тут же посмотрел на правую ладонь и снова что-то там прочитал.
Больше вопросов он не задавал, чтобы не читать по рукам все новые и новые строки, ужасаясь внезапности их появления и исчезновения. Он нигде не мог записать их, бумаги и ручки не было, а спрашивать у Александра Сергеевича ручку и бумагу означало, что строчки с ладони исчезнут и появятся новые. Тимоха ехал и старательно запоминал их, повторяя про себя.
Александр Сергеевич повернул рукой какую-то кнопку на остатках панели салона, и в машине зазвучала грустная, тяжкая музыка. Тимоха прислушался, забыв удивиться: откуда в машине взялось радио? Он не узнавал звуки. Не скрипка, не фортепиано, не флейта. В музыке не звучали голоса знакомых инструментов. Голос музыки был чужой, доселе неслыханный.
— Что это? — спросил Тимоха и стал взволнованно растирать виски. — Это музыка?
Александр Сергеевич не ответил, он повернул руль вправо, и машина поплыла вдоль рассыпающейся на глазах набережной. Асфальт, провалившись в нескольких местах, возвышался остроконечными глыбами, как вздыбленные льдины на реке, но все же не мешал плавному движению машины.
Тимоха тихонько разжал кулак и украдкой заглянул в ладонь:
— Последняя строка не та, — пожаловался Тимоха сам себе.
— Задай ответ, — посоветовал Александр Сергеевич и покрутил кнопку несуществующего приемника. Жуткая музыка заглохла и в салоне раздалась английская речь. Диктор бросал резкие, отрывистые слова, и незнакомая Тимохе английская речь почему-то очень напоминала немецкую. Он даже сначала подумал, что два языка смешались и теперь воюют злобно друг с другом изнутри предложений.
— Сегодня заседание, — кивнул Александр Сергеевич, — Мы как раз вовремя.
Тимоха сосредоточился, пытаясь понять смысл неизвестных, забытых со времен студенчества слов, но перевод получался обрывочным и бестолковым. Отдельные слова не открывали сути.
— Поймайте наших, — попросил Тимоха, — Я не понимаю их.
— А придется понять, — хмуро ответил Александр Сергеевич и нажал на газ.
— Вам трудно переключить волну? Поймайте наших, — уперся Тимоха.
— А наших нет, — равнодушно и как-то лихо сказал Александр Сергеевич и старательно нажал на газ еще сильнее.
Машина помчалась быстрее течения реки, громады зданий слились в сплошной серый забор, ограждающий плавную реку и все, что было за этим забором.
— Включите наши новости, — ледяным тоном приказал Тимоха.
— У нас и новостей нет. Все по-старому. Слушай и молчи! — отрезал Александр Сергеевич.
— Почему я должен молчать? — спросил Тимоха и тут же заглянул в ладонь.
И правнук твой потребует: скажи,
За сколько продал им свое прощенье?
За кубок ядовитого вина?
За блюдо человечины кровавой?
Он будет прав, но будет ли он — правый?
Пожнет ли жизнь прощенья семена?
— И не складно, — прошептал он.
— Зато верно. Когда верно, то можно не в рифму, — сказал Александр Сергеевич.
Тимоха притих и стал слушать радио, он вдруг поймал себя на том, что понимает речь чужеземного диктора.
— Америка продает Китаю Урал? Я не понял? — прошептал он. — А Китай считает, что слишком дорого, даже дороже Крыма?!
— Предлагает поменять на Крым. Ты не так понял. Но Урал дороже. Учи язык, Тимофей.
— Китайцы не любят горы? Я не понял…Я сплю?!!
— Мятежи клонов в русских городах-поселениях Что это они развоевались? — удивился Александр Сергеевич.
— Финансировать отказываются седьмой и четырнадцатый поселения беженцев. За беспорядки.
— У них города под номерами? А названия, названия какие? Сохранились? — торопливо шептал Тимофей.
— Америка не будет поставлять им продовольствия. Ты слушай внимательно сам, а то голосишь, а потом переспрашиваешь! Вводят войска и блокируют. Блокада, понимаешь, что это такое? Тебе дед не рассказывал?
— Бабушка… — промямлил Тимоха.
— Приговор, говорят, не подлежит обжалованию. Окончательный. Интересно, кто судил?
— Седьмой и четырнадцатый вымрут за три месяца за беспорядки… — прошептал помертвевшими, бледными губами Тимоха. — Что происходит, Александр Сергеевич? Почему они все это говорят? Кто допускает такое?
Он вздрогнул от своих вопросов и, растопырив перед лицом пятерню, громко прочитал:
Кричал в себя, молчал на целый мир,
Терпел прикосновенья правды голой,
И дрянью приходил на черный пир
Обслуживать иных времен монголов.
Он уже все понял – они находятся не в своем времени, но в своем пространстве, медленно повернулся к Александру Сергеевичу, сказал:
— Вы как-то и не удивляетесь ничему, не реагируете на все это…
— Чему я должен удивляться? Ты разве не знал, что все так будет? Александр Сергеевич отнял руку от руля и сунул ладонь Тимохе:
— Я задаю ответ на твои вопросы.
Антихрист будет там, где нет царя.
Там ложь и кровь текут как мед и пиво,
Побед напрасных ордена горят, Но торжествует пораженье мира.
— Пораженье мира… — повторил Тимоха.
— Армия клонов-женщин насчитывает одиннадцать тысяч единиц. Америка пророчит им победу над армией клонов-мужчин. Этих только три тысячи. Это и есть правительство. Но мужики все-таки, неужели проиграют бабам?
— А за что воюют? — буднично поитересовался Тимоха, с ужасом замечая, что перестал удивляться.
— За поправку в законе. Клоны-мужчины хотят чипировать клонов-женщин дважды. Чтобы иметь знаки отличия.
---- А других знаков отличия разве уже нет? – спросил Тимоха.
— Не мешай, дай послушать, — отмахнулся Алексадр Сергеевич, быстро перейдя на ты.
Тем временем машина выехала к памятнику Петру I, и Тимоха без удивления обнаружил на коне верхом вместо Государя компанию голых бронзовых женских фигур. Их было не меньше двадцати.
— Медный всадник, — жалостно проронил Тимоха.
— Всадницы, — не согласился Александр Сергеевич, — Бронзовые, не медные.
— Кто они?
— Женщины.
— Тоже клоны? Царицы, что ли? Или это СОБОРНЫЙ ЦАРЬ? Почему голышом?
--- Антихист. Таким он сам себя ощущает любит. Приказал изваять именно так.
Александр Сергеевич сердито протянул ладонь и Тимоха прочитал:
Если здесь что-то и выживет —
Только вода и булыжники,
Время на краешках крыш в летаргическом сне…
— Я хочу умереть, — сказал Тимоха, — Остановите машину, я не могу больше это видеть.
— Это цветочки. Ягодки будут потом.
— Вы так спокойны, может быть Вам все это нравится? — спросил Тимоха, — Вы не хотите спрыгнуть с моста? Не желаете утопиться? Вам не стыдно не желать этого сейчас? — закричал он с таким отчаяньем, и вдруг осекся на полуслове и растопырил в ответ на свои вопросы ладонь:
А на мосту, как на палубе,
Ангел над Петропавловкой
По угасающим звездам восходит к луне…
— Стойте! Да! Поверните назад, я хочу увидеть ангела! Я не видел Петропавловку, не заметил, давайте вернемся!
— Нельзя назад. Не проедем.
Тимоха судорожно засучил ногами, будто под его сиденьем тоже были педали, и повернулся назад. Он увидел за спиной гудящие толпы людей, заполонивших всю набережную, все дороги и площади. Даже на невысоких парапетах, плотно прижавшись друг к другу, нескончаемыми колоннами стояли, едва удерживая равновесие, люди. Любой порыв ветра мог скинуть эти колонны в черные, бурлящие воды Невы.
— Почему их столько много? Они сейчас упадут, они погибают, давятся… — пролепетал Тимоха.
— Задай ответ, а не вопрос, — посоветовал Александр Сергеевич.
Тимоха поднес к лицу ладонь и в ужасе зажмурил глаза.
— Нет! Не хочу! Только не это! Не надо!!!
— Не надо истерик! — рыкнул Александр Сергеевич, — Не жалей их, им так нравится. Они этого хотели.
— Это не может нравиться! Они же гибнут! Все скопом, как стадо!
— Это они так живут. Они хотят тесно прижиматься друг к другу.
— Я вернусь! Остановите машину! Я вернусь туда. Я должен!
— Позже вернешься. Не сейчас.
— Мне надо на Петропавловку. Назад!
— Там нет ангела. Он улетел. По угасающим звездам к луне, — отрезал Александр Сергеевич и снова нажал на газ. Дома расступились, и машина оказалась в центре площади, до краев наполненной людьми.
— Кто они? — прошептал Тимоха, затравленно озираясь по сторонам, — Они сейчас разнесут нас, разорвут, раздавят.
Женщины с одинаковыми лицами, но в разных одеждах и с разными прическами, ругались и дрались, цепляя друг друга за юбки, платья и волосы, кричали и матерились. Их окружали абсолютно одинаковые мужчиы, бесцветные, молчаливые и сдержанные, как роботы.
— Это война клонов. Смешно, правда? — улыбнулся снисходительно Александр Сергеевич, — Они не хотят быть одинаковыми. Вот эти — дамочки - очень завидуют друг другу. А мужики наоборот, дружны и не против быть похожими друг на друга. Славненькие игрушечки, вы не находите?
Мужчины дружно, как по команде, выстроились в ряды и ручейками стали стекаться внутрь огромного здания под полусферой стеклянной крыши. Толпа визжащих женщин хлынула, беспорядочно толкая друг друга, за ними.
— Сейчас у них будет вече. Будут принимать поправку к законам. Мужчины хотят узаконить клонирование музыкантов, а женщины — клонирование певцов и юмористов, потому что с ними веселее и приятнее жить.
— Зачем? — спросил Тимоха. — Мужчины хотят петь? А что про чипы? У них уже у всех есть по чипу?
— Задай ответ, — бросил раздраженно Александр Сергеевич, и Тимоха мельком глянул на ладонь. Ладонь была пуста, как нано-частица.
— Мы не будем ждать результата, а поедем дальше. В новостях потом скажут.
— Я ничего не хочу слышать. Мне не нужен результат. Я его уже видел. Я хочу вернуться.
— Нам некуда возвращаться. Ни прошлого, ни настоящего у нас нет. Есть только будущее. Поехали.
Александр Сергеевич повернул руль, и они снова выплыли на набережную реки. Поплыли по течению, перегоняя волны и разрезая низко плывущие облака, как пышные взбитые сливки.
— Мы плывем к устью? — спросил Тимоха, завороженно глядя в разбитое стекло.
— Да, — коротко сказал Александр Сергеевич.
— А там — океан?
— Я рад, что ты это знаешь.
— А за океаном тоже океан?
— Тоже океан.
—Что осталось позади?
— Ничего.
— Земля, леса, небо…Где?
— Все только впереди.
«Настоящим придется остаться,
Растворят их глухие леса.
Земли отданы, отданы, братцы.
Нам остались одни небеса».
Прочитал Тимоха, не глядя на ладонь. Он вдруг воодушевился, воспрянул духом и воскликнул:
— Нам не надо пока в океан. Нам надо в леса! Может быть, мы найдем там наших!
— Может быть… — кивнул Александр Сергеевич, — Кого ты имеешь в виду?
— Олю, Ваньку, Лиду, маму… Наших, понимаешь?
Александр Сергеевич усмехнулся.
---- Ты имеешь в виду – любовь?
— Да! Я оставил ее в лесу. Бросил в старом доме. Одну! Я их всех бросил. Я их зажалел, зажал в ладонях, а когда они устали дышать, когда стали задыхаться, я их всех бросил. Понимаете?
---- Так это не любовь. Это эгоизм. Это не надо жалеть, пусть остается., --- сказал Александр Сергеевич. ---- Приготовься, сейчас мы войдем в океан. Он нас ждет. Он не каждого принимает, и не каждого отдает. А мы еще должны вернуться. Пригнись!
Александр Сергеевич прижал голову к рулю, и они беззвучно вошли в сияющий, вязкий пласт, наполненный звуками, знаками, запахами. Они плыли в нем, размахивая руками и не чувствуя своих рук, глаза заполнялись светом, свет пронизывал их насквозь, и не было ощущения ни холода, ни жара. Тимоха хотел что-то крикнуть Александру Сергеевичу, но тот махнул ему прощально рукой и, оттолкнувшись, быстро поплыл в сторону. Тело его медленно растворилось в зыбком сиянии, и Тимоха осознал, что остался совершенно один. От этого ему стало почему-то легче. Больше некому было задавать вопросы, и он теперь мог задавать себе ответы. Пронзенный насквозь этой мыслью, он закричал от дикой боли, охватившей его тело и душу, понимая, что больше никто и никогда не услышит этого ликующего крика. Никто. И даже он сам. Он весь превратился в долгий, исполненный истины крик, а тело его, состоящее из многих и многих тысяч слов, звенело так, будто все слова эти были радостны, чисты и славны. Он весь был не из букв и звуков, а из целиком готовых, рожденных, проросших и созревших, непостижимых, как каждая клетка живого организма слов. И было среди них одно — главное, от работы которого начинал жить и действовать весь организм. Тимоха даже услышал его, он почти потерял себя, свое сознание, поняв, насколько простым было это ключевое, животворящее слово, которое приводило в движение послушно дремлющую, вечную громаду необъятности.
И он услышал другое слово. То, от которого движение прекращалось, сознание гасло, останавливалось время и жизнь. И за этой остановкой начиналась тишина. Он теперь знал эти два слова, эти два ключа, которыми открывались две двери. И никто больше не знал. И это было невыносимо страшно, потому что океан мог поглотить его, не дать вернуться назад, а он должен, должен был вернуться!
Тимоха мысленно представил лестницу, железную, гулкую дверь, за которой, быть может, уже никто его не ждет. Он протянул руку к кнопке звонка, удивляясь ее схожести с настоящей, вдавленной, стертой кнопкой рядом с их дверью, судорожно нажал на ее несколько раз, каждую секунду ожидая, что сзади его схватят за локоть и потащат назад в сияющий, великий храм гармонии…
Жуткая, резкая трель звонка полоснула, как огнем по его слуху, дверь со скрипом распахнулась и недовольно громыхнулась о стену.
— Где ты ночевал? — строго спросила сонная Лида. — Зачем ночью ушел? И куда?
Она, не дожидаясь ответов, повернулась к нему спинной, и Тимоха завороженно поплыл за ней следом по коридору, прислушиваясь к звукам паркета под ее ногами. А на его шаги паркет почему-то не реагировал.
— Странно ты себя ведешь, Тим, — выговаривала ему Лида, — ночью из дома уходишь. Как маленький стал, сбежал. Разве тебе кто-то не разрешает?
Она поставила на плиту чайник и зажгла газ.
— Я пить хотел, а воды не было.
— Воды хотел? — переспросила Лида.
— Не было воды в кране. А в океане напился. Хорошо, что он меня отпустил, понимаешь?
— Где напился? — насторожилась Лида. Она мигом проснулась и напряженно нагнулась над Тимохиым лицом, — Что пил?
— Извините… — прохрипел Тимоха, не узнавая своего голоса.
— Дыхни! — строго сказала Лида.
Тимоха дыхнул и отрицательно помотал головой.
— Ты не пил, не ври. Но если ты собираешься пить, то едь обратно в деревню, — строго сказала Лида, кутаясь нервно в голубой халат, — Я не потерплю такого примера детям. Не допущу этого. Имей в виду!
Тимоха вновь заторможено помотал головой.
— Или работай, или уезжай.
— Я работаю, — кивнул он послушно. — Я стихи пишу. Я узнал два слова, вошел в пласт. Я теперь знаю, как туда войти и как оттуда выйти, Лида! — шептал он восторженно.
— Пласт — это милиция? Как оттуда выйти, я знаю. Или психушка?
— Нет, это океан вечности, — завороженно глядя в глаза сестре, прошептал Тимоха.
— Хорошо, это очень хорошо, — согласилась Лида, пристально разглядывая глаза брата, — Ты по океану босиком ходил? В январе… — уточила она.
— Да, мы ездили на машине. На этой, что во дворе гниет… Без колес которая… С Александром Сергеевичем. Ты знаешь, клоны — это страшно!
— С Пушкиным? — уточнила Лида поджав губы до синевы.
— Нет, просто с Александром Сергеевичем. С бомжом. У нас в писательской организации есть такой поэт. Хороший поэт. Мы с ним.
— Это меня утешает. Но не очень. Слушай, ты случайно не накурился наркотиков? — воскликнула она обрадовано. — Алкоголем от тебя не пахнет… Вместе с твоей дрянной этой организацией…
— Нет, мы не курили. Там не курят.
— И клоны не курили? — спросила Лида. Глаза ее стали непроницаемыми, ледяными и зеркальными, как у хирурга.
— Которые? Женского рода? Те дерутся. А мужского - те спокойные, хорошо себя ведут. Они, наверное, победят. Скорее всего. И тогда будут клонировать настоящих композиторов, талантливых, гениальных, и снова родится искусство, мир будет спасен. Мир можно спасти только словом и музыкой. По слову — начало, по слову — конец. Но музыка — она вечна!
— Понятно, — тихо, напряженно проронила Лида и медленно поднесла свою ладонь ко лбу брата. Лоб был слишком горячим даже для смертельно больного. Она отдернула руку и с ужасом стала разглядывать покрасневшую от ожога ладонь.
— Я сплю, Тим? — жалобно произнесла она, — Ты бредишь, а я сплю, да? — кивнула она себе и ущипнула ладонь.
Ойкнув, вытаращила глаза.
— Нет, не сплю. Ты почему такой горячий?!
--- Мы ходили в пустыню, где нету воды.
Где два шага до ада по зыбкому зною,
Где до солнца дотронуться можно рукою…
— Иди спать, — прошептала Лида, — Попей чаю, раз ты хотел пить, и иди спать. Иначе я вызову врача нам обоим.
— Но я забыл последнюю строчку. И эти два главные слова — тоже забыл! — простонал Тимоха, — Я забыл, и слава Богу! И не буду вспоминать. Это нельзя знать. И слушать и говорить это — нельзя! Запредельное — опасно, Лида. Хорошо, что я тебе ничего не сказал! Хорошо, что ты ничего не знаешь!
— Да, совсем ничего. Ты промолчал, — кивнула Лида.
— Это очень серьезно! Я пойду закрою дверь. Я забыл запереть дверь на засов. Подожди, я сейчас.
Тимоха выскользнул из кухни в прихожую, а обессилевшая Лида, положив голову на обожженную ладонь, тут же заснула прямо за столом.
* * *
— Что у вас с рукой? — спросил Вадим.
— Не знаю, обожглась. Даже не помню, как, — виновато улыбнулась Лида, пряча ладошку.
— Сильный ожог. Пузыри лопнут. Надо мазать под повязку, — серьезно сказал Вадим.
— Да, надо.
Вадим проехал молча пару кварталов, неожиданно остановил машину и вышел из нее.
Лида увидела, как он вошел в аптеку, и растерянно улыбнулась. Она уже как-то отвыкла, что кто-то о ней может беспокоиться. Она даже не ходила к врачам, потому что было неловко беспокоить людей своими проблемами, которые вполне обыкновенно разрешались потихоньку сами.
Она поднесла распухшую ладошку к лицу, недоумевая, как могла не заметить такой сильный ожог, не почувствовать боли. Был какой-то провал в памяти. Утром ее еле добудилась Зойка. Она стояла перед ней на кухне и занудно повторяла противным, сонным голосом: «Мам-а-мам, мам-а-мам!» Потом она бубнила в коридоре, что все спят, всем хорошо, одной ей по субботам приходится в школу ходить. Лида заторможенно искала кошелек, чтобы дать ей деньги на обед, потирала саднящую ладонь, думая, что ее искусали комары, звон которых она слышала сквозь сон, хотя была зима.
— Вот бинт. А это — мазь. Мажьте, — приказал Вадим, усаживаясь за руль.
Лида открутила пробку тюбика с какой-то мазью, даже не прочитав название, нанесла мазь на ожог и стала растирать.
— Это точно от ожогов? — спросила она.
— Точно. Давайте завяжу.
Руки у него были большие, неловкие и спокойные. Он долго пристраивал кончик бинта к ее ладони, прилежно сопел, но бинт все выскакивал из непослушных пальцев, и Вадим терпеливо повторял движения. Лида, едва сдерживая улыбку, таяла от нежности к этим медленным, неловким, но таким старательным рукам. Уже давно никто о ней вот так не заботился. Как хорошо, что она где-то обожглась. Вот только — где?
— То заявление, которое вы составили, оно — зачем? — спросил Вадим, чтобы наполнить вопросом пустоту тишины.
— Затем, чтобы на него ответили, — быстро среагировала Лида, еще не до конца поняв, о каком заявлении идет речь.
— И какой будет ответ?
— Отрицательный, конечно.
— Тогда зачем оно?
— Пусть будет. На всякий случай.
— На какой, например?
— Например, на случай суда.
Руки Вадима стали увереннее, будто они за несколько секунд превратились в руки опытного медбрата. Он держал крепко одной рукой ее руку, а другой тщательно бинтовал.
— У тебя неплохо получается, — похвалила Лида.
— Не сглазьте, а то сейчас все запутаю, — пробубнил сосредоточено Вадим.
— Приходилось раньше делать перевязки? Или это врожденное?
— Врожденное.
— А в Чечне? — уточнила Лида.
— Там тоже врожденное.
Лида осеклась. Он не хотел говорить на эту тему.
— А разве случай суда произойдет? — спросил Вадим, возвращаясь к заявлению.
— Куда он денется?
— Это не лучший вариант, — покачал головой Вадим.
— Зато законный, — возразила Лида.
— Закон работает на того, кто больше платит, — сказал Вадим.
— Цинично, — недовольно возразила Лида. — Я вас этому не учила.
— Жизнь учила, — сказал Вадим и наклонился к ее ладони. Он горячо дышал, отгрызая зубами марлю бинта, и ей невыносимо захотелось прикоснуться кончиками пальцев к его шее. Чуть-чуть, только прикоснуться, даже не погладить. Она затаила дыхание, впитывая ладонью тепло его близких губ и смело разглядывая светлые, коротко стриженные волосы на виске. Он покосился на нее, не поднимая головы, словно почувствовал ласку взгляда, и она снова была захвачена врасплох.
— Не надо в суд, — сказал он, завязывая кончики бинта узелком и пытаясь смастерить бантик.
— Надо, — сказала она. — А ты не умеешь завязывать бантики.
— Я и шнурки-то завязывать научился к шестому классу.
— Мама завязывала?
— Галя, сестра.
— А теперь?
— Теперь я не покупаю ботинки со шнуровкой.
Бантик у него не получался. Он еще и еще раз складывал тонкие кончики бинта, но они выскальзывали из неловких пальцев, и он опять их ловил.
— Завяжи просто узелок, — посоветовала Лида, чувствуя, как неловкость вытесняет из забинтованной руки покорность, и рука становится напряженной, деревянной и какой-то жуткой.
— Женская повязка должна быть с бантиком, — упрямился Вадим, снова складывая кончики бинта.
Лида поймала себя на том, что глупо хихикает, как вредная школьница-отличница, когда он отчаянно вздыхает над узелком, и что ведет она себя некрасиво.
— Спасибо, Вадим. Достаточно и так, — прервала она сама себя серьезным тоном, и он послушно отпустил ее руку.
Они мотались с утра по городу и посетили уже четвертую инстанцию, собирая необходимые для дела документы. Ей было уютно с ним. Когда по приемнику звучала песня, которая ей нравилась, он мгновенно, опережая ее просьбу, будто считывая мысли, делал музыку погромче. Когда ярко светило непривычное для питерской зимы солнце, он опускал перед ней солнцезащитный козырек, когда она глубоко вздыхала, он открывал окно, будто самому было трудно дышать. Когда ей становилось прохладно, он мгновенно закрывал его. Когда ее удивляло что-либо происходящее на улице, он притормаживал и ехал медленнее. Отвечая на ее мысли, он всегда говорил вслух то, что она думала. Он чувствовал ее без вопросов, без просьб, без жалоб. С ним было уютно говорить и уютно молчать. Им не нужно было никаких слов. У Лиды было такое ощущение, что она едет в машине с самой собой. И когда ее осеняла какая-нибудь мысль, и она глубоко вдыхала перед тем, как высказаться, он со снисходительной улыбкой уже начинал ее фразу:
— Вы не забыли, что…
— Да-да, — испуганно соглашалась она, и возникало такое ощущение, что — либо он подслушивает ее мысли, либо она не замечает, что разговаривает сама с собой вслух.
Ей всегда хотелось спросить его в ответ:
— Откуда ты знаешь?
Он чувствовал ее, а она его — нет. Наверное, она была понятнее и проще, а он был сложнее.
Они оба выстроили непробиваемую стену между собой. Ее не пришлось складывать по кирпичику, как обычно вырастают стены между людьми: из камней событий, щебенки поступков, цемента ситуаций, замешанном на белке слов и чувств. Их стена выросла по мановению крепкой руки Толика с подвешенной на большой палец чашечкой кофе. Те шаги, которые она не решалась сделать в его сторону, топчась у доски в аудитории, и он, идущий навстречу с недоверчивыми, настороженными глазами, ждал их, — они уже не будут сделаны. Под ногами лежала пропасть, вокруг было темно. Со дна пропасти доносилось гулкое журчание воды. Глубины не было видно, ничего не было видно, были только чувство опасности и неприязнь к этому чувству. Может быть, где-то над пропастью строился мост. Может быть, он уже был устойчивым и крепким. Но было темно и страшно, и ничего не видно, не слышно, кроме далекого гула в непроглядной, опасной темноте.
Глава 19
— Поторапливайся, Вань, опоздаем, — нервничала Лида.
Ванька не умел спешить и торопиться. Как бы он ни опаздывал, он все делал размеренно и ладно, по-медвежьи переваливаясь с боку на бок, будто был неловким и неумелым. На самом деле Ванька был сноровистым, просто сегодня с утра не задался день, и он принимался за ненужные дела, увлекался ими и не смотрел на часы. Так, например, заметил в миске почищенные для винегрета овощи. Кто их успел почистить и не успел порезать — узнавать было ни к чему, но картошка подсохла, а свекла стала матовой и уже начинала тускнеть. Ванька взял нож и доску и принялся старательно кромсать овощи. Он залил полученную крупноломтевую кашу растительным маслом и сел писать рядом записку о том, что надо добавить лук и свежий огурец. Записка была без адреса, и Ванька допускал, что на нее никто реагировать не будет, а так и съедят без лука. Он сосредоточенно погрыз кончик ручки и посмотрел на Лиду.
— Что ты там пишешь, мы опоздаем!
— Пишу, что лук не порезал. Не знаю, кому написать.
— Брось ты это, пойдем.
— Что-то меня сегодня крутит-вертит, — вздохнул печально Иван, — даже идти не хочется. А когда не хочется, тогда не надо. Давай, не пойдем.
— Ну как же! — всплеснула руками Лида, — Я уже с батюшкой договорилась, наряды твои собрала… Рубашечка новая, маечка… Вань…
— Ну что — Вань, — горько вздохнул Ванька и шмыгнул носом.
— В чем дело-то, я не поняла? — растерянно проговорила Лида. — Я сама сегодня тоже… Какая-то… Может, не пойдем? В другой раз?
Ванька поднялся и стал составлять чашки и тарелки со стола на полки.
— Я знаю, почему меня крутит-вертит, — тихо сказал он.
— Почему?
— Потому что это праздник, а мы с тобой решили тайком, вдвоем. А тогда это не праздник, а как будто преступление.
---- Преступление? — удивилась Лида, — Против кого?
— Против тех, кого лишаем праздника. Мы должы были всем сказать и всех позвать.
— Ты мне не разрешил, Вань! Я хотела отцу сказать, а ты не разрешил.
— А ты бы сказала! Зачем меня слушать? Я еще мал, чтобы меня слушать.
Лида облегченно улыбнулась. Она взяла со стула приготовленный к крещению пакет с одеждой и полотенцем и понесла его в комнату. Глупая! Тупая женщина! Она пошла на поводу у мальчишки, не удосужившись заглянуть в его душу. Она решила отделаться быстренько и скоренько, впопыхах и мимоходом от его мечты.
Лида взяла телефонную трубку и, сделав вид, что ей позвонили, начала алекать, здороваться, переспрашивать, уточнять название стации метро для встречи и так далее.
— Ты представляешь, Вань, какая неожиданная неприятность! Меня срочно вызвали на работу. Прямо сейчас, — она притворно тяжко вздохнула. — Ну что это за жизнь, даже в выходной день дома не побыть.
Ванька растерянно замигал.
— Тогда в следующее воскресенье, да?
— Придется отложить. Не переживай, ладно? Прости меня, я все испортила, — печально улыбнулась Лида.
— Да ничего страшного! — утешал ее Ванька, — Столько лет без ангела-хранителя прожил, уж неделю теперь потерплю. А в воскресенье пойдем с папой, с Зойкой и с дедом.
— Деда не возьмем, — не согласилась Лида, — он и так разбегался, как молодой. Сказали мне, что он с Яной Васильевной по городу прогуливается, прохлаждается. Ты ничего об этом не слышал? Может, он тебе рассказывал?
— Кто сказал? — насторожился Ванька и стал прятать глаза.
— Свет не без добрых людей. Я вот сегодня беседу с ним проведу! С дамой, Вань, прогуливается.
— Любви все возрасты покорны! — сказал Ванька.
— Не защищай! Ты уже взрослый и должен понимать, что старость — это болезни и слабость. Это не шутки, Вань. Мы привыкли, что он держится молодцом-огурцом, а ведь а самом деле ему это тяжко дается. Организм старый, слабый, в любую минуту может дать сбой. Мы беречь его должны, а для этого надо быть строгими, а не потакать ему, как маленькому и глупому.
— Да он меньше меня!
— Он беззащитнее тебя. Оттого и кажется, что он ребенок. Но ты хорошо видишь, слышишь, быстро двигаешься, мгновенно реагируешь на опасность, а он — нет. Ты не знаешь, когда он снова собирается на прогулку? Он тебе не говорил? – внезапно спросила она.
— Теть Лид, — замялся Ванька, — ты опоздаешь на встречу. Тебе на сколько часов назначили?
Лида осеклась.
— Мне?
— Ну да.
— На который час? Встречу…А я уже опаздываю! Да- да…
Лида быстро накинула шубу, обула сапоги, схватила сумку и выбежала из дома. Ну что ж, придется пройтись по магазинам, прогуляться вместо того, чтобы отоспаться дома за всю тяжелую неделю. Сама себе устроила прогулку.
Был солнечный воскресный день, такой редкий для Питера. Легкий морозец шлифовал края снежинок и они искрились, серебрились и золотились в мягких солнечных лучах. Солнце было низким, усталым и подслеповатым по-зимнему. Оно не грело, но холодило и даже морозило. Искрящийся лед и сверкающие сугробы излучали отраженный солнечный свет, преломляя его и превращая лучи из ласковых в колючие и равнодушные.
Лида прошла по настороженной, малолюдной улочке, запруженной в будние дни грязным потоком грузовых машин и свернула на набережную Обводного канала. Редкие, медлительные автомобили блаженствовали на воскресном просторе трассы. Задумчивый гаишник на повороте был благосклонно настроен. Прислонившись к капоту своей машины, он мирно почитывал газету. Лида даже обрадовалась за него, предположив, что он просто не хочет портить людям воскресное настроение, что у него все в порядке с доходами и потому он никого не тормозит и не наказывает. Благодушие гаишника плавно перешло к ней и, перейдя улицу в положенном месте, чего обычно не делала, она задумала купить всем домашним какие-нибудь подарки. Ей стало до слез жалко деда, которого предстояло отругать, как провинившегося школьника, Ваньку, которому она так и не рассказала про страны, а больше всех — Зойку, ее кровинку, которой больше всех доставалось строгости и меньше всех — внимания, потому что она была — родная.
Зойка была уже лет пять предоставлена самой себе. Лида не помнила, когда она последний раз расписывалась в ее дневнике, не знала, какие у Зойки оценки, и в конце каждой четверти спрашивала мимоходом: «Все в порядке? Троек нет?»— «Нет», — равнодушно отвечала Зойка. «Точно нет?»— «Нет». На этом родительский контроль за подростком заканчивался. Пару раз в году Лида разговаривала по телефону с классной, пару раз — с учительницей музыки. Та Зойку хвалила. Несколько раз Лида была на родительском собрании в школе, где все учителя в один голос тоже хвалили Зойку. И больше на собрания она ходить не стала, неловко как-то было. А однажды Зоина классная руководительница Валентина Ивановна позвонила ей поздно вечером и, захлебываясь от возмущения и негодования торопливо и сбивчиво заговорила:
— Лидия Павловна! Вы меня, конечно, извините но в моей полувековой практике это первый случай. Я отработала в школе всю свою жизнь, но такого еще не было! Все ли у вас в порядке? Чтобы ребенок сам приходил к себе на родительское собрание! Пришла и села! Вместе с другими родителями! И не стыдно? Я ее отправила домой. Я не знаю, может, я неправильно поступила, но я ее отправила домой. Это же не понятно что?
— Да, — неуверенно согласилась Лида, припоминая, как Зойка три вечера подряд ходила хвостом и нудила, что на собрании будут решаться важные вопросы о разделении класса, что она не знает, в какую группу по английскому ей идти, что надо деньги собирать в очередной раз на праздники, на поездки и экскурсии. «Сколько? — отреагировала Лида на слово «деньги», оторвавшись от телефонной трубки. — Возьми, пожалуйста, сама.» Зойка, видно, и решила узнать все сама, заявилась на родительское собрание за информацией.
— Пришла, села за свою парту и сидит. Даже родители удивились, не то, что я!
— Я с ней поговорю.
— Зачем? Не надо говорить с ней, Лидия Павловна! Это с вами надо говорить. У вас хорошая девочка, цельная, сильная, воспитанная. Но вы ее упустите. Она — ребенок, она должна быть под крылом. Она еще не оперилась, и вместо перышек у нее вырастет панцирь! Непробиваемый панцирь, помяните мое слово! А пока она у вас голенькая в чистом поле. Все сама. Нельзя так. Вы же мать!
— И отец, к сожалению. Мы разберемся, Валентина Ивановна, разберемся. Валентина Ивановна еще долго развивала тему, а Лида терпеливо слушала, потому что никаких аргументов для оправдания у нее не было. Не будет же она ей жаловаться? Не будет. А что тогда говорить? Оставалось слушать.
Лида была и отцом и матерью, а в результате совмещения получался ноль. Материнскую ласку поглощала отцовская строгость и наоборот. Все это было хаосом, неразберихой, от которой хотелось спрятаться, отойти и не возвращаться. Вот она и пряталась от Зойки и Зойкиных проблем, потому что не знала, кого включать в определенный момент: доброго отца или строгую мать, ласковую мать или сурового отца, заботу или контроль? Тем более, что Зойка не требовала ни заботы, ни контроля. Зойка ничего не требовала, она просто ходила тенью и терпеливо ждала перерыва в рабочих разговорах Лиды по телефону. Она не просила вкусненького, не клянчила наряды. Изредка говорила, что стали малы джинсы, на сапогах сбились набойки, а противный Шаков смеется над ее плащом.
— Возьми деньги, купи, — говорила Лида. Зойка брала и покупала. Вкус у нее был хороший, лучше, чем у Лиды, и об этом Лида радостно ей сообщала после тщательного осмотра очередной покупки.
— Правда, дороговато… Но надо бы лучше, да нельзя — хвалила она ее.
— Бабушка говорит, что мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Мне еще надо шапочку и шарф под цвет.
— Правильно говорит бабушка, — соглашалась Лида, подсчитывая в уме, как дотянуть до дедовой пенсии, а потом до получки.
Зойка никогда ни на кого не обижалась, и это настораживало Лиду. Наверное, нужно было идти с ней по магазинам, долго примерять и выбирать вещи, устраивать из этого похода праздник, потому что из таких вот маленьких праздников и складывалась жизнь, наверное, ей этого хотелось, но…
Лида уткнулась носом в воротник шубы, пряча замерзшее лицо от ветра и от глаз прохожих, будто они могли прочитать ее мысли и понять, какая им навстречу идет невнимательная мать. Лида лихорадочно вспоминала, что просила Зойка в последнее время ей купить, и не могла вспомнить. Может, блестящую заколку? Зойка называла себя сорокой, потому что очень любила все блестящее.
Ванька тоже ничего не просил, только рассказать про страны, про время, про Бога. Ваньке она этот рассказ напишет когда-нибудь, когда будет время. Ведь так, как напишешь, так не расскажешь, лучше написать, пусть спокойненько потом читает. Лучше поймет и отвлекаться не будет. Лида еще глубже уткнулась в воротник, понимая, что опять лукавит перед самой собой. Писать в ночной тишине было приятно, спокойно, хорошо, а рассказывать ребенку сложные вещи и смотреть ему в глаза — тяжело. Он все время перебивал, переспрашивал, а это раздражало, нервировало ее. Доброта улетучивалась, терпение таяло, она еле сдерживала себя, а в голове крутились мысли о недописанных жалобах, не сделанных звонках, неоплаченных квитанциях, предстоящих судах… Нет, вечером она соберет Зойку и Ваню и отведет их в магазин. Пусть сами выберут себе, что нужно.
Она прошла по мостику, свернула к храму Воскресения Христова и замедлила шаг. Взгляд ее наткнулся на выщербленные квадраты белокаменных гранитных плит, вросших в землю возле входа и окруженных со всех сторон черными полчищами асфальтовых потоков, припорошенных сверху пушком снега. Такими же точно плитами был вымощен двор у них дома. Лида присела на лавочку, не отрывая взгляда от камней и понимая, что теперь она не знает, куда идти дальше. Она сидела перед этими плитами, как перед камнем, на котором были расписаны все ответы, но только на неизвестном языке, и она ничего не могла понять.
Когда она в детстве выметала двор, то тайно гордилась, что у них двор не такой, как у всех соседей. Позже отец сказал ей: «Это не я сделал, это — церковные плиты от разрушенной церкви».
— А что такое церковь? — спросила Лида.
— Это красивый, большой дом, куда люди ходят молиться Богу.
— Он там живет?
— Нет, не там…
— А где? На небе?
— Он живет везде: и на небе, и на земле, и в тебе, и во мне…
— А что такое Бог? — спросила Лида и испугано замигала, услышав такую неожиданную весть, что в ней кто-то живет.
— Мы Его не видим, но он нам помогает во всем. Он все может, а мы без его не можем ничего. Или можем только плохое.
— А! Бог — это Ленин?
Отец рассердился:
— Нет.
— А где стоит эта церковь? И почему ее плиты у нас во дворе?
— Ее разрушили. Ее теперь нет.
— И Бога теперь нет? Только Ленин?
— Бог есть. А Ленина нет, — ответил отец.
— Ленин есть! — не согласилась Лида, — Нельзя так говорить. В школе узнают, что ты так говоришь, будут смеяться над нами. Ленин всегда живой! Ленин всегда с тобой!
— Бедная моя девочка, — вздохнул отец, — Ленина нет. Он умер, и его чучело лежит в центре Москвы, ворон пугает.
— Почему чучело… — оторопела Лида.
— Видела у дяди Сережи а стене голову кабана?
— Видела…
— Ленин — это то же самое. Ничуть не отличается.
— Нет… — прошептала Лида помертвевшими губами, — Я хочу в Москву, в Мавзолей! Отвези меня, я хочу поклониться Ленина.
— Вот для этого и разрушили церкви, чтобы ты так сказала, — вздохнул отец.
— Выброси эти плиты! — велела Лида. — Убери их с нашего двора!
Отец ухмыльнулся как-то железно и посмотрел на Лиду, как на чужую. Лида навечно запомнила этот взгляд сквозь нее, который дал ей знать, что Лида — это не самое главное, не самое важное, что есть в мире отца.
— Никогда не проси меня сделать это, — тихо сказал отец.
— Нет, убери! — скомандовала Лида, боясь его недоброго взгляда, потому что раньше отец всегда ее слушался. — Или тогда отведи меня в церковь! Или тогда — к Ленину…
— Не бодайся, — миролюбиво сказал отец, — Бодливой корове Бог рога не даст. Я сказал — и это для тебя закон.
О взял ее на колени, пригладил выбившиеся из косички пряди и, заправляя их за ушки, стал рассказывать:
— Здесь раньше были овраги. Когда взорвали церковь, то кирпичи, плиты, остатки куполов, стен — все привезли сюда и ссыпали в эти овраги.
А я потом навозил песка, выровнял бульдозером землю и построил дом.
— И поэтому мы так тяжело живем? Мама говорит, что нам тяжело жить.
— Мы живем счастливо, потому что тяжесть переживаем все вместе. Все люди тяжело живут. Жизнь — непростая штука. Надо у Бога помощи просить, а мы не просим.
— Зачем нам просить? Ленин все дал нам вместо Бога! А Бог не дает!
— Что нам Ленин дал? — терпеливо уточнил отец.
— Все! — воскликнула Лида и вскинула руку в пионерском салюте, — К борьбе за дело коммунистической партии будьте готовы! Всегда готова! Отец напряженно вздохнул:
— Ладно. Вырастешь — разберешься. А пока иди подметать церковные плиты. Чистота - это самое главное.
Лида сидела на лавочке и разглядывала изъеденный временем камень. Ей очень хотелось домой. А еще хотелось вымыть, вычистить, отгладить каждую щербинку этих камней, будто они были живыми и мучились от грязи и холода.
— Что такое случилось у вас? — услышала Лида сбоку тихий, напряженный голос.
Она вздрогнула и резко взглянула на маленькую старушку в шляпке, чуть отодвинулась от нее, напряженно кивнула:
— Спасибо.
Белые кудри старушки, окружавшие теплую фетровую шляпку, были покрыты инеем и блестели на солнце, как искусственный парик. Иней на ней сливался с сединой и получалось очень красиво, хоть и неестественно. Лида невольно залюбовалась старушкой, ее чистыми, голубыми глазами, розовыми щечками.
— А вы почему-то в землю смотрите? — спросила старушка, — Когда на душе тяжело, надо смотреть в небо, а не в землю. Куда клаза глядят, туда и направляешься. Правильно? Не зря говорят: иду, куда глаза глядят.
— Небо сегодня ясное, — кивнула Лида, — Солнышко. Редко такое бывает.
— Да, над Петербургом небо непростое. Увидеть звезду — все равно, что клад найти. Цвета тяжеловатые. Но в этом тоже есть ответы и советы.
— Вы умеете читать небо? — спросила Лида.
Старушка задумалась, замигала глазками, потом стеснительно поправила рукавички:
— Наверное, нет. Читать не умею. Только чувствовать. Вы идете на службу?
Лида неуверенно пожала плечами.
Старушка деликатно промолчала, потом пожелала Лиде всяческих благ, вежливо поклонилась и потопала по каменным плитам к высокой паперти храма. Ее войлочные ботики беззвучно скользили по булыжникам и по граниту, и казалось, что старушка не имеет веса, а потому легко плывет, не касаясь земли, не трогая снега и не оставляя следов.
Лида глянула в небо и зажмурила глаза от яркого блеска золотых куполов и крестов на бирюзовом, сверкающем фоне. На небе не было ни облачка и цвет его не зимний, не питерский, не земной, поразил Лиду. Сочная, густая, насыщенная бирюза отяжелела от насыщенности и даже тяготилось ею. Лида глянула на сверкающий крест центрального купола. В солнечных лучах он засиял так, что на глазах выступили слезы. Она зажмурилась, открыла глаза снова и увидела, как закружились, переливаясь и искрясь вокруг креста тонкие, слепящие лучи. Они пронзали бирюзу неба острыми лучиками. В этот момент зазвонили колокола, а в церкви запел хор. Золоченый крест, словно маленький корешок луковицы купола, вросший в небо, питался этими силами, соками, истинным ярким цветом, который был недоступен глазам людей.Через корешок и луковки все скапливалось внутри храма, все отдавалось жаждущим душам.
Лида нерешительно поднялась со скамейки. Ей невыносимо захотелось стать причастной к этой тайне. Она прошла по каменным плитам к высокому крыльцу, разглядывая их внимательно и удивляясь, насколько они были похожи на плиты в их дворе! На секунду ей показалось, что она дома, что, сделав несколько шагов, она нащупает ручку двери с привязанной к ней веревочкой, войдет по ступенькам на маленькую веранду. Она даже услышала звуки маминых шагов в глубине коридора, голос отца на кухне, он разговаривал с Тимом и смеялся.
Лида подняла голову, перекрестилась на икону и поднялась по ступенькам. Тяжелая дубовая дверь мягко поддалась, и Лида оказалась внутри храма. Она остановилась, показалось вдруг, что все люди, находящиеся внутри храма, имеют право там быть и одна она этого права не имеет.
— Пойдемте, — услышала она рядом шепот. Седая старушка в фетровой шляпке взяла ее за руку. Гулкие каблуки Лидиных сапог оглушительно стучали, а ботики старушки неслышно скользили рядом по каменному полу, и казалось, что Лида шла одна.
— Я вас веду к Ней, — шептала старушка, — к Тихвинской Божией Матери.
Осторожно обходя людей, старушка привела Лиду в глубь храма и остановилась перед большой старинной иконой.
— Она написана на дереве, — пояснила старушка. — Видите, какое чудо?
Лида кивнула.
Взгляд Богородицы был устремлен внутрь себя, и Лиде невольно захотелось подчиниться неслышному зову и тоже заглянуть в запредельное. Она закрыла глаза, дерзко попыталась что-то увидеть. Но несказанное вдруг ускользнуло и растаяло от шепота старушки:
— У Нее левая ручка теплее правой. Левой Она держит Младенца. Потрогайте!
Лида усомнилась, но послушно прикоснулась к ладоням Богоматери. И правая, и левая ладони были одинаково прохладны.
— Вы почувствовали? — прошептала старушка.
— Нет, — честно призналась Лида.
— Ну ничего, в другой раз, — утешила ее старушка и растаяла среди стоящих на службе людей.
Лида настороженно огляделась по сторонам, ища ее взглядом, но старушка пропала, будто ее не было. Лида сова взглянула на икону, в печально-спокойные глаза Богородицы и ясно услышала свою мысль: «Если очень захотеть, если заставить себя почувствовать разницу температур, то, может быть, правая покажется чуть теплее левой». Ей стало неловко за эти произнесенные мысленно перед иконной слова, и она стыдливо отошла от иконы. Проходящий мимо человек неловко повернулся и нечаянно толкнул ее. Лида от неожиданности пошатнулась, не удержала равновесие на высоких каблуках и шумно рухнула на колени перед иконой.
— Простите, простите! — тихо воскликнул мужчиа. Он взял ее под локти и стал поднимать с пола, но тело Лидино обмякло, словно она была неходячей.
— Оставьте меня…
Мужчина нерешительно отошел от нее и остановился в ожидании.
Лида взглянула на икону и, медленно поднявшись с колен, подошла к ней. Она прикоснулась губами к правой руке Богородицы, и гладкое дерево не ответило ей. Она поцеловала левую ручку и тоже не почувствовала ответа. Потом она прижала ладонь к левой руке Богородицы, не для того, чтобы почувствовать тепло, а только чтобы Она ее простила… Прошло несколько прохладных секунд, и вдруг жаркий толчок пронзил ее ладоь и отбросил руку. Лида ахнула и замерла. Она притронулась кончиками пальцев к дереву иконы. Дерево было даже не теплым, горячим…
«Потрогайте! Потрогайте!»— прошептала Лида кому-то.
Маленькая старушка возникла рядом с ней так же внезапно, как и исчезла.
— Потрогайте, — настойчиво требовала Лида.
— Мы заем, — спокойно ответила старушка.
Лида не могла сойти с места. Она все осматривала икону, раму, стену — нет ли где розетки? Зная, что чудо произошло, она все же искала источник чуда. Она отходила, подходила, снова прикладывалась к иконе и не могла понять, как в одно мгновенье дерево стало горячим? Что-то случилось невероятное. Так уже было пятнадцать лет назад, в тот момент, когда она увидела на белой простыне кричащую, красную Зойку. Смешанное чувство ужаса и счастья — вот она! Живая! Кричит, дышит! Мечта во плоти – в красной, горячей, беспомощной. Но великой плоти, которая наполняет душу новой сутью. Плоть Чуда – живая суть, с которой и ради которой теперь будешь идти до конца, будешь любить и защищать ценой своей жизни, потому что Это — часть тебя и только вместе с этой частью ты будешь счастлив. А без нее — нет… Живая суть — горящая неясным жаром ладонь, от которой так неизъяснимо холодно прикрытым от людских взоров заплаканным глазам.
ххх
Она вышла из церкви, спустилась неловко, как старый человек, по ступенькам паперти и остановилась, уткнувшись взглядом в гранитные плиты. Когда-то в детстве отец высек на плитах во дворе ровные, четкие круги. Лида, подметая двор, обнаружила их и все спрашивала:
— Вы не знаете, откуда взялись круги?
Никто не знал.
— Это ты сделал? — спросила она отца.
— Нет, — ответил отец.
— А кто?
— Никто. Образовались сами по себе.
— Так не может быть! — возмущалась Лида, — Это ты сделал!
— Нет, — упрямился отец.
Лида садилась на плиты и, наклонившись, разглядывала таинственные круги.
— Вот же, вот! — кричала она, — Это следы от железа! Это стамеской или топором. Ты высек! Говори — ты?
— Нет, — равнодушно отвечал отец, — Сами нарисовались.
— На камне? — возмущалась Лида, — Выросли, что ли?
— Да, — кивал головой отец.
— Так не бывает.
— Бывает, — не соглашался он. — Ты же вчера мне доказывала, что Бог ничего не создавал. Что все возникло само по себе, а чего не возникло, то дал нам Ленин.
— Да! В процессе эволюции! Человек произошел от обезьяны!
— А обезьяна откуда?
— Из рыбы!
— А рыба?
— Из молекулы жизни.
— А молекула жизни?
— Из океана.
— А океан?
— Из земли.
— А земля?
— Из космоса.
— А космос?
— А космос? — Лида задумалась, — А космос — ниоткуда. Сам.
— А космос — не из этих кругов, случайно? Они тоже ниоткуда.
— Круги — откуда! Они от тебя!
— А космос от кого?
— Не знаю…
— А споришь. Когда не знаешь, надо просто верить, а ты споришь. Ты книгам веришь?
— Верю.
— Всем книгам веришь?
— Всем.
— А в то, что раньше жили динозавры, — веришь?
— Конечно.
— А я не верю! Их не было.
— Были!
— Докажи.
— Так в учебнике написано!
— А доказательства есть?
— Есть сколько угодно! Следы на камнях, кости, скелеты…
— Это ученые из гипса смастерили, — сказал отец.
— Ты против всех! Ты неправильный! — кричала Лида, — Ученые не смеют врать! Не могут, не умеют, не должны!
— А ты можешь врать?
— Я могу, иногда… — кивнула Лида.
— И я могу, — сказал отец, — Они тоже могут.
— Но тот, кто книжки печатает, тот не позволит ученым врать.
— А если бы я книжки выпускал, то я бы позволил, — задумчиво сказал отец.
— Это нечестно. В книжках надо писать правду. И в книжках все — правда!
— И ты им веришь, да? — спросил отец.
— Я книжкам верю. И учительнице верю. И Ленину верю, и партии верю!
— Так почему же ты не веришь самой главой книге на земле — Библии?
— Потому что я ее не читала.
— Читай.
— Не буду. Там неправда. Там все по-другому, не так, как в наших книгах, в настоящих.
— Все настоящее — временно, — вздохнул отец, — А Библия — это книга прошлого и будущего, она на века. Настоящее — это миг. Прошлое — это начало нашего с тобой разговора, а будущее — это окончание нашего разговора. Я начертил эти круги, признаюсь. Я.
— Зачем? — строго спросила Лида.
— Чтобы ты их запомнила. И всю жизнь потом к ним возвращалась, к этим кругам. Ничего не происходит из ничего. Для возникновения нужна сила. Ты эти круги не смогла бы высечь, а я смог, но ты будешь делать то, чего не смогут делать другие. А вот создать нас с тобой, этот мир, деревья, птиц, планету, звезды, динозавров твоих, если они все-таки были, — кому по силам?
— Не знаю. Наверное, Богу…
— Когда не заешь, надо верить. И знание придет.
— А зато Ленин создал наш Советский Союз! — обреченно воскликнула Лида.
— Ленин разрушил Россию. Он сделал их живого организма жидкую, бесформенную амебу. Страны — это живой организм. Революция предателей напитала его ядом и теперь он ослаб, смертельно заболел. От яда у него выросли дополнительные вялые руки, ноги, пальцы, уши и носы, и он не справляется с этим. Нам кажется, что быть самыми большими — это хорошо, а на самом деле наше многорукое, многоногое чудовище мучается само от себя и теряет силы. Новым органам не хватает крови, да и кровь уже не та, отравленная ядом. И скоро будет все очень плохо, потому что у чудовища есть враги, а оно беззащитно изнутри, и они туда уже пробрались и медленно захватывают его жизненно важные органы.
— Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь! — начала Лида петь гимн.
— Бедная моя девочка, — вздохнул отец, — Тимке будет проще. Он мужик. А ты — мученица. Жертва.
Лида подняла голову от плит и взглянула на небо. Из бирюзового оно превратилось в белое, белесое, бесцветное, будто за несколько минут отдало все краски и силы земле.
— Нет, папа, — прошептала она в небо, — Тимке не проще. Тимке еще хуже, потому что он — мужик. А мне — муки — по воле, боль — по духу, а крест — по силам. Он не тяжелее, чем смогу нести. Тимке хуже, папа.
Лида медленно пошла по набережной вдоль Обводного канала. Лед сковал воду, и грязный, зловонный канал, который Лида так не любила летом, превратился в белоснежное подобие маленькой, уютной речки, наряженной в строгие наряды тяжелых гранитных берегов. На Московском проспекте, несмотря на воскресный мороз, по тротуарам шли стройные колонны прохожих, и это было похоже на маленькие демонстрации, которые устраивались в их городке на 7 ноября, 1 мая и в День Победы. Лида с Тимкой любили демонстрации, а мать с отцом не любили. Отец на демонстрации не ходил, ссылаясь на заботы по дому, мать суетливо и нервно собиралась по утрам, потому что их на работе отмечали, записывали и заставляли ходить в колоннах. Она убегала раньше детей и возвращалась, когда они только выходили из дома.
— Почему ты вернулась? — возмущался Тимка, — У всех родители сознательные, ходят со своим коллективом, только вы дома сидите.
— Я пойду, пойду еще, — лгала им мать. — Я бумаги дома забыла, вот и пришлось вернуться.
— Отметилась? — тихо подтрунивал отец, — Настоящие герои идут в обход!
Мать исподтишка кивала ему, как заговорщица, а Лиде было до слез обидно иметь таких вот неправильных родителей, таких легкомысленных родителей, из-за которых ее потом еще, не дай Бог, не примут в комсомол.
— Не дай Бог, меня не примут в комсомол из-за вас! — возмущалась она на ходу, крепко уцепившись в рукав Тимохиного пиджака.
Седьмое ноября они не очень любили, потому что было холодно. Рукавички носить было еще рано, а нести через весь город портреты вождей компартии, красные флаги, плакаты и транспаранты — мерзли руки. В Летний парк, куда под бравурную музыку стекались нестройные, праздничные ряды, они приходили с синими руками и красными носами. Потом ссорились всем классом, мучались от нудных речей с наспех построенной трибуны и выясняли, кому нести в школьную кладовку флаги, лозунги и прочий ненужный теперь инвентарь. Галина Павловна, классная руководительница, взывала к совести мальчиков и всегда защищала девочек. Мальчики классную любили за искренность и слушались, но для виду с девочками переругивались.
Тимохин старший класс, подметая широченными брюками-клешами самодельные цветки-гвоздики, останки лопнувших шариков с ниточками и сломанных флажков, улетучивался быстрее младших, и потом она встречала брата уже только в Доме культуры на праздничном концерте. Тимоха хорошо пел под гитару и был самым модным местным артистом в самых широких клешах. Дома их ждали голубцы и салат оливье.
— Что ты там под гитару-то пел? Партия — наш рулевой? — спрашивал отец.
— А ты бы сходил и послушал! Тима пел «Где моя любимая»- защищала брата Лида.
— Я спросил у ясень, я спросил у тополя… — пропел Тимка.
— Ишь ты, — удивился отец, — Уже такие песни разрешают петь!
— Ладно тебе, — тихо усмиряла его мать.
— Мне звезда упала на ладошку, я ее спросил, откуда ты… — напевал Тимка, уминая салат.
— Да что ты? — удивлялся отец, — И эту пел?
— Пел.
— Тогда ладно. В следующий раз сходим с мамой.
— Можно подумать! — скептически замечала мать, колдуя над плитой. Что она имела в виду — было не очень понятно. И в следующий раз никто никуда не шел. Отец брал с утра топорик и шел на халтуру — рубить очередную баньку, а Лида, распустив завитые волосы, крутилась перед зеркалом и насмехалась над старшим братом, у которого клеши «по бедрам» съезжали из-за отсутствия бедер и он заставлял мать срочно ушивать их.
— Что это за мода такая, — сердилась мама, стрекоча машинкой, — Попа голая почти, ножки все в обтяжку, тут неизвестно что! Рубаху узлом не завязывай! Зачем завязал? Не буду гладить больше!
— Так надо! — отмахивался Тимоха.
— Сколько материала пошло! Метр ширина! И кому от этого легче? Зачем такое придумали? Куда отец-то смотрит?
— Отец разрешил! Шей скорее, опаздываю! Лидку не возьму, пойду один.
— Почему это? — возмущалась мать, —Я сейчас вот зашью эти клеши в трубочку и мигом дома останешься. Лидку он не возьмет!
— Очень-то мне надо, — кривила губки Лида.
Мать тихо улыбалась и крутила ручку машинки. А они в солнечной веселой первомайской колонне торжественно проходили по центральной улице городка, махали флагами, шариками и заранее выращенными на окне в банке нежными березовыми веточками. Они кричали «Ура! «, захлебываясь от восторга, в ответ на громкие лозунги и приветствия, доносившиеся с трибуны, установленной возле здания райкома партии. «Да здравствуют труженики села, выполнившие и перевыполнившие производственные задания!»— кричали рупоры с телеграфных столбов, и колона ворковала: «Ур-ра!» Лида тревожилась, когда «Ура!» звучало тихо, хотелось, чтобы все кричали громко, как будто за тихий отзыв могли наказать недовольные начальники в шляпах, хмуро махавшие ладонями с трибуны, как будто они стояли на Мавзолее.
Лида с замиранием сердца приближалась к трибуне и трепетно ловила взгляд какого-нибудь великого человека в шляпе. Счастливая от того, что он на нее тоже посмотрел, она кричала во весь голос «Ура!» в ответ на «Да здравствует советская молодежь, будущие строители коммунизма!» Видно, все чувствовали то же самое, потому что возле трибуны «Ура!» было сочным, громким, радостным, а по мере отдаления от нее, оно жухло, теряло силу и окраску.
Однажды, возвращаясь после окончания парада и концерта домой, они с одноклассниками забрались на пустую трибуну, стали фотографироваться, кричать лозунги и по-отечески махать ладонями несуществующему послушному народу в лице фотографа Витьки и подражая во всем великим людям. А потом, когда Витька раздал фотографии, их разбирали на комсомольском собрании. Лида шла домой с подругой Наташкой и всю дорогу они покаянно спрашивали друг друга: «Ну как же это мы посмели! Как можно было встать на такое место — нам! Какое кощунство!» Она всю жизнь помнила это состояние покаяния преступников, преступивших дозволенную черту, посмевших встать на одну ступень с теми, кто имеет на это право. Состояние ничтожной твари, возжелавшей в шутку хотя бы побыть на месте человека.
Лида поежилась. Ей стало неприятнно от этих воспоминнаний. Она оглянулась на храм и вдруг остановилась. Почему же, проходя мимо церкви, она ни разу не подумала, что на нее кто-то смотрит, что кто-то чувствует ее, слышит и понимает, почему только сегодня, впервые, ей стало неловко за себя.
Лида неловко повернулась и, уткнувшись в воротник шубы, виновато поспешила к дому. Какой-то тяжелый груз, висевший на ее душе и растаявший в миг прикосновения к горячей иконе, снова материализовался и стал давить с утроенной силой. Не чувствовать этой тяжести, этой боли она сможет только дома, там, где придется чувствовать чужую боль и тяжести. Но от этого своя не пройдет. Она уплотнится, утрамбуется и станет непробиваемой, как камень и от этого Лида, как камень, станет тяжелой. И нет никакого выхода, чтобы избавиться от этой накопившейся тяжести, с которой, наверное, так и придется идти до конца.
— Для чего я пришла в этот мир? — прошептала Лида, едва сдерживая слезы. — Только для того, чтобы зарабатывать деньги? Есть, спать и снова их зарабатывать? Но их все равно не хватит.
Лида не заметила, как подошла к дому, прошла пешком шесть этажей и стала звонить в дверь.
Настороженная Зойка открыла ей и недовольно зевнула:
— Ты потеряла ключи? — спросила она.
Лида молча прошла в прихожую, растерянно взглянула в глаза дочки и прошептала:
— Все кроме счастья — это несчастье. Это когда без своей части. Когда все части вместе — это счастье, а когда не вместе — это…
— У тебя все в порядке? — сухо перебила ее Зойка.
— Только надо знать эти части. Четко знать каждую, до молекулы, до атома. Твоя или не твоя — часть…
— Чего ты? — неуверенно улыбнулась Зойка.
— Ты к какому батюшке ходишь? — спросила Лида.
— К отцу Никандру, — замигала Зойка.
— Отведи и меня. Мне срочно надо с ним поговорить. Отведешь?
Зойка усмехнулась и промолчала.
— Отведешь? — переспросила Лида.
Зойка опять усмехнулась, как когда-то в детстве отец — напряженно, будто была чужой.
— Зой…
— Ну, если ты готова, — приподняла брови Зойка.
— Я готова, — сказала Лида.
— Отведу. Не вопрос. У нас тут вот - другие вопросы…
Глава 20
Екатерина Георгиевна выбилась из сил, а идти оставалось еще не менее километра. Надо ж было выбраться после сильного снегопада! Ей как-то и на ум не пришло, что дорогу к деревне теперь не чистят. А дед Филя еще хвастался автолавкой. Какая автолавка в белом, бескрайнем безмолвии? «Выдумщик!»— необидчиво пожурила деда Екатерина Георгиевна, продолжая медленно продвигаться по рыхлому снегу, оставляя за собой темнеющий в белом поле след.
Сумка с гостинцами мешала больше всего. Екатерина Георгиевна задыхалась от усталости, но подбадривала себя тем, что сейчас попьет с Олей чайку и ляжет спать. Старая уже, здоровье не то, что раньше было. Упадешь — не найдет никто, так можно и замерзнуть. Никого вокруг, кроме птиц. Тревожная мысль придала ей силы, и Екатерина Георгиевна прибавила шагу.
Старость пришла неожиданно, в несколько дней. Где-то лет в сорок был короткий период, когда ей показалось, что организм внезапно дал сбой, износился и вот-вот забарахлит, зачихает и заглохнет. А потом все прошло, началась словно вторая молодость. За заботами о детях и внуках она позабыла о себе, мало ела, мало спала, сильно похудела и в один год стала другой — легкой какой-то, незаметной ни для других, ни для себя, невесомой и сильной, как мотылек. И, не замечая себя, своего тела, она чувствовала только огромную свою душу, исполненную нежности и тепла к разросшемуся семейству. Маленькая Зойка, неотрывно шлепающая за ней, уцепившись за подол платья, годилась ей не во внучки, а в дочки. Лида все время училась, сдавала сессии, Стасик организовывал крутые, крупные компании и фирмы, сам крутился и катался по всей стране, перестраивал жизнь в перестроенной стране, а Зойка досталась им с Павлом. Стасик заезжал к ним раз в месяц. С пышным целлофановым пакетом, набитым чипсами, соком, кукурузными палочками и кипой бесплатных газет из метро. Всем этим он тщательно угощал приходящих Зойкиных товарищей, а та потом старательно припрятывала подаренные гостинцы. А потом он опять уезжал куда-то перестраивать страну, важно заправляя кончик кожаного галстука в задрипанные джинсы.
Екатерина свою дочь понимала, и зятя понимала, и мужа своего понимала, когда тот, сурово сжав зубы, высиживал последние минуты в ожидании отъезда зятя, сдерживая себя изо всех сил.
«Вот и молчи. Сам тоже хорош, — молча оборонялась от мужниных мук Катерина. — Вот и умница. Ну еще чуть-чуть потерпи, чтоб без скандала…» Проходило еще чуть-чуть, и Зойка становилась безраздельно их Зойкой. Павел любил внучку всей душой, не оставляя ни капельки ни ей, ни детям, ни кому-либо другому. Все хорошее, что в течение жизни подарил ей муж, было лишь легким, тусклым отражением мощных, направленных на Зойку лучей любви. Но Катерине хватало этого тепла, и она счастливо плыла в зыбком, мятом пространстве дня и ночи, за широкой спиной мужа.
А Ваньку Павел не дождался. Иногда Катерина думала, что это даже хорошо. Не знала, что в этом хорошего, но почему-то думала, что так и должно было случиться. Павел не выдержал бы этой нынешней жизни, Тимохиных закидонов, Ольгиных проблем, Лидиного напряжения. Он умер бы, примиряясь с той безысходностью судеб детей, обреченностью внуков, сознавая свою беспомощность больного, хотя и нестарого еще человека. А так он умер, не прекращая излучать всесильные лучи любви.
Катерина свернула с поля на едва притоптанный провал узкой дороги вдоль опушки леса и побрела, проваливаясь в снег уже не по пояс, а по колено. Перевела дух, постояв возле раскидистых сосен, разглядывая серое, мутное, заплаканное небо и лечебные, как засохшие, старые пятна зеленки, впившиеся в серую мякоть облаков, макушки елей.
Они сажали эти сосны в Ленинский коммунистический субботник, в первый год ее приезда в эту деревню по распределению. Их с Иринкой, выпускниц Московского института, распределили в такую глухомань, и они летели сюда, как на крыльях. Иринка — главным инженером крахмального завода, а Катерина — мастером цеха. И было им тогда по 22 года. Завод небольшой, но ладненький, уютный, припрятанный в развилке реки под высокими дубами и кленами, рядом с развалившейся старой мельницей. Мельница тогда еще работала. После войны ее восстановили. За счет мельницы и крахмального завода деревня была крепкой и зажиточной. За речкой в лесу притаилась еще одна, а базе которой была создана МТС, машинно-тракторная станция. Там и работал Павел.
Катерина прошла мимо сосен, отчужденных, как повзрослевшие в разлуке люди. Они превратились из легких недотрог в шершавые неприступные столбы с недосягаемой поднебесной зеленью, бесформенной вершиной, рассеченной линиями суков.
За соснами начинался «завор»— высокий гребень бывшего русла реки. За сотни лет река измельчала, а старый берег, устойчивый, сбитый некогда мощным потоком реки, прорезаный руслом в закаменевшей глине, остался, как прародитель, возвышаться и охранять слабенькую правнучку от оползней, песков и прочих неприятностей, опасных для живой ниточки жизни.
Река была мелкой, по ней можно было идти пешком целые километры, блаженствуя в уюте ивовых стен раскрашенных голубыми стрекозами, желтыми ирисами и кувшинками и белыми, одинокими лилиями.
Вот здесь, а этом заворе, по которому бежала легкая тропка, на которой — никуда не спрячешься — человека было видно на многие километры, они с Павлом и встретились. Он, крупный, светлый, плечистый, даже не глянул на нее. Лицо его напряглось, крупные губы сжались, белесые брови нахмурились. Доброе, широкое лицо, суровое, неприступное, простое… Шагнул в сторону, уступая тропку. Она мышкой юркнула, косясь на него — все-таки уступил! Смешно было и непонятно — чего так хмурится? Прошла несколько метров, стараясь высчитать: он уже оглянулся или еще нет? То, что он оглянется, она знала. По хмурым, выгоревшим на солнце бровям, прячущим голубые, прищуренные глаза, знала — оглянется. Вот только — когда? Пропустила все сроки и оглянулась, замедлила шаг. Он именно в этот момент тоже оглянулся и тоже замедлил шаг. Издалека не было видно — хмурится или улыбается растерянно? Издалека не видишь, а чувствуешь. То, что не подвластно зрению и слуху, то может душе. И она почувствовала, как замерло в груди, как что-то радостно оборвалось, слетело яркой полосой и вонзилось в сознание огненной точкой окончательного восклицательного знака. «Ну и все», — подумала она как-то сокрушенно-счастливо, соглашаясь с мощью этого восклицательного знака. Ей даже не было неловко стоять и смотреть на него. Она стояла вполоборота, будто по команде, будто ей велели стоять и не двигаться, пока он всю ее не разглядит, не уловит, не услышит, не почувствует. Прорезавшийся, проклюнувшийся из ниоткуда восклицательный знак разделил или соединил их. Две половинки мгновенно потянулись к обозначенному стержню, вонзившемуся в высокую тропку где-то около молодой березки. Они поняли оба этот миг и детям потом рассказывали, и место это показывали. Павел посадил там дубок, а дубок оказался двойняшками и теперь это сильные, крепко прижавшиеся стволами друг другу два дуба. Только Катерина теперь одна. Она подходила к Ольгиному дому со стороны огородов, понимая, что не облегчает себе путь, а наоборот вымучивает себя, но зато идет по тем местам, где начиналось ее счастье и взрослая жизнь. Та взрослая жизнь, которая принесла плоды. И какими бы эти плоды не были, — это ее плоды. И бестолковая Ольга — она тоже — ее, потому что — мать ее внука.
В некогда большой деревне осталось четыре живых дома. Два — на их улице, а два — у леса, на второй улице. Остальные дома имели хозяев, но хозяева были далеко Летом, когда приедут дачники, деревня оживет, развеселится, нальется теплом, уютом, запахом молока и огородов, земляники, грибов и загорелых, здоровых тел. А зимой в деревне было страшно. Страшно было вспоминать ее живой и здоровой и чувствовать, как она умирает. Тяжело, как у постели смертельно больного, некогда сильного, волевого, красивого человека. За десять лет она почти исчезла с лица земли. Еще лет десять, и старые дома развалятся, а новые никто строить не будет. Зачем строить на мертвой земле? Может быть, так оно и надо? Пожили хорошо и — хватит? А потом их детям будет послабление. Может, будет, а может, и не будет.
А деревню жалко и не жалко. Катерина мысленно подсчитывала, сколько людей ушло из жизни за эти годы. Считала по дворам, проходя мысленно от дома к дому; заколоченные, занесенные снегом до самых крыш, они таили в себе столько хорошей памяти! Плохое не таили. Зла деревня не помнила. Катерина загибала холодеющие пальцы в шерстяных рукавичках, сбивалась со счету, принималась считать заново.
Ну и что было бы, если бы их дети остались жить в деревне? Где бы они теперь работали? Крахмальный завод в перестройку продали какому-то разгильдяю, тот его закрыл, а через месяц от завода остался один кирпичный остов. Народ знал, что разгильдяй не обидится. У него много брошенных заводов. Он их специально и скупал, чтобы не было на земле. А на своем поле много не напашешь, если шесть сынов жена не родит. Или хотя бы трех. А у них мода на многодетные семьи закончилась сразу после войны. От кого рожать-то было? Что успели, то успели, что сумели, то смогли. Народ обессилел, бабы измотались, детки слабые рождались, умирали. Катерина помнила, как плакал отец, крепко прижимая ее голову к груди, когда хоронили соседскую Ниночку, а потом когда Митьку, а потом когда тетю Валю, ее мачеху, добрую и тихую тетю Валю… Он вспоминал, видно, свою семью, от которой осталась одна Катя.
Отец ушел на войну в первые дни, оставив их вчетвером в ладном маленьком домике, перестроеным и слепленным им по досочке в нищее время из ничего на окраине крупного города Козлова. Коленька умер первым, заболев зимой воспалением легких, потом умерла Даша, а следом за ней, словно боясь оставить младших детей без присмотра, ушла мама. Катя, как старшая, осталась по весне за хозяйку в доме, ожидать отца. Все думала, что война скоро кончится. Сначала с ней пожила тетка. Они посадили огород, а потом тетка уехала и Катю забрала другая тетка. У тетки было трое детей и кормить Катю долго она не могла. Через месяц сказала, мол, иди, Катенька, к другим людям. Поживи у них, а потом опять приходи в гости. И Катенька пошла. Так всю войну по людям и проходила. В пять лет начала этот поход, а в десять закончила. По шагам битв шла. В одной семье две недели, в другой — месяц, в третьей — три денька. Так и дошла до дня Берлина.
А отец все не ехал. Несколько раз знакомые из деревни по ее просьбе наведывались в город, но добрых вестей не привозили. Дом был пуст, окна заколочены, а в почтовом ящике писем и похоронок не было. «Приедет», — утешали все Катю, а шел уже 1946 год.
«Вернется», — обещала Катя всем уже в 1947 году. И вот однажды бабка Паша, приютившая ее в последние годы, одинокая, тоже похоронившая всю семью в войну, приехала из города взбудораженная и расстроенная.
— Кто-то в доме поселился вашем. Я караулила, но не дождалась. Не воры ли? Но все раскрыто аккуратно, как у хозяина. Может, батька твой приехал? Я соседей не нашла, утро было раннее, все на базаре…
Катя тут же собралась и поехала в город. Баба Паша отпустила.
Отец шел ей навстречу с полными ведрами воды. О сосредоточено смотрел в землю и, мельком взглянув на Катю, шагнул в сторону, чтобы обойти ее.
«Пап», — тихо сказала Катя. Она его узнала и не узнала. Она его не помнила: ни голоса, ни лица, она его почувствовала, как кровь чувствует родную - по несказанному слову, непойманному взгляду, незаметному движению, как чувствует плоть свою родную плоть и отторгает чужую. Так душа понимает душу — по прошлой памяти, по предчувствию будущего. И все это врывается в один миг настоящего, острым скальпелем полосует по незримой ткани, и тогда спадает пелена и наступает миг прозрения: «Пап!»
Он не узнал ее. Потому что за несколько дней смирился с тем, что остался на свете один. На письма, которые он посылал жене, ответы не приходили. Никто ему не сообщил, что семьи не стало в первую же зиму войны. Он сам это понял по молчанию жены. Она не могла не отвечать, если бы все было хорошо. Он написал сестре, но та ответила, что все дома в порядке, видно не решилась его расстраивать. Он опять писал, просил сообщить о семье. Она неизменно передавала всякие приветы и пожелания а двух страницах, а в конце робко приписывала: «Все у нас хорошо, все в порядке, чего и Вам, дорогой мой братец Георгий Ефимович, желаем». И у него холодело все внутри от этой боязливой лжи сестры. А потом и она перестала писать, умерла.
Только в сорок пятом, под Берлином он встретил знакомого односельчанина, и тот сказал, что дом его года четыре заколочен, зарос бурьяном и никого живых там нет.
«Пап!»— шептала Катя в спину уходящему от нее человеку, может быть просто похожему на ее отца. Вода буйно расплескалась из ведер. Он остановился и оглянулся:
— Кто ты?
— Пап…
— Ты кто?
— Катя. Медведева. Георгиевна, — судорожно сглотнула Катя.
— Медведева Георгиевна? — переспросил мужчина и медленно, как две огромные мины, поставил ведра на землю. — Ты?..
— Я, — кивнула Катя. — А вы не из нашего дома? Не мой ли папа?
Мужчина пристально, внимательно разглядывал ее лицо.
— Если ты живая, — прошептал он, бледнея и дрожа, — то почему…
Он, видимо хотел спросить, почему никто ему об этом не сказал, но Катерина поняла, что ей надо объяснить чудо своего спасения и она проговорила виновато:
— Не знаю, почему. Всех Господь Себе забрал, а меня тебе оставил.
* * *
Катерина открыла калитку, скрипучую, как старая, высохшая елка. На лавочке с газеткой в руках сидел дед Филя. Очки его заиндевели и, видимо, он скорее спал, чем читал невесть откуда взявшуюся в заснеженной глуши прессу.
— Здравствуйте всем читателям! — громко поздоровалась Катя и прошла во двор.
Дед Филя вздрогнул и выронил газету из красных рук.
— Фу ты, чуть не замерз, — пожаловался он, поправляя ледяные свои очки на красном носу. — Кто это там? Из-за очков не вижу! — наморщил он нос.
— Это я! — сказала громко Катерина.
— А! — обрадовался дед Филя. — Это ты? А кто — ты? У меня тут в очках неизвестно что!
Дед возмущенно снял с носа очки с расколотыми заледеневшими стеклами и стал бережно совать их за пазуху:
— Катенька! Вот кто ты! Проведовать пришла нас? В такие-то снега-метели!
— Проведовать, — улыбнулась Катя.
— А мы все живы, — закивал головой дед Филя, словно извиняясь за такую нескромную живучесть, — никакая лихоманка не берет. Всех уже прибрала, а мы все болтаемся.
— Нельзя так говорить, дядь Филя, — строго сказала Катерина. — Не буди лихо, пока тихо.
Дед задумчиво замигал глазками и согласно кивнул:
— Оно так, да язык без костей. Это я от Липки научился. Раньше молчаливый язык был, а как с ей связался я, так и распустил, — пожаловался дед, будто связался с бабкой буквально на днях.
— Тетя Липа дома?
— Спит.
— Спит?!
— Ага. А что ей еще делать. Все на месте. Так целыми днями и спит. Она ж — барыня! Это я в работниках…
— Так уж? — недоверчиво подмигнула Катя.
— А вот так. Замучила меня старуха. Чем старей, тем злей.
— Когда ж она мучает, если все время спит?
— Как проснется, так и мучает. А потом опять спит. Извелся я с ней.
На веранде громыхнуло ведро, и дед Филя резко вздрогнул, лицо его вытянулось, и он испуганно прошептал:
— Проснулась…
— Я те дам — старуха! Ишь ты, молодой какой! Не слушай его, Катеньк, он уже скоро в Москву жалобы будет на меня писать.
— Буду! — огрызнулся дед Филя, — Замучила!
— Пиши хоть президенту, а он тебе ответит, что нечего было на мне жениться!
Бабка Липа павой выплыла из двери веранды, на ходу завязывая пышный пуховый платок, и пошлепала по натоптанной тропке к Кате.
— Дурак был! — сокрушено воскликнул дед. — Молодой, глупый.
— Ой ты, моя кровинушка ты дорогая! Ой ты моя ты красавица ненаглядная! Ангел мой золотой, — причитала бабка Липа, обнимая Катю, морща покрасневшее лицо, словно не от радости, а от горя.
— Ой, да сколько ж я тебя не видала, детушка ты моя-а-а, — причитала бабка, крепко прижимая расстроеннную Катерину и размазывая по лицу сухой рукой мелкие, острые слезки, которые расплывались в морщинках возле глаз, а бабка, не останавливаясь, покачивала головой в такт своим горестным причитаниям.
Слова лились непрерывным потоком, превращаясь в моннотонный, душераздирающий напев, который размеренно, как маятник, раскачивался, раскачивался, набирал силу, становился тоньше, выше, сильнее, звонче, пока вдруг не достиг какой-то определенной планки, тронув которую, оборвался на полуслове, а Катерина замерла, вслушиваясь в этот обрыв.
Звонкая пустота исполнилась ее безудержным, вырвавшимся из глубины души рыданиями. Все, что копилось, не выплескивалось, таилось в душе, вдруг всколыхнулось, взорвалось, исторглось судорожным вдохом, непроглядным стоном и горькими слезами.
— Ну чего, чего? — заволновался дед Филя, — Чего голосишь-то, как ведьма! Зачем человека растревожила! Он недовольно поднялся с лавочки и засуетился, отыскивая оттаявшие свои очки.
— Вот и воет, вот и воет, — воскликнул он и в голосе его, напряженном и насыщенном, звучала жгучее желание вот так же вот судорожно и протяжно взвыть и выплеснуть угнетающую душу тяжесть.
— Чего выть! — рубанул он рукой воздух, как бы отсекая длинный, тонкий хвост стона. — Хорош!
Но женщины его не слушали. Они стояли, обнявшись и плакали, словно напевали неведомую им самим песню, в которой за простыми словами прятались огромные тома текста о пережитом горе и растаявшей радости, об ушедших близких, о промелькнувшей юности и долгой старости. И вся эта печаль счастливо проливалась в слезы, потому что жизнь была и есть до сей поры, а через минуту ее может уже не статься…
— Кыш! Кыш! — замахал руками дед. — Пошел вон, гад такой! Опять сорвался с цепи! Липка, гони его!
Огромный, глуповатый по поведению и по выражению морды пес стремглав вбежал во двор и незамедлительно понесся в сторону сарая.
— Липа! Гони эту сволочь!
Бабка мгновенно забыв о причитаниях, развернулась и посеменила к сараю.
— Полет! Полет!
— Счас всех кур съест! — орал дед.
— А ты не лай на кобеля! — огрызнулась бабка. — Его уж и след простыл, а куры твои закрыты.
— Я его знаю, эту тварь! Он ключом замок откроет!
— У него свои дела. Забежал просто и дальше побег. Что ему, летать мимо нашего дома? Так у него крыльев нету.
— А меня не касается, пусть летает! Все хозяйство сожрал за эти годы, душегуб.
— Пусть и поест. Не побежит же он в город в магазин! Ему ж ничего не продадут поесть, у него ж — денег нет!
— А ты дай! Дай ему денег! — воскликнул дед.
— Да ладно вам, — примирительно сказала Катя.
— Вот, Катя, видишь? — пожаловался дед. — Что бы я ни сказал, даже если про спасение хозяйства, все равно она — поперек! Я говорю — белое, она говорит — черное. Я говорю — черное, она говорит — белое!
— Я пойду, — улыбнулась Катя, с любовью глядя на стариков. Если не уйти вовремя, они как артисты на сцене, войдут в раж и распоясаются до того, что бабка Липа вцепится в седые волосенки деда и, не дай Бог, вырвет последние. Так уж бывало не раз, но волосенки отрастали с каждым разом все хуже и хуже, и потому Катя поспешила.
— Вечером приходите в гости. Я гостинцев привезла.
На чужой территории дед с бабкой вели себя торжественно и степенно, особенно если были при нарядах.
— Приходите, — повторила Катя и пошла к калитке.
— Спасибо, спасибо, — закивали старики радостно.
Бабка Липа притиснулась плечом к супругу и тот переступил ногами, чтобы поустойчивее встать.
— Придем, придем. Вот Оленька-то обрадуется! Вот праздник-то какой!
* * *
Она сидела у стола, как натянутая, готовая оборваться, струна. Усталость, сковавшая тело в первые минуты тепла и тишины старого, уютного дома, сконцентрировалась, сжалась, как пружина, до звона в ушах, и заныла, заломила в усталых суставах.
Ольга суетилась вокруг стола, бестолково переставляя чашки и тарелки, перекладывая с место на место то ложки, то ножи. Она то искала солонку на полочке умывальника, перебирая зубные щетки и мыльницы, то склыдывала в четыре рядка несвежее полотенце, прикрывая его крышкой кастрюли, то смахивала рукой с угла незримую паутину, и Катерине казалось, что невестка, наводя порядок, сгущала вокруг нее незримый хаос, не позволяя ни говорить, ни мыслить, а только поеживаться от неуюта и напряжения.
— Ты сядь, — спокойно посоветовала Катерина, — Сядь и успокойся.
Ольга вздрогнула, будто Катерины в доме не было, а голос прозвучал с пустого стула.
— Я же не ругать тебя пришла. Ты не ребенок, чтобы тебя ругать.
— А зачем вы пришли? — спросила Ольга, и глаза ее, колючие и острые, глянули сквозь Катерину в тусклое, угасающее окно.
— Так разве гостей встречают? Зачем пришли? Да зачем бы ни пришла, а ты встреть, накорми и спать положи по-русски.
Ольга, едва присевшая на стул, тут же подхватилась и снова стала расставлять на столе тарелки.
Катерина устало вздохнув, принялась выкладывать из своей сумки на стол пакеты и свертки.
— Ставь чайник. Газ работает?
— Нет. Кочился давно.
— А плитка? На чем готовишь?
— В печке. Плитка перегорела.
— Как чай будем пить? Может, самовар разведем?
— Хлопотно. Я включу электрический чайник.
— Хорошо, — буднично согласилась Катерина. — Полет сорвался, ты видела?
— Видела. Он распустился совсем. Только поесть прибегает раз в сутки, а в руки не дается.
— Пусть бегает, только дед Филя за кур переживает.
— Кур он съест, — согласилась Ольга.
— Зато грядки не перероет. Хорошо, что зима. И что за порода у этого кобеля? Нисколько не может на цепи сидеть. Неймется ему.
— Свободу любит, — кивнула Ольга, наливая воду в чайник.
— Свобода пуще неволи. И собаке, и человеку. Чем больше свободы, тем сильней печаль, тем строже потом тюрьма.
Ольга напряглась. Ковшик с водой замер в ее руке, и вода плеснулась через край чайника.
— Осторожней, — посоветовала Катерина, — Я ему костей привезла, пусть поест.
— Кому?
— Полету.
— А…
— Вынеси на веранду да дверь открой. Он на запах примчится, там мы его и поймаем.
Она протянула Ольге сверток и та послушно выскочила в дверь.
— Голая-то не бегай. Не девчонка, поди, чтобы замечания тебе делать, — недовольно заворчала Катерина ей вслед. Но Ольга не вернулась.
Катерина присела на диван, откинулась на спинку и закрыла глаза. Посидела так несколько минут и, не удержавшись, прилегла на пышную подушку, собранную еще ее свекровью из гусиного пуха. За многие годы подушка не слежалась, не отяжелела, а все так же притягивала и успокаивала усталые головы сладким сном.
Зевнув, Катерина окинула взглядом кухню и отметила про себя, что невестка стала еще аккуратнее, хотя и прежде неряхой не была. Чистые, словно накрахмаленные половички на сияющих полах, печка безупречная, как в сказке или в мультфильме, новые обои — голубые васильки на желто-белой пшенице… Кому он нужен, этот уют и порядок? Ольге? Зачем он ей одной? И для чего она здесь, при этой печке, при этой колышущейся занавеске, при этом старом, заснеженном доме в лесу? Что ей тут сторожить, когда прошлое в старых стенах живет чужое, не ее, не Ольгино прошлое. У Кати — другое дело. У Кати — свой дом. По бревнышку, по досочке с Павлом построили. С закрытыми глазами каждый сучок и задоринку найдет, каждый гвоздик помнит — который магазинный, который самодельный, из кузницы, для экономии, для крепости…
Крепость сильная вышла, и бросать ее нельзя. Иначе тут же захватит враг — сырость, плесень, время… Время — не враг, захватчик. Захватит и не отдаст потом. И внукам не отдаст, и правнукам. Если, конечно, они захотят брать. Крепость дома надо беречь, охранять. А зачем им две крепости?
Катерина прислушалась к шуму на веранде, ожидая, когда Ольга вернется, и не заметила, как сквозь шум стали проступать, как мурашки по коже, чьи-то голоса, разговоры. И вот уже то один, то другой человек ходили по комнате, плыли в ее сознании, медленно улыбались и не мешая друг другу скользили сквозь свои тела: и свекровь, и свекор, и муж ее Павел, и братья его, и сестры. Катерина даже не удивилась, как это она пропустила их приход, ей было хорошо, спокойно и сладко от того, что все улыбаются и радуются друг другу.
— Что ж это такое! — возмущенно кричал кто-то за спиной свекрови и та медленно, согласно кивала.
— Кого это он съел у вас на веранде? Кости разбросаны, а он сидит, как барин, лапы растопырил. Кого он съел-то, Катя?
Из-за спины свекрови выглянуло озабоченное лицо деда Фили, а в его ногах начал шевелиться и пухнуть, расти на глазах старый, рыжий кот Пискун, подобранный ею в городе в первый год после свадьбы.
— Куры наши все целы, Липа? — продолжал голосить дед Филя, а Катерина радостно потянулась к пышной молодой шерстке Пискуна. Она так давно его не гладила, так скучала по нему, задавленному автобусом на дороге.
— Тихо ты, тихо, — шикнула бабка Липа и Катерина, испугавшись осторожного шепота, резко открыла глаза. Ольга сидела на стуле у стола, а у дверей стояли в торжественном ожидании нарядые бабка Липа с сумкой в руках и дед Филя с гармонью на груди.
— Ой, я задремала, — сонно удивилась Катерина и, стеснительно поправив волосы, стала подниматься с дивана.
— Лежи, лежи, ты утомилась, — махнул по-отечески рукой дед Филя, — Ты нам не мешаешь. Я сегодня напиваться буду, как настоящий артист.
— Я тебе напьюсь! — пригрозила бабка, — Сегодня женщин большинство, значит, праздник женский. А ты у нас будешь за генерала за столом. Будешь музыку играть.
— Это мы с удовольствием, — захорохорился дед. Музыку играть один я могу. Бабам разве можно инструмент в руки давать? Вам, бабам, что в руки попадет, то и пропало. Все испортите, поломаете, любой мужской инструмент в негодность произведете.
Дед лихо подмигнул Катерине, но та шутку не раскусила. Более опытная бабка Липа незамедлительно ткнула деда острым локтем в бок:
— Язык-то прикуси! Нахальник, — вполголоса осекла она его.
— А что я сказал? — искренне изумился дед, хотя глаза его были озорными и наглыми.
— Инструмент ему… — прошипела зло бабка.
— Садитесь за стол! — пригласила Ольга.
— А чего она? — возмутился дед, — Разве я не прав? Разве можно бабе в руки давать гармонь? Ну на вот, на, Оленька, возьми, сыграй, справишься?
— Гармонь ему… — протянула бабка, остро косясь на супруга и забираясь за стол.
— Вот я и говорю. Нельзя никакой мужской инструмент вам в руки дать. Не справитесь! А не могете, так и не берите! Так ведь хватают, хватают! А не справиться. Только все спортют, все поломают. И — на тебе потом, спорченный. Куды — с ним? Чего празднуем сегодня?
Дед, не глядя на супругу, взял со стола бутылку красного вина, быстро разлил по рюмкам.
— Выбирайте, какой хотите: хотите — прошлый Новый год, или Крещенье, или Сретенье. А может даже 8 Марта? А? Только у меня подарков нет…
— Будешь музыку играть вместо подарков, — сказала сквозь зубы бабка Липа, все еще обдумывая про инструмент.
— Заранее нехорошо праздновать, — робко запротестовала Ольга.
— А мы не заранее, мы в самую точку. Мы — отвальную справляем, — сказала Катерина.
— А кто отваливает? — растерялся дед, — Я только собрался привальную, только обрадовался, что деревня ожила, а уже кто-то отваливает?
— Ольга уезжает, — сказала спокойно Катерина.
— Куда? — изумилась Ольга.
— К мужу и сыну, — ответила Катерина, — Вот за это и выпьем.
— А хозяйство? — насторожилась бабка Липа, — Кто ж так с животиной поступает? Разве так можно? Хочу — кормлю, хочу — брошу, хочу — всех под нож. Она же живая, скотина. Кобель вон дурной бегает по деревне, и то жалко.
— За животину будет второй тост! — прервал жену дед Филя, — А кобеля мы на веранде поймаем и закроем.
— Интересное дело, — бабка Липа недовольно чокнулась рюмкой со всеми и, поморщившись, выпила вино, от огорчения забыв проследить за рюмкой деда.
Дед, заметив тонкий лучик призрачно мелькнувшей свободы, осушил свою стопку и тут же стал наливать вторую.
— Куда прешь? — произнесла ледяным голосом бабка, пихнув его под столом ногой. — На тот свет?
— А за животину-то, за животину-то! — напомнил он ей, и бабка горько закачала головой.
— Ранее животина в хозяйстве за самое главное считалась. Всю семью вокруг себя держала, к земле привязывала. А теперь? Ну как так можно их забижать? Разве это дело — всех под нож? Раньше, даже если семья гибла, то все одно, скотину старались не резать, а породистую в городе продавали, чтобы породу сохранить. Жалость раньше была у людей, а теперь нет ее, жалости. Теперь только к себе жалость, мол, разнесчастный я, а скотина — что? Счастливая, что ли? Еще день не наступил, а мы уже грехов напридумывали, уже обижаемся на него, уже планы строим, как скотину извести! Куда глошешь-то в одиночку!
— Я чтоб не мешать твоей речи, чтоб не перебивать… — оправдывался дед.
Катерина подняла рюмку, жалея деда и предложила выпить за то, чтобы не обижаться ни на себя, ни на завтраший день, ни на прошлый.
— Сыграй, дед Филя, «Скобаря», — попросила Ольга.
— А вам какого: «Новоржевского» или «Под драку»?
— Давай под драку, — лихо махнула рукой Ольга.
— А драться не будете? Он сильно заводной, — предупредил дед, — Мы, бывало в молодости как пойдем на кулачный бой деревня на деревню, стенка на стенку… И-и-эх!!!
Дед рубанул рукой воздух и судорожно передернулся от студеной и горячей памяти.
— А без гармони не ходили, нет. Что за драка без гармони? Без музыки — зло прет, а с музыкой — одна физкультура. Но с куражом. У-у-ух!!! Кур-ражу было во мне! Да, Лип? — радостно уточнил он у бабки.
— Ладно тебе, — раскрасневшись от вина, бабка замигала глазками и задрала высоко подбородок.
— У-ух! — ободрился дед бабкиным поведением, — А я там заглавный был, во всех драках первый!
— Генерал, — согласно кивнула бабка, гордо глядя прямо перед собой.
Дед зыркнул на нее настороженно, но заметив эту гордость, возвысился духом и выпятил грудь колесом.
— Ага! Я там за генерала всегда. На каждой драке. По моей команде и начало боя и вся битва на мне была. И мир от меня зависел!
— Ну уж, — приостановила его бабка.
— А как же, — сглотнул дед, чуть не поперхнувшись, — Гармониста больше всех потом били, если вовремя игру не прекратить. Тут дело тонкое, ты не лезь!
— Ну уж…
— Не лезь, говорю, в разговор! Я как заиграю «Скобаря под драку», так и заходят, и заходят желваки на мордах. А морды-то у нас в молодости покрупней, чем у кабанов были. Да, Лип?
Бабка величественно кивнула:
— Что быки все.
— Ага! — обрадовался дед, что она помнит его молодую морду. — А глаза, как по команде, кровью нальются, а кулаки зачешутся, затяжелеют, ну прям не знаешь, куда их деть! Хуже, чем один инструмент перед зазнобушкой. Так отяжелеют кулаки! Прям некуда девать их! Хоть ты волком вой, какое горе!
— Ну! Чего ты?! — осадила его бабка — Опился?
— Ага, да, — быстро пришел в себя дед, — Про что это я. Это я про начало драки… Заговорился… Гармонь тут ни при чем, я про кулаки.
— Счас прекращу! — строго предупредила бабка Липа. — Или дело говори или играй.
— Интересно, — поддержала деда Ольга, — Я про кулачный бой и не слышала.
— А я один раз видела, — покачала головой Катерина. — Это ужасно. Страшнее ничего не бывает.
— Война страшней, наверное, — сказала Ольга.
— Нет. Война страшна открытой силой, а кулачный бой — скрытой, припасенной для войны. Стихия! Природное явление!
— И чего они петушились, петухи эти, — недовольно поджала губы бабка Липа. — Вот только один щипаный и остался с гармоней своей. Остальные уж на том свете все.
— А петушились, чтобы бабами не стать, дура ты! — воскликнул обиженный за петухов дед, — А остался я один из всех с тобой мучиться, потому что Господь спас в войну, пуля не брала меня. Гармонь била насквозь, на убой, а меня — нет!
— Войну выиграли, страну спасли. Может, потому и спасли, что готовили мужики себя каждый год на кулачных боях. Мужская сила — это мужская гордость, наша защита и опора, — сказала Катя.
— Вот именно… А она…
— Сильно ты нежный, слова не скажи…- обиделась бабка. --- Сыграй нам скобаря этого. А ну!
Дед, не дожидаясь конца фразы, растянул меха, и тревожые, дрожащие, низкие звуки, не спеша чередуясь, перемешивались с дребезжащими высокими. Они словно нервно подталкивали друг друга: низкие — сильные, простоватые и откровенные, но очень уверенные в своей силе, устойчивые и незыблемые, засевшие крепко где-то в самом верху правой планки гармони, они были похожи на гудки пароходов, поездов, на звуки моторов самолетов, на лязг гусениц танка… Они монотонно возвещали о непобедимой своей мощи, и левая рука поддакивала, поддерживала их низкими мажорными аккордами. Мол, это так, это есть, совершенно верно, спору нет! Но в торжество низких нот вплетались переливы, всхлипы и взвизги высоких, хитроватых, переменчивых, тех, что прятались внизу правой планки под рукой гармониста и изредка, пока дремали верхние, делали робкие, несмелые вылазки, раздражая и дразня слух. Их хотелось придавить, заглушить, прихлопнуть мягкой, беззлобной ладошкой, приглушить этот тощий коварный писк, которому не отзывалась никак мажорная, жизнеутверждающая левая планка.
А низкие пели и торжествовали, шли вперед и набирали силу, как огромный поезд, не замечающий писклявых, мелких собачонок. Но высокие собачонки, лающие неугомонно и глупо, нервировали, а движение низких звуков набирало силу, наполнялось беспрекословной властью. Кулаки начинали сжиматься до хруста, а душа раскалялась докрасна и желала одного — выплеснуться из тела.
Катерина стала растирать в волнении грудь. Ольга вскочила со стула, стала судорожно сжимать спинку побелевшими пальцами. Бабка Липа, глубоко дыша, прищурив голубые глаза, смотрела куда-то далеко сквозь стену, в дальнюю глубь времен, будто за стеной, прямо у дома, на улице, услышав мистическую музыку, уже собралась вся довоенная молодежь. И братья ее тоже, и батька, который издалека всегда сопровождал их для контроля, а сам в боях не участвовал, так как имел только одну руку. И вот они уже хорохорятся один перед одним, крупные, плечистые, мордастые, с круглыми, светлыми головами. Лица их становятся бордовыми, глаза горячими, тела насыщаются звуками, как соком жизни, и земной кровью, и небесной солью. А напротив этой стенки стоит другая стенка из соседней деревни. Точно такая же мордастая, плечистая. И не ясно, что им делить, и делить им нечего, потому что завтра же будут без обид здороваться, а на обиженных воду возить. И здороваться будут крепким, мужским рукопожатием, если, конечно, ты в бою доказал, что — мужик...
Еще миг, еще несколько дрожащих, писклявых переливов и взвизгов гармошки, и вся мощь простого, низкого, земного, подземного, темного нутра рванется, как кромешная масса льдин, прорвавшая мощную плотину терпения.
— Стой! — воскликнула Катерина, — Стой, а то я всю посуду перебью!
Она внезапно прижала ладони к глазам и напряженно заплакала.
Бабка Липа, тоже видавшая кулачные бои издалека, принялась утирать кончиком платка мелкие, тусклые бисеринки слез. Ольга с пересохшими губами, воспаленными до бешеного блеска глазами, мяла сильными, покрасневшими пальцами спинку стула и буравила взглядом дедову гармонь.
— Ну что? Как я вас? — язвительно спросил дед. — Пронял? Довел? Наливай, Липа, супруга дорогая! Полную! Пронял я вас!
Бабка послушно налила ему вина, и он быстро осушил стопку, пока она не очнулась от магнетического музыкального воздействия.
— А теперь — частушки! — провозгласил он.
— Нет, не надо, — всхлипнула Катерина, — Теперь не надо.
— Ну, какой ты артист? . Довел нас, а теперь частушки не играй, — обиженно сказала бабка Липа, — Теперь играй «Скобаря Новоржевского», тот повеселей будет.
— Разудалый, ага. Счас я вам настроение устаканю. А то вы в бой собрались, а вам нельзя, потому что вы бабы, слезы льете, а драться не можете, одно только все портите. Хорош реветь. Катерина, слушай другого «Скобаря». Скобари разные бывают: один до слез доведет, другой — до радости. Как мужик. Бывает, какой — с пониманием, а который и… как гаркнет, как топнет ногой! Да, Лип?
Не дожидаясь ответа, дед лихо развернул меха:
— И-и-эх! — подкинул он сам себя на стуле воинственным кличем, и уверенные, торжествующие, низкие звуки, словно издалека, окружая со всех сторон, то приближались, то отдалялись, настораживая и пробуждая. Тут же к низким нотам стали напрашиваться в сопровождающие высокие, тонкие всхлипы и залихватские переборчики, нелогичные по звучанию, робкие и кроткие, хоть и с потаенной, сдержанной удалью. Низкие не протестовали, не отталкивали, а наоборот, дружественно притягивали эти странные, непонятные трели. Мажорные, торжественные аккорды левой руки утверждали необходимость воссоединения, и вот уже высокие трели стали увереннее, открытее, веселей. Они все чаще и чаще вплетались в гулкие гудки басов, пока те смиренно не отступили, выставив их в передовые плясовые ряды, как уступает пара мужиков-плясунов сцену бабам-частушечницам, сменив свою грубоватую, мощную медвежью присядку и разудалое самобичевание по плечам, груди, коленкам, пяткам — их мелкой летящей дробью тонких, гулких каблучков.
— И-и-эх! — подкинул себя дед на стуле, и Катерина, схватившись за ворот кофточки, стала медленно топтаться, а бабка Липа замотала отчаянно головой, крепко зажмурив глаза и морщась, будто глотнула кислющего питья.
Объендинившись в единую, бурную волну, играющую с огромными скалами тишины звуки, то отдалялись, но надвигались мощной, готовой обрущиться и все поглотить волной. Они требовали ответа. Раскачав волною память, в которой, как на гладком дне океана, все таилось мирно до поры до времени, звуки смеялись и радовались этому своему дару. Где-то в самой глубине забуянившей крови зрел ответ, который должен был прозвучать, и музыка ждала его, сначала ждала, а потом требовала, и чем сильнее накатывала волна, тем воинственней, напористей требовала музыка счастливого блеска в глазах человека.
Бабка Липка вскочила со стула, раскинула широко руки, до того напряженно теребившие друг друга, подпрыгнула на месте, как коза, и выплыла на носочках на середину кухни. Вдохнув полной грудью и счастливо засияв, она зажмурила крепко глаза и отчаянно замотала головой, словно говоря: ой, да не хотела я, не хотела я, да вы меня заставили. Она вдруг заголосила тонким надрывным голоском на одной плывущей, качающейся на волнах ноте:
Ох, лихо-тошно того жаль, кого в охапочке держал!
Дед, приглушив гармонь, дал ей выкричаться в долгой, зыбкой, как колыбель строке, и когда бабка, переводя дух, открыла отсутствующие глаза, он грохнул во всю мощь радостный, подтверждающий ее слова, проигрыш. Бабка хватанула пересохшим ртом воздух и, крепко прижав руки к груди, снова зажмурила глаза и замотала головой в такт каждому слогу следующей строки, опуская голову все ниже и ниже, словно помогая песне вырваться, выдохнуться из тела, родиться до конца:
А дорогой мой дорожиночка, скорее приезжай!
Дед, дрыгнув ногой, стукнул каблуком и закачался вместе с гармонью, с напряженнным, серьезным лицом, рванул меха, словно это дело было сейчас самым важным в жизни, и музыка поглотила, растворила в себе все бабкино горе и радость, объявленную только что протяжым ликующим плачем.
— О-о-ох! — взмахнула бабка руками, будто это были тяжелые большие крылья и обессиленно, низко поклонилась.
— Ох, тошно мое лихо!
Дед поняв, что бабка просит перерыва, заиграл тихо, почти неслышно.
— Ой, душегуб, всю силушку вытряхнул! Погоди хотя, дай передохнуть!
Дед, прищурив умные глаза, пристально выжидающе глядел на жену и неумолимо продолжал подыгрывать.
Бабка виновато усмехнувшись, послушно раскинула руки и плавно, уже без прежнего отчаяния и удали, замотав головой, пропела:
А я надену бело платье новоржевское шитье-е-е-е
Дед одобрительно кивнув, сосредоточился над гармонью и усилил проигрыш. Катерина села на диван, почувствовав, что ноги ее совершенно не держат. Она смотрела то на деда, то на бабку, то на свою невестку. Смотрела и понимала, что после этого концерта разговора с Ольгой не будет. Незачем разговаривать напрасно. Ей и так все понятно. Ей сказано сегодня все, что следует знать.
Глава 21
Он сидел и молча смотрел в документы. Ей казалось, что он их не читает, а просто разглядывает буквы, изучает длину и ширину строки, заковыристость знаков, жирость шрифта, считает точки или запятые. Сейчас вот поднимет голову и возвестит: триста семнадцать. И она поймет, что точек слишком много, и почувствует себя виноватой. Зачем столько точек в одном документе? Прямо не документ, а рассадник многоточий, многообещающих, недосказанностей и недомолвок. Или он сделает замечание насчет ошибок, не грамматических, а арифметических. Цифр было слишком много, и его компьютерная неподвижность предвещала более точный расчет. Когда кто-то невидимый щелкнет мышкой, он скажет: «О кей!»— и подведет итог: семнадцать миллионов. Ошибка при расчете.
— Ну что? — не выдержала Лида.
Он скривил насмешливый рот, глянул на нее исподлобья и снова уткнулся в бумаги.
— Мы еще долго будем так сидеть? — занервничала Лида. — Ты уже час молчишь.
Он усмехнулся, не поднимая глаз.
— Я, конечно, могла тебе это не показывать, — сказала Лида, нервно щелкая авторучкой. — Ты даже можешь это не смотреть…
Он снова промолчал, уставившись в одну из точек на бумаге.
— Впрочем, отдай! — скомандовала Лида и протянула руку за документами.
Рука дрожала, и документы послушно пододвинулись к ней. Пальцы ухватили часть листов, выдернули их из стопки, остальные веером разлетелись над столом и зашелестели, приземляясь в разных сторонах кабинки. Он молча нагнулся и стал собирать листы.
— Ты так и будешь молчать? — возмутилась Лида, с удивлением разглядывая то неполную пачку, то его спину.
— Угу, — буркнул он из-под стола.
Он собрал все листы, выпрямился, сел поудобнее на стуле и принялся сосредоточенно раскладывать листы по номерам. Делать ему это было, видно, очень приятно, потому что лицо его сияло потаенной улыбкой, а неловкие руки тщательно, неторопливо укладывали листок за листком в неровную пачку.
«Танк!»— зло подумала Лида. Вадим, словно услышав это слово, мельком взглянул на нее, как на противника.
«Ишь ты!»— возмутилась Лида, подбирая еще какое-нибудь слово, но он быстро отреагировал на мысль и посмотрел на нее прямо и опасно, как дуло пулемета.
Бумага шелестела в тишине, как падающие деревья на лесоповале, и этому, казалось, не будет конца, потому что лес простирался на половину земли.
— Судье сколько платить? — спросил он сухо.
Лида вздрогнула и вытаращила глаза, будто раньше он сроду был немым.
— Что?
— Какой процент? — уточнил Вадим.
— Кому?
Вадим недовольно промолчал.
Лида высокомерно улыбнулась, поправила прическу и насмешливо посмотрела на него.
— Молодой человек! Вы что-то спутали. У нас судей оплачивает государство, а не стороны по иску.
— Угу, — согласно кивнул Вадим. — Процентов пять? Или десять?
— Судьи зарплату получают, я не говорила вам это на лекции?
— Вы не говорили, что они живут на зарплату.
— Да, они живут на зарплату, — убедительно сказала Лида.
— Да что вы? — искренне удивился Вадим.
— Да!
— И с какого же острова вы к нам сюда заплыли, Лидия Павловна? — спросил Вадим. — Или я сам не отсюда, сам не местный? Или я что-то путаю?
— Вы путаете что-то. И сами не местный…
— А вы хотите сказать, что никогда взяток судьям не давали? Или так искусно делаете вид, что не давали?
— Не давала, — честно призналась Лида. — И не дам.
— И все дела выигрываете?
Голос Вадима стал строгим, он серьезно посмотрел на нее.
— Не все, — замялась Лида. — Редко, очень редко, но бывало… Поначалу… Но я не беру проигрышные дела!.
— Сколько вы работаете адвокатом?
— Десять лет.
— И взяток не давали…
— Нет, даже не знаю, как это делается.
— И даже не знаете, что судьи берут?
— Знаю. Но знать не хочу.
— И не предлагали никому?
— Что ты мне допрос устроил? Как я могу предложить?! Он, судья, и так по острию ножа ходит. Шаг в сторону — расстрел. Причем не ему, а его близким! Нет, не предлагала.
— А придется.
— Нет.
— Придется.
Лида задумчиво разглядывала свои руки. Руки опять дрожали, и она смотрела на них зло, как на предателей, которым сегодня же вечером отомстит — возьмет и подстрижет все ногти под самый корень, чтобы неповадно было…
— Я не буду давать взятку. Сами давайте, — буркнула она грубо, по-детски.
— Нет, это уже ваши проблемы. Раз вы предлагаете решать вопрос через суд, то у нас должны быть гарантии. Причем стопроцентные. Поэтому мы должны знать, какие суммы будут затрачены.
— Ни один уважающий себя адвокат не даст клиенту никаких гарантий. Гарантия для вас уже в том, что я взялась за это гнилое дело.
— Дело нехорошее, — согласился Вадим. — Поэтому и не надо через суд.
Лида снова внимательно рассмотрела свои обреченные на обрезание ногти и, резко подняв голову, серьезно сказала:
— Вадим, есть только два пути решения возникающих в процессе эволюции нашего государства проблем. Один — законный, другой — по понятиям. По понятиям не прошло. Так? Не прошло. Мозги и нервы слабоваты, не справились. Осталось второе — в соответствии с законом, по судебному решению. Так? Так. Если мы начинаем по понятиям, то продолжать в законном порядке нельзя. Если мы начинаем по закону, то по понятиям потом — невозможно. Закон и понятия — это две параллельные прямые, которые никогда не пересекутся. Если они пересекутся, то это — взрыв, искаженное пространство. Выбирайте. Я иду с вами только через суд. Если нет — до свидания.
Вадим вежливо кивнул, медленно поднялся из-за стола, протянул ей пачку бумаг и долгим, изучающим взглядом окинул ее. Лида поежилась.
— До свидания, — сухо сказал он и быстро вышел из кабинки.
Лида оторопело смотрела ему вслед, но, кроме пустого проема двери, ничего не видела. Шагов его не было слышно. Он словно растаял в воздухе или притаился за стенкой, в другой кабинке. В глубине консультации были слышны приглушенные разговоры, звонили телефоны, и сотовые и городские, и было странно, как же до этого момента она не слышала никаких звуков кроме его дыхания и шелеста бумаг?
— Привет! Лидок! Мечтаешь?
В кабинку заглянул радостно улыбающийся Миша. Он с ходу расстегнул портфель и стал выкладывать на стол пачки документов.
— Это клиент был? Парнишка этот недовольный?
— Парнишка? — растерянно переспросила Лида. — Клиент?
— Ну да. Высокий парнишка молоденький сейчас вышел. Ты его расстроила сильно. Зачем?
— Молоденький? — изумилась Лида.
— Да что с тобой? — недовольно спросил Миша. — Ты какая-то… глупая.
— Все привыкли, что я умная, — сказала тихо Лида. — А ведь я глупая, Миш…
— Ну тогда давай обсудим пару дел, — обрадовался Миша. — Предлагаю работать вместе.
— Ладно, — согласилась Лида, неотрывно глядя в одну точку.
— Эй! — Миша легонько толкнул ее в плечо. — Э-ей! Ал-ле!
— Я устала, — прошептала Лида, — Я пойду домой.
— У тебя что-то явно не клеится, — зщадумчиво сказал Миша. — Колись, что ты натворила?
— Еще пока ничего не натворила, но скоро натворю…
— Осторожнее. Может, в театр сходим? Поговорим? Или на выставку? В Манеже православная выставка. Купим тебе уральский самоцвет. Ты же любишь камни…
— Может, в театр…
— Ты не влюбилась, Лид? — осторожно спросил Миша.
— Влюбилась, — честно кивнула Лида.
— В очередной раз… Не шутишь?
— Какие тут шутки… В очередной…
— Ну, тогда это надо отметить! Я предлагаю пойти в кафе. Пережил уже три твои влюбленности, переживу и четвертую. Скажи, кто он? Клиент?
— Клиент…
— Это нехорошо, Лидия, это непрофессионально! А если я начну влюбляться в своих клиенток? Знаешь, какие у меня клиентки? Как на подбор!
— Давай. Влюбись, — кивнула Лида равнодушно.
— Вот и влюблюсь, — обиделся Миша. — Ну ты бы хоть соврала! Что за человек такой? Я удивляюсь! Испортит настроение и пойдет довольная.
— Такой вот человек, — вздохнула Лида.
— Как робот сидит, повторяет за мной слова. Спишь, что ли?
— Сплю.
Миша сердито открыл портфель и стал скидывать документы назад. Лида молча наблюдала за движениями его рук, удивляясь как-то, что эти чужие, напряженные, нервные руки когда-то нежно прикасались к ее плечам, лицу… Такие неродные, молчаливые, непонятные руки. Даже не молчаливые, а вовсе немые. Даже не немые, а иноязычные. И она не знает, никогда не знала их языка…
— С таким характером у тебя никогда не будет семьи, — отрезал Миша и вышел из кабинки.
— Ну и что… — прошептала Лида сама себе и, сжав в кулак всю свою волю, не заплакала.
Она громко, старательно дышала, борясь с подступающими слезами, и читала, читала, читала заголовок верхнего листа, пока до нее не дошло, что буквы вовсе не иностранные, а просто висят на белом пространстве вверх ногами. И не падают, а только раскачиваются в туманном, влажном преддверии слез, как черные листья на невидимых ветках.
* * *
— Ты зря это, — со знанием дела подвела итог Маринка. — Он мужик дельный и вам давно пора жениться, в смысле, жить вместе.
— Терпеливый, — согласилась Лида. — А тут не вытерпел.
— Терпение и труд все перетрут, — сказала Маринка, поглаживая круглый, выпуклый животик. — Во-первых, ты его обидела, во-вторых, унизила, а в-третьих — оскорбила.
— Чем? — возмутилась Лида.
— Равнодушием. Ты разговаривала с ним, как со стенкой. Разве можно с мужчиной так говорить?
— Я всегда с ним так говорю… Спокойно… Не как со стенкой, а как сама с собой.
— Это равнодушие. Страшнее ничего не бывает. Всякое чувство, даже ненависть, злоба, ярость, — это борьба за любовь. А равнодушие — это отсутствие любви.
— Я с ним никогда не играю. Какая есть, такая есть.
— Просто он тебя любит и терпит это. Иногда нужно и поиграть. Или хотя бы промолчать. С мужчинами нельзя по-честному. Они ведь нас неправильно понимают. Они другие существа. У них свое понятие чести и честности, у нас — свое. А честь и честность — это, если по-женскому, — разные вещи. А если по-мужскому, то — одно и то же. От такой вот откровенной нашей честности страдает их честь. А они ее берегут пуще ока, имей в виду. И правильно делают, потому что, если бы не берегли, то это были бы не мужчины, а женщины. Причем, самые коварные. Осторожнее надо с ними, бережнее. А ты уже которую свою влюбленность ему на шею вешаешь…
— Он — друг.
— С друзьями не спят.
— Я не сплю.
— Да где уж тут заснешь, - ядовито поджала губы Маринка. - Тебе надо замуж за него. А то, как огород в засуху — дождик прошел, пыль прибил, листочки освежил. А ветер подул, и уже опять растения сохнут. Семейной жизнью, Лида, надо пропитаться насквозь, наполниться ею до краев, как губка влагой. Тогда и с мозгами все будет в порядке, и с настроением, и с памятью. Хочешь, я с ним поговорю?
— Не надо. Ему это не надо.
— Я сама знаю, что надо, что не надо, — не согласилась Маринка. — Он и сам мне не раз говорил. И Петечка говорил.
— Я знаю, что ему не надо, — настойчиво повторила Лида. — Пусть женится на свободной женщине. Зачем ему мой длинный хвост? Это называется: возьмите меня, цыганку, всех моих цыганят и еще соседских.
— А цыганята ему не помеха. Чем твои цыганята хуже других? Они еще даже и лучше. Выращены, выкормлены, воспитаны. Ангелы, а не дети! К тому же мужчина всегда ориентируется на женщину, а не на то, что у нее за спиной, и не на то, что у нее в перспективе. Они активно живут в «сегодня», а мы только пытаемся жить в «сегодня». Все равно половину жизни мы проводим в прошлом, половину — в будущем.
— Я не верю в это. Все люди одинаковы.
— Здрасьте! — возмутилась Маринка. — С кем ты споришь? Как небо и земля! Как волны и скалы! Как птицы и звери. Как…как… что еще?
— Вчера и завтра, — предлжила Лида.
Маринка сосредоточенно наморщила лобик и стала растирать живот.
— Ты расстроила меня, Лида. Не нервируй нас! Петрович недоволен твоими словами. Да, Петрович?
В ответ на вопрос круглый животик дрогнул и заходил ходуном.
— Во, видишь? — завороженно прошептала Маринка. — Петрович бушует. Разве девочка стала бы так брыкаться? Ой, нет. Вот они еще даже когда не родились, а уже командуют. Мужики, одним словом сказать…
— Как назовешь-то? — улыбнулась Лида.
— А тоже Петечкой. – махнула рукой Маринка. --- Пусть все Петечками у меня будут. Ты тему не переводи. Я еще не все насчет мужчин сказала.
— Ты сколько лет насчет говоришь и все не перескажешь.
— Вот и хорошо. Значит, есть над чем работать. А если женщина нужна, то нужно все, что с ней прямо или косвенно связано: и ее дети, и ее работа, и ее кофточки и платья, и березка, которую она любит обнимать, и розочка, которую она на окне растит. Для мужчины становится все это священным! И хоть сама по себе эта розочка им на фиг не нужна, они любую такую вот растопчут, не заметив, но только не ту, которую любит любимая. За эту дохленькую оконную розочку они войну объявят, сражаться будут до последнего и выиграют бой. Лишь бы она улыбнулась.
— Розочка?
— Да хоть даже и розочка. Им ведь мир нужен только потому, что его любит любимая женщина.
— А если она не любит?
— Это страшно. Это значит, ты попал в черную дыру. И ховайся в бульбу.
— А если любимой нет? Тогда и мир не нужен?
— Не нужен, — кивнула Маринка. — А зачем? Для чего? Телевизор смотреть, жрать и спать? Нет, ничего не нужно, если любимой нет.
— Как плохо-то им.
— Не переживай, не такие уж они дураки. Если любимой нет, они ее себе придумывают. Переспят с кем-то и считают потом ее своей Дульсинеей Тобольской — Тамбовской. Носятся с копьями, дерутся с ветряными мельницами из-за нее. А почему? Да потому, что без мира, который любит любимая женщина, они могут погибнуть. Засохнуть, завять!
— Бедные…
— Ага, жалей, — кивнула Маринка, поглаживая животик. — Ведь они не умеют видеть и чувствовать мир напрямую. Женщина — посредник. Мужчина любит через нее, через ее любовь и ее любовью. И горе тому мужику, чья женщина не умеет любить никого, кроме себя. Это как непроницаемый пласт, лист стали, или яма, или бездна. Она все проглотит, все схапает, переварит, сожрет, выплюнет и еще будет требовать, и еще, и еще. А он будет служить. И всего огромного, чудесного мира так и не увидит через нее, не услышит, не почувствует. Потому что ему не повезло. Увы, так бывает…
— Значит, не заработал…
— А может, да, не заслужил настоящую. Женщина должна быть прозрачной, звонкой, чистой, как хрусталь. Небольшие вкрапления, типа изюминок, допускаются…
— Понятно, — согласилась Лида.
— Да, без них неинтересно, даже глазу не за что зацепиться… И тогда мужчина смотрит сквозь любимую, как сквозь розовые, счастливые очки.
— Научи, как стать хрустальной?
— Ха! Можно подумать! — возмутилась Маринка, — Любовь — это дар, талант! Таланту не научишь. Вот каждому человеку дано всего поровну: и рук и ног, и голов, и пальцев. Ну, разве только которому в порядке исключения, как Ельцину, шесть. А ведь все люди, Лида, разные. И один этими ногами чемпионом мира стал, другой этими руками страну развалил, третий этой головой космический корабль изобрел. Почему? Да потому, что оболочка — это ничто. Дело — в душе. Которая — трудяга, которая — чернявка, которая — алмаз! А попробуй распознай поначалу! Как окна в огромном доме — то пластиковое, то старое, гнилое, то резное деревянное, то вовсе без стекол, после пожара. И что там, за этим пластиковым, внутри комнаты? Может, драки, ругань, разврат. А за простеньким — музыка играет, птичка-канарейка поет, ребеночек сладко спит, и во сне улыбается…
Мужикам дано чутье. Они это чувствуют! Вот все хотят иметь красивое, новое, современное, чтобы люди оценили, похвалили или позавидовали. Поставят себе такое окно, а по вечерам выглядывают из него и смотрят с тоской на то далекое, неприметное, деревянное, за которым ребеночек проснулся, с котенком играет, гулит, воркует, а на душе так тепло, так ласково, и так тоскливо, сам не знает, почему… Вот мука какая мужикам-то.
Маринка поежилась, глаза ее повлажнели. Она шмыгнула носом и замигала.
— Эко тебя, Маринк, понесло-то… — восхищенно прошептала Лида.
— Ага, — кивнула Маринка встревожено, — Чего это меня так повело?
— Прям хоть конспектируй…
— Сроду красноречием не страдала… И про мужиков слова доброго никогда не говорила. Не думала даже… Чего это?
— Может, из-за Петровича? — предположила Лида, кивнув на Маринкин живот.
— Думаешь, это он мне диктует?
— А кто ж его знает? Ему там делать нечего, расти себе, да философствуй.Папочке помогает.
— Бедный папочка! — прослезилась Маринка. — Сколько ж он от меня претерпел! Но ему со мной все-таки повезло.
— Ой, повезло! Ой, повезло! — закивала Лида.
— Да! Повезло! Потому что, какая бы я ни была плохая, но я умею любить. Я все люблю! Даже работать люблю! Даже всякие проблемы люблю! Даже бомжей люблю, потому что… Не знаю, почему. Я не умею ненавидеть, не видеть и отрицать. Значит, я хрустальная. А значит, Петечка сквозь меня слышит, чувствует и любит. И пусть спасибо скажет мне за это. Вот попалась бы какая-нибудь швабра с ногами до ушей и пахал бы он на эти ноги день и ночь, и спал бы у этих ног, как пес. А так живет, как барин, как сыр в масле плавится благодаря мне. Оборзел уже от этого блага.
— А тебе жалко?
— Да ну, не жалко. Это я так, в порядке регресса, на всякий случай…
— Пошел текст Маринки, а не Петровича, — констатировала Лида, — Петрович, видать, задремал.
— Ага, — блаженно улыбнулась Маринка, — приснул, не пихается… А мне не до сна. Всякую минуту в оба смотреть надо. И напоминать им! Напоминать, что — повезло, что могли бы слепыми котятами всю жизнь свою прожить и кроме животных инстинктов ничего не распознать. Вот Мишка тоже слепой был. Это сейчас он сквозь тебя такого насмотрелся, что и вовсе ослеп. Его теперь от тебя никакой силой не оторвешь. Кто видел свет, тот во тьме жить не захочет. Ты, конечно, женщина тоже хрустальная, как и я, но у тебя в хрусталь еще и золотые крупинки вплавлены, а сверху лампочка горит такая, что и обжечь может. Мишкины глазки слабоваты. Со временем они слезиться начнут, не получится у него увидеть все до конца. Да и не надобна ему эта глубина, хватит того, что есть, потому и не вместе вы. Ему хватает редких встреч, потому что ему тебя — много. Ему месяц каждую встречу переваривать надо, глазки успокаивать. А тебе его мало, потому и не стремишься. Любви нужны глазки подготовленные, посильнее нужно зрение. Котенок должен быть не слепым, а зрячим. Вот Васька — зрячим был. Он до сих пор тебя на расстоянии видит. А этот, Вадим, он зрячий?
— Не знаю… — поморщилась Лида. — Что тебе Вадим. Это — просто так. Вот Васька действительно был зрячим. Он не смотрел на мир через меня, он любовался им, восхищался и радовался. Всегда смеялся… Какой-то всегда был счастливый. Это правда, то, что ты сейчас сказала. Он видел мир через мою любовь. Ты ведь помнишь, какой он сдержанный, правильный, даже суровый. А со мной как ребенок был, наивный, смешной баловник… Я никогда не могла на него рассердиться.
— А было за что?
— Нет… не было…
— Васька — дело прошлое, он отец семейства, и ты правильно поступила, не забрав его у жены.
— Я обрекла его на тупое существование рядом с чужой женщиной. Обрекла на постоянные поиски другой.
--- И где их, этих дубовых покупательниц, выращивают для умных, талантливый мужиков?! В каком заповеднике, в каком рассаднике?! Накормит щами, пригреет ночью — и уже он всю жизнь ей обязан, и, что самое смешное, — исполняет обязанности! А что тупой объяснишь, зря язык только собьешь. Лучше сделать.
— Зато мы все без слов понимаем. Умницы, красавицы. Пора бы прочистить уже мозги глупым каким-нибудь поступком.
— Ох, ох, — застонала Маринка, схватившись за живот, — Петрович проснулся. Возмущен.
—Недоволен, — улыбнулась Лида.
— Чует, что про мужчин говорили. Прозевал, Петрович! Эй, меньше спать надо! — назидательно сказала Маринка своему животу.
* * *
— Я хочу к бабушке, — тихо прошептала Зоя. Она сказала это так, как иногда Лида отчаянно говорила самой себе «Я больше не могу».
— Давай позвоним ей, — предложила Лида, хотя ей хотелось сказать: «Я тоже».
— Что толку? — спросила Зоя и опустила голову. Она зажмурила глаза и замотала головой. — Я хочу в лес, хочу на пляж, хочу попеть с дедом Филей!
— Ты устала. Скоро каникулы. Поедем…
— Каникулы десять дней! Они уже скоро кончатся! — воскликнула Зоя.
— Они еще не начались, а ты уже охаешь! Надо всегда ждать начала, а не конца.
— Как только я приезжаю к бабушке и захожу в дом, бабушка уже потихоньку начинает собирать вещи, складывать рядом с сумкой все, что нужно будет взять назад. И я начинаю с первой минуты думать об отъезде.
Лида промолчала. Зойка была права. Их жизнь до сих пор отмерялась количеством поездок домой. Она шла крупными, медленными шагами, и каждый шаг давался с трудом. Когда ступня жизни зависала в мутном воздухе города, а потом медленно опускалась на родную землю, они оказывались на свободе, вспоминая с ужасом, что скоро снова придется возвращаться в душную каменную клетку. Когда ступня стояла на земле, жизнь казалась прочной, основательной, имеющей смысл. Даже невесомый размах полета над землей, который до этого был ненужным, напрасным — он тоже обретал весомость. Вот только предчувствие следующего отрыва от корней пугало с каждым разом все сильнее. Иногда Лиде казалось, что планета кружится, подставляя свой бочок для остановки на миг, только до определенной поры, и когда-то шаг зависнет в воздухе, ступить будет некуда, и тогда придется отрывать другую ногу и улетать в небо, чтобы не упасть, не рухнуть беспомощно, неловко, жутко.
Зима была невыносимо долгим шагом. Лида иногда ощущала себя неуверенно, как в детстве, на занятиях художественной гимнастики, перед выполнением «шпагата». Растяжки были мучительными — она могла просто не дотянуть до следующей поездки.
— Я хочу домой, — ныла Зойка.
— Я тоже хочу.
— Я хочу домой…
— А здесь у тебя не дом?
— Нет, это не дом. Я хочу домой…
— Что на тебя нашло? У тебя проблемы с учебой?
— Нет. Я хочу домой…
— На личном фронте? С Сережей поссорилась?
— Он не Сережа, он — Дима.
— Какая разница?
— Надоели все! Все.
— Например! — напряглась Лида. — Ванька? Дед? Дядя Тима?
— Папа Станислав, — бросила Зойка сердито.
— А что — папа? Его же нет здесь.
Зойкины глаза стали влажными, губы задрожали.
— Ты скучаешь по нему? Давай позвоним.
— Что толку? — сказала Зойка, — У каждого ребенка должна быть семья — папа и мама. И тогда все остальное — не помеха и никто не надоест.
— Я ничем не смогу тебе помочь, Зоя. Я не в силах что-либо изменить. Не все в этой жизни зависит от нас. Хотя надо стараться…
— Ты постарайся, — попросила Зойка.
— Что я должна сделать?
— Семью.
— Каким образом?
— Не знаю, каким. Выйди замуж.
Лида занервничала, затеребила волосы, заходила из угла в угол по комнате.
— Ты думаешь, если у меня будет муж, ну, к примеру, снова вернется твой отец, то у нас все наладится? Мы станем рады этой квартире, этому быту, будем веселиться, разбирая наши проблемы, не будем тосковать по деревне, по родным, не захотим в лес, на речку? Разве вопрос — в этом человеке? Нет, вопрос — в нас самих! В тебе, во мне, в Ваньке. А особенно в дяде Тиме. Ты его сегодня не видела? Он трезвый, интересно?
— Я не пастух, мама. Ты готовишь из меня либо пастуха чужих овец, либо старую деву-жертвенницу. Вопрос не во мне. Вопрос в том, что ты никого не любишь. Ты и себя не любишь, что уж про нас говорить…
— Я люблю вас. Я все ради вас делаю. Я живу ради вас!
— Вот это и плохо. И поэтому тебя тоже никто не любит. Ты — работающая женщина. Ты еле терпишь жизнь. Терпишь и обороняешься от всех, в первую очередь — от нас. Ты не знаешь, куда тебе деться от самой себя, потому и пашешь без остановки.
— Не знаю… — испугалась Лида.
— А если бы тебя любили, если бы ты любила, то ты все бы знала. Вот бабушка мне говорит: беда матери — несчастливые дети. А ты знаешь, что беда детей — это несчастливые родители?
— Не знаю…
— Так вот знай. И постарайся быть счастливой. Или хотя бы сделай такой вид…
— А я счастливая! Счастливая! — сказала уверенно Лида.
— В чем твое счастье? Тебе нечего будет вспомнить, кроме уголовных дел, судов и бесконечной трепотни по телефону с разными неудачниками.
— Хватит меня воспитывать! — хлопнула Лида ладонью по коленке. — Зачем мне что-то вспоминать? Она в деревню захотела, а я виновата!
--- Да, захотела. Песни с дедом Филей попеть, пока жив…
— Песни попеть! Дед Филя всю зиму на печке спит, как медведь в берлоге! Если хочешь, давай попоем.
Лида набрала полную грудь воздуха и собралась запеть, но задумалась, подыскивая подходящую строчку. Как на грех, ни одной не нашлось. Они растаяли все, как лед весной или замерзли, как зимой вода. Лида выдохнула тяжело, со стоном, и Зойка не выдержала этой игры. Она подскочила с дивана и выбежала из комнаты, бросив безжалостно:
Козлоногую куклу-актерку
Не узнает веселый скобарь.
— Откуда это? — крикнула ей вдогонку Лида бодрым голосом на срыве.
Зойка не ответила.
— Ахматова. Анна Андреевна, — кивнула Лида благодарно. — Поэма без героя. А где герой? Исполняет! Народная артистка! Кукла-актерка!
Она подошла к зеркалу и с ненавистью глянула в свое отражение. Глаза были колючими, сухими, неживыми, словно нарисованными на безразличном серебре.
— Пусть так. Только бы не хуже, — проговорила Лида. — Козлоногая еще к тому же… — добавила она и внимательно осмотрела свои ноги. Подняла голову и снова глянула в свое отражение. Оно почему-то было веселым, мол, ноги твои совсем не как у козла, а Зойка твоя — дельный человечек. Тонкий, хрустальный, прозрачный такой человечек. Сквозь нее так хорошо будет виден любимый мир! Любимый и любящий.
— Господи! Ну какая я несчастная, — улыбнулась Лида зеркалу, и оно рассмеялось ей в ответ печальным, глухим смехом.
* * *
«Все будет хорошо, — убеждала себя она, подходя к станции метро. — Сейчас я попрошу его привезти документы, он съездит, а через неделю выйдем на суд. Там посмотрим. Там мы и расстанемся.
Возле церкви толпился народ. Батюшка освящал две новые машины. Дверцы машин были распахнуты, и батюшка брызгал внутрь салона святой водой. Рядом стоял робкий, проникновенно настроенный Анатолий. Он держал руку на капоте своего автомобиля, как отец на макушке сына, рассказывающего стишок на детском утреннике. Или как мама.
«Опаньки! — восхитилась Лида и поспешила пройти мимо. — Людские законы их не устраивают. Только Божьи».
С Мишей они договорились встретиться на Черной речке. Он занял очередь на подачу документов в суд, а она опаздывала.
«Как хотите», — сказал Вадим вчера по телефону. Он не верил в судебную систему, но ему хотелось проверить. Или надоело спорить. Толик тоже не верил, но Толику проверять не хотелось. Ему нужен был результат с большим количеством нулей, прицепившимися к паровозу хвостатых, наглых цифр. Вадим был любопытный, а Толик уже все знал. Вадим верил, а Толик нет. Но Толик дал добро на суд. Она это услышала в паузах и прочитала в его мыслях. Что ж, пусть будет так. Ей и самой любопытно узнать, насколько далеко отошла жизнь от закона, закон — от жизни, человек — от человеческого. Одно она знала точно: если чутье подсказывает, что все идет правильно, значит, надо так и продолжать. Если идти не хочешь, а ноги ведут, значит, путь верен. Если знаешь, что делать нужно, а руки не слушаются, значит, делать не надо.
По этому делу все у нее складывалось быстро и весело. Документы написались сами по себе, напечатались скоренько, значит, она поступает правильно. Совета никто дать не мог, внутренний голос молчал, только изредка издавал одобряющие вздохи. Кроме еле уловимых легких кивков самой себе в этом вопросе у Лиды поддержки не было.
Как-то бабка Липа учила ее:
— Болит то, что грешит. Вот, к примеру, слушаешь ты то, что не надобно слушать — ушко заболит, а то и вся голова. Смотришь на греховное — глазки заболят, а то и вся голова. Ходишь по греху — ножки захворают.
Лида стала замечать, как после изворотливых, хитрых разговоров у нее вдруг за одну ночь воспалялось горло, после ненужного праздника обязательно болел живот. А как-то она сломала большой палец на ноге. Знает теперь, почему сломала, всему научила ее бабка Липа. А в прошлом году она отшлепала Зойку со зла, и заболела рука.
— Загадочная вы женщина, — сказал врач-невропатолог. — А у загадочных женщин загадочные болезни загадочно лечатся. Что я вам могу посоветовать? Подвяжите красную шерстяную нитку. Именно красную. Само пройдет.
Так она и сделала. Подвязала нитку и, проходя мимо, поглаживала Зойкину печально склоненную над книжками головку.
— Коллега! — окликнул ее Миша. Он теперь звал ее исключительно коллегой на время прохождения объявленной влюбленности.
Лида приветливо помахала ему рукой.
— Коллега! Не хотите ли испить кофейку? — спросил он, целуя ее в щеку.
— Хотите, — сказала Лида, — Извольте.
— Изволяю. Вот в этом кафе.
Миша взмахнул рукой в сторону бистро и широкими шагами направился туда.
— Бить будете? — спросила Лида, усаживаясь за столик и приметив напряженность в его лице.
— Если вынудите. А вы любого вынудите, коллега.
— За что?
— Ты листочки обронила в кабинке. Такие вещи не разбрасывают, раззява. Поаккуратнее надо быть, коллега.
Миша протянул ей листки.
Лида побледнела и быстро глянула на него.
— Это Вадик уронил. Это не я. Это не мое.
— Это твои документы, — сухо сказал Миша. — Земля слухом полнится. Я чуть-чуть в курсе.
— Ты мне хочешь прочитать лекцию по технике безопасности.
— Нет.
— Вот и все, — отмахнулась Лида и закурила сигарету.
— Снова куришь?
— Опять.
Миша принял от официантки поднос и стал осторожно расставлять тарелки.
— Я есть не хочу, — сказала Лида.
— Поздно. Будешь.
— Не хочу.
— Будешь, — повторил Миша и яростно оторвал зубами большой кусок от ломтя хлеба.
— О! Мне это нравится, коллега! — восхитилась Лида. — Вы в атаке! Как это у вас?..
Она быстро потушила сигарету, взяла кусок хлеба, ухватила зубами как можно больше и рванула его, дернув головой, как варан, врывающий кусок мяса из своей добычи.
— Дура, — безнадежно вздохнул Миша.
— Что-что, коллега? — спросила она с набитым ртом.
— Отлично, — похвалил Миша и принялся напряженно и сосредоточенно жевать.
— Как раз это я и хотела от тебя услышать. — Значит, одобряешь?
— Одобряю, — тяжело кивнул Миша.
— И я поступаю правильно?
— Правильно. Но зачем ты туда полезла?
— Тогда сейчас сдам документы судье и на два дня уеду в командировку.
— С ним? — резко спросил Миша и посмотрел в ее тарелку ледяными, неподвижными глазами.
Она поймала его взгляд, поворошила вилкой салат, выбрала из него круглую горошину и уверенно проткнула горошину вилкой.
— Метко, — похвалил он.
— Такое бывает очень редко.
— Главное — не количество, а качество.
— Главное — переход от количества к качеству. Вот этот переход… Он сложный…
— Соблюдай правила движения, чтобы тебя не сбили на переходе.
— А я — не пешеход. Я за рулем.
— Тогда сама никого не сбей, водила.
— А не лезьте под гусеницы движущихся танков…
Миша сжал зубы, желваки заходили на его скулах. Он несколько минут тяжело молчал, глядя, как она жует эту горошину. Лицо его было непроницаемо темным.
— Ты не видишь сквозь меня? — спросила Лида — Ты так смотришь, будто меня нет.
— А ты думаешь, ты есть?
— Думаю…
— Зря. Боюсь, что ничем не смогу тебе помочь.
Он с размаху швырнул в свою тарелку вилку, потом нож, отчего все посетители кафе два раза вздрогнули, взял свой портфель и, не прощаясь, вышел. Его высокая фигура в сером пальто мелькнула в дверях, и двери оглушительно хлопнули.
Лида вздрогнула, испугалась, что стекло дверей не выдержит и разобьется. Но дверь осталась целой. За ней были видны движущиеся по тротуару люди, крыши машин, стволы лип и кусочек заснеженного газона. Неба не было видно.
— А мир без неба — это не мир. Как его можно любить? Без неба… — прошептала Лида и поторопилась к выходу.
Он ушел еще недалеко. Сидит где-то в машине, зная, что она через две минуты плюхнется на соседнее сиденье и спросит:
— А потом куда? Не по пути?
Его машина тронулась с места, как только она к ней подошла.
— Вот как? — удивилась Лида вслед машине. — Это мы такие нервные стали?
Она вытащила из сумочки губную помаду, накрасила губы, покрепче ухватила тяжелый, набитый бумагами портфель, загремела сердито каблуками по асфальту в сторону здания суда, приговаривая обиженно в такт своим шагам:
— Ничего, ничего. Все теперь нервные. Ничего-ничего.
Глава 22
— Да, тут есть, над чем подумать, — сказал редактор Борис Ильич, — Вы, Тимофей, шагнули вперед неплохо. Очень неплохо.
Он еще раз перелистал подборку стихов и поправил круглые очки.
— Я отметил кое-что. Все мы, конечно, не возьмем. Сами понимаете, такой журнал один на весь город, а поэтов тысячи.
— Хорошо, что не миллионы, — согласился Тимоха.
— Может хорошо, может, не хорошо. Но хорошо чем? Если бы были миллионы, то я бы до пенсии не дожил. Хорошие стихи, Тимоша. Хорошие. Редко кому говорю такое.
— Я знаю, — кивнул Тимоха.
— За это меня ваш брат и не любит. Каждый ведь думает, что он — гений, а я — могильщик гениев. Нет, Тимоша. Через мои руки столько стихов прошло, что я настоящее чую, когда автор еще за дверью стоит. Возможность, данность написать настоящие стихи — она в глазах у человека, в облаке вокруг него. Вот тут на днях девушка зашла. Робкая, простенькая, очки поправила, не знает, что сказать. А я сразу понял — родничок. Давайте, говорю, сюда ваши стихи долгожданные. И как ты думаешь? В следующем номере подборка пойдет. Не потому, что я хотел ей руку под слабое крылышко подставить, поддержать, а потому что — настоящее. Где еще нашему журналу такие стихи взять? Таких авторов — единицы. Это как воздух для литературы. И я не имею права перекрыть кислород. Она и так в реанимации.
— Девушка? — ужаснулся Тимоха.
— Тима, чем ты слушаешь? Ушами? Я говорю — литература в реанимации. А я — доктор, врач я, можно сказать. И меня все вот эти политические подоплеки, писательские разборки, тусовки ни грамма не привлекают и не останавливают. Это мне — не помеха. Я свое дело делаю. Графоманов развелось, как тли на больном цветке. Уже, Тимоша, сожрано все, но корень жив. Корень — это классика. И ветки живы, Тимоша. Ветки — это настоящие поэты. Погоди, придет мороз, и вымерзнет вся эта гадость. Холод уничтожит все лишнее. Все мудро в этом мире. Как в природе, так и в обществе, как на огороде, так и в литературе. А ты держись, милый, держись.
— Держусь, — усмехнулся Тимоха.
— Чем лучше стихи, тем тяжелее судьба. Или наоборот. Третий глаз и третье ухо появляются, когда человек балансирует на грани, когда его держит уже не его собственное равновесие, а некое нечто. Иногда сам мир подстраивается к тебе так, чтобы ты не упал, правильно? Бывает такое. Вот, думается, ничего больше делать не буду, пойду в магазин, куплю хлеба, наемся на последние и спрыгну с крыши. Это мне один парнишечка рассказал. Неплохие стихи у него, неплохие, но… агрессивные. Перемелет в себе зло, сможет одолеть черные очки, — будет мудрым. А искра Божья у него есть. Представляешь, что такое энергетически насыщенная мудрость? Это как раз о том, что «слово может убить, слово может спасти, слово может полки за собой повести». Не ура-патриоты, кричащие в рифму анафему власти и славу своим слезам по Руси, не оголтелые плакальщики по умершему строю и погибающей стране, а — созидатели, так сказать, возмутители, будильнички цивилизации… Я о чем говорю-то?
— С крыши спрыгнуть…
— Ага, да, парнишка толковый. Он кошелек нашел. А в кошельке полторы тысячи долларов. Хлеба купил, а с крыши прыгать не стал. Книгу выпустил, оделся, обулся, прописку временную приобрел за триста долларов. Слушай, триста долларов — прописка! Ну куда это гоже? Да неважно, зато он на работу устроился. Вот тебе и вывод: суждено повеситься, с крыши не спрыгнешь, пока не напишешь все, что должен написать. Что на роду написано, то надо выполнять беспрекословно. Даже если не хочешь, то — через силу. Когда сила кончится — поддержат. Увидишь. На моем веку столько судеб пережито, будто сам жил…
Вот и девочка эта, Катя, мученица беспрекословная. День хирургом работает, кромсает-полосует, лечит тела, а ночью — стихи пишет — души лечит. Когда ей и отдыхать-то? Разве человеку это под силу? Нет. Так вот, Тимоша, поэт — это не человек. Знай это. Слава тебе, Господи, что сам я стихов не пишу. Это такое горе, такая беда… Редактор замотал седой, круглой головой.
— Борис Ильич, я ведь тоже из бессилия вернулся. Знаю, что надо работать, а не работал. Пил…
— Ну, а это и не страшно, — невозмутимо сказал редактор, — Это дело наживное. Сейчас пил, сейчас бросил. Алкоголиком не станешь. Нет, не станешь. Это я тебе, как доктор говорю.
— Нарколог?
— Ага, психиатр. Я ж вас насквозь знаю. Знаю откуда, что берется, для чего и зачем. А как же? Не зная броду — не суйся в воду. Знаю…
— Вот пил… — покаялся Тимоха снова.
— Да и ладно! — весело махнул рукой редактор. — Жалеешь, что время упустил? Это плохо, потому, как пьяный поэт — это просто человек.
— Чтобы стать человеком, надо пить, да?
— Для чего тебе — человеком? — насторожился Борис Ильич. — Людей много. Нет уж, милок, идти надо только вверх, а не вниз. Обратной дороги у тебя кроме как в яму — нет. Ты пьяный можешь стихи писать?
— Бывает… А протрезвею потом, вижу, что галиматья несусветная.
— Вот в чем дело. Галиматья. Борис Ильич вышел из-за стола и стал прохаживаться по кабинету. Маленькая, ладная фигурка, подвижная, как шарик ртути, легко скользила по заставленной мебелью комнате, не натыкаясь на кипы бумаг и стулья.
— Настоящие стихи — они потому так и называются, что стоящие - много стоят. Крови, пота, счастья, разных благ, жизни, любви в конце концов. Но все проходит, а они остаются. Почему? Потому что не даром дались, заплачено за них жизнью. Это — след на земле. А если хочешь, то и в небе. Пил, говоришь?
— Пил.
— Ну, больше не пей. Я напечатаю твою подборку, чтобы больше не пил. В следующем номере. Но знай — это авансом. А если авансы дают, то их надо отрабатывать. Через месяц принеси новые. Я посмотрю, пил ты или не пил.
— По запаху распознаете? — улыбнулся Тимоха.
— Ага, по запаху. И по вкусу, и по цвету. Хорошие стихи, как хорошая музыка, сразу запоминаются. Вот, бывает, прочитаю что-нибудь ладное, но прохладное, а потом не могу ни строчки вспомнить. Ничего не зацепило. Ни одной Божьей искорки. А вот если уж искрит, то искрит… Как там у тебя…
Что свыше послано, то надобно беречь,
Дар речи поменяв на дар молчания.
— Так?
— Так.
— Ну вот и иди. Иди, касатик. А про пьянство не сомневайся. Не твое это. Пьянство — это удел серых. Большие поэты не пьют. Пьют графоманы. Но дурят! Дуришь пьяный?
— Дурю.
— Это можно. Кураж — дело приходящее. Он созреть должен. Кто как созревает, вымучивается перед родами.
— А Есенин? Рубцов?
— Ну… — недовольно поморщился Борис Ильич, — Как ты можешь о Сереже и о Коле такое? Ты знаешь, что такое поэтический труд, ты видел, сколько они оставили. Но ты не знаешь пока, что такое слава. Это хуже беды беда. Пахали ребята без сна и продыха. А что ярлыки им повесили, так и тебе повесят. Повесят, касатик, повесят, если такими шагами шагать будешь.
— Пусть.
— Вот и они так считали. Пусть. Они знали, — что важное, что второстепенное, удел гениев — при жизни знать этот свой удел и соглашаться с ним. При жизни наплюют, после смерти разотрут, еще и умереть помогут. А как же! Ты за это даже не переживай. Все умрем. Каждый в свой час. Только все по-разному. Но литературе это не помешает!
— Угу, — растерянно кивнул Тимоха.
— И я надеюсь, что ты встретишься с ними на книжных полкаж или в какой-нибудь антологии. Там вот и перекликнетесь. А читатель услышит. Я надеюсь, а ты не плошай. Тебе многое дано, и если ты это понял и принял, то смирись. Кому много дано, с того спросится втройне! Готовься.
— Куда денешься. Я не могу не писать.
— Можешь не писать — не пиши. Не можешь не писать — пиши.
— Я должен вам сознаться, Борис Ильич, — сказал Тимоха, — Кое в чем…
— В чем? — насторожился редактор.
— Эти стихи, которые я принес, их написал не я…
— А кто?
— Не знаю… На капоте машины ломаной, без колес. На ладонях, на ногах были строки.
— Где? На ногах?
Борис Ильич поправил очки и аккуратно присел на стул перед Тимохой. Он был раза в два меньше ростом, но в этот момент Тимоха почувствовал себя мелкой букашкой, которую редактор разглядывет через микроскоп.
— Во сне, что ли? — спросил Борис Ильич.
— То ли во сне, то ли наяву…
— И не пьяный был? Не похоже по стихам-то, что пьяный…
— Нет, не пью я давно.
— А! — воскликнул радостно редактор и хлопнул себя ладонью по лбу. — Так у тебя кругом авансы! Это, братец ты мой, тебе надиктовка пошла. Готовься тогда, ненаглядный, вскорости хлынет поток. Авансы отрабатывать надобно. Не хочу тебя пугать, но кроме меня сказать это будет некому. Советую тебе устроиться на тяжелую физическую работу. Иначе сорвешь мозги или душу. Пахать надо так, чтоб без задних ног спать заваливаться и не думать. Все это уже было. Готовься. Ты созрел. В деревне тишина напитала, голову университет тебе нашпиговал, судьба тебя пошпыняла, массажик хороший получился. Ты подготовлен на пятерочку. Сейчас начнется. А это вот — цветочки.
Борис Ильич махнул рукой в сторону своего письменного стола.
— Ладно. Все равно напечатаю. Неплохо там:
Стерплю по духу — боль, По воле — муку, По силам — крест, А сила велика.
— Угу, — счастливо кивнул Тимоха.
— А ты не радуйся особенно, дружочек. Тебя кто за язык-то твой болтливый тянул? Ты заявил, что сила велика?
— Заявил.
— Вот теперь и доказывай без продыху. Тебя ведь тут же и проверят. За каждую строчку отвечать надо, за каждое слово, за каждую запятую. А не ответишь сам — на детей скинешь.
— Я ж плохого не сказал…
— Коля тоже плохого не сказал. Написал только «Я умру в Крещенские морозы»— и умер в Крещенье.
— Пророк…
— Балабол! — сердито сказал Борис Ильич, — Бес его под локоть толкал…
— Вы верите в это?
— Я проверил это. И не раз. Иди, Тимоша, не расстраивай меня, а то я уже переживать стал. Осторожнее со словом. Вылетит — не поймаешь, а напишешь — не вырубишь топором.
— У меня есть сила, — тихо сказал Тимоха.
— Это вызов? — прищурился Борис Ильич.
— Да.
— Огонь — на себя?
— Да.
Борис Ильич внимательно посмотрел на Тимоху.
— Может быть… — тихо сказал он, — Посмотрим по следующим стихам. Понаблюдаем… Иди, касатик, иди.
Тимоха встал, молча поклонился и вышел из кабинета. Прошел по старинной мраморной лестнице к выходу, внимательно глядя себе под ноги, словно на ступеньках опять могли появиться какие-нибудь строчки.
На Невском проспекте был привычный слякотный шум. Задохнувшаяся потоком машин проезжая часть мертвенно млела пробкой: на повороте опрокинулся грузовик, и гаишники изо всех сил старались эту пробку растворить, но она снова прессовалась подъезжающими автобусами, троллейбусами и машинами. Тимохе вдруг показалось, что никакого журнала «Нева» на Невском проспекте нет и быть уже не может, что разговора с редактором Борисом Ильичем тоже не было и быть не могло, а все ему опять приснилось.
Какие стихи?! Зачем они нужны этому городу и этому миру, этим неподвижным, призрачным людям, неотрывно и тупо смотрящим в затылок впереди стоящему. И даже когда начнется движение, то каждый позади едущий все равно останется стоящим, неподвижным, и расстояние между людьми не изменится, пока кто-нибудь не свернет или не исчезнет. Зачем им стихи?
Из приоткрытых окон вылетал тусклый сигаретный дым вперемешку с громкой, радостной музыкой, но в машинах не было ни одного счастливого лица.
Тимоха шел против течения пробки, как против течения реки, и впервые в жизни он почувствовал, что движется — он, а не машины. Люди смотрели на него из-за тонированных стекол печально и зло, как смотрят из камеры тюрьмы, потому что он мог двигаться, он был свободен, а они были в плену.
Тимохе стало неловко за свою свободу и за чужую вынужденную неволю. Он обернулся, чтобы посмотреть, не началось ли движение в начале пробки, но оно не началось. Тогда он опустил голову и прибавил шагу, не глядя уже в тяжелые, тоскливые глаза неподвижных людей. Мир в этот миг находился в каком-то безысходном состоянии магического равновесия неподвижной дороги и быстрых человеческих шагов. Равновесие это возможно было нарушить даже не словом, а только одной мыслью. Чтобы не подумать дурного, Тимоха прошептал:
На тонкой ниточке кружу
Планетою вокруг светила.
Мне б слов конечно же, хватило,
Но если те слова скажу,
Нарушу равновесье мира.
За спиной звонко свистнул гаишник и машины заурчали, тронулись с места, потекли грязной, парящей рекой по усталой, горячей, январской артерии города мимо Тимохи. И ему стало легче от того, что уже никто не обращал внимания на высокого, крупного пешехода, прячущего печальные синие глаза от вырвавшегося из плена свободного потока.
Глава 23
— Напра-во! Ать-два! — командовал дед, а Ванька старательно выполнял команду
— Ногу-то не тяни! Не балерина ты! Резко надо. Вот так. Ать-два! Раз — носок в сторону на девяносто градусов. На девяносто! А пятка на месте. Чего задницей вихляешь? Ремня хочешь? Счас получишь.
— Да ну тебя, дед…
— Повторим. На месте! Шагом! Арш! Ать-два, ать-два, ать-два. Ать-два! Я сказал! Не брякай пятками! Строго надо! Ать! Ать! Ать-два, левой! На-ле-во! Ать-два! С руками-то — что?
— Да ну тебя, — буркнул Ванька, не смея пошевелиться и теребя нервно краешек рубашонки.
— Разговорчики в строю! Руки по швам! Чего ты ими как крыльями машешь? Утка кряква! Чуть согнуты в локте и неподвижны. Как каменные! Сильные, каменные, тяжелые руки. Понял? А ну. Кру-у-у-гом! Ать-два! Чуть не повалился…
— Ох, — вздохнул горестно Ванька.
— Ну разве это солдат? Васильевна, глянь, куда он гож? Никуда. В армию не возьмут.
— А зачем ребенку в армию? — изумилась Яна Васильевна. — Георгий Ефимович, вы меня извините, конечно, может быть это и не педагогично, конечно, — возведя глаза к потолку, завела речь Яна Васильевна.
— Резче! — скомандовал дед.
— Но вы замучили ребенка! — отрезала Яна Васильевна и отвернулась к окну.
— А это если кому не нравится, тот может идти домой, — обиделся дед.
— Мне не нравится, я пойду в свою комнату, — оживился Ванька.
— А я никуда не пойду, — решительно сказала Яна Васильевна, — Хоть мне тоже не нравится.
— Тогда продолжим занятия, — согласился дед. — Васильевна, встать в строй!
— Еще чего не хватало! — возмутилась Яна Васильевна. — Я блокаду пережила ребенком, я знаю войну не понаслышке, но в армию меня брать не будут!
— Тогда иди домой.
— Нет, я ребенка не брошу. Он еще некормленный, а меня оставили здесь за старшую, я потом отчитываться должна!
— Ладно, тогда сядь, — смилостивился дед, — А ты давай, повторяй команду. Кру-у-угом! Ать-два! Не умеешь кругом. Не умеешь… Васильевна, покажи ты ему. Ты войну прошла ребенком, обязана знать.
— А я знаю, — гордо сказала Яна Васильевна.
— Я бы показал, но на костылях не могу. Повалюсь, потом не встану. А ведь нам, подруга, завтра с тобой в поход… К начальству! В бой!
— Куда тебе идти завтра? — насторожился Ванька.
Дед испуганно замигал.
— Куда?
— Да никуда, Ванечка, никуда, — заволновалась Яна Васильевна, — Ну давай, я тебе покажу, как надо кружиться. Ой, только у меня тут шаль мешать будет и юбка широкая… Командуйте, Георгий Ефимович! Вот смотри, Ваня.
Дед, прикусивший было свой разболтавшийся язык, крякнул и громко скомандовал:
— Васильевна! Кру-угом! Ать-два!
Пышная юбка Яны Васильевны закружилась в воздухе разноцветными лепестками неизвестного цветка, шаль затрепетала по стенам шелковыми кистями, чуть приотстав от этого кружения. Яна Васильевна схватилась пухлыми ручками за кудрявую голову и рассмеялась задорно и восторженно:
— Боже мой! Боже мой! Как квужится говова!
Дед неодобрительно хмыкнул и тут же сделал суровый вид.
— У нас тут что, уроки бальных танцев? Это что за квужится говова? — передразнил он ее, но Яна Васильевна не обиделась.
— Ванечка! Ховошо я квужилась?
— Да, — улыбнулся Ванька.
— Не кружилась, а выполняла команду «Кругом!»— поправил ее дед. — Что это за армия? Никуда не гожа. С такой армией на войну не пойдешь, нечего и собираться, — сокрушенно покачал он головой.
— А ты на какую такую войну собрался? — уточнил Ванька. — К какому начальству? Адрес скажи.
— А не твоего ума дело, — огрызнулся дед.
— Солдаты должны знать, за что они воюют, — не согласился Ванька.
— Ладно, ладно, Тимоша покажет, как надо квужиться, — попыталась перевести тему Яна Васильевна.
— Да не кружиться! — возмутился дед. — Выполнять команду!
— Давайте пойдем на кухню. Я должна вас накормить ужином, а то Лидочка приедет и будет недовольна.
В проеме двери появилась Зоя.
— Что это у вас тут… Шумно так…
— Учения, Зой, — отчитался Ванька.
— Кто кого учит?
— Дед нас строит, — пожаловался Ванька.
— Правильно. А то распустился…
— Он и меня строит, — поделилась Яна Васильевна.
— Да? — сказала Зоя, не зная, что и ответить соседке.
— Они никуда не гожи, — сокрушенно сказал дед, — С такой армией бой проиграешь.
— А где нынче бои? — поинтересовалась Зоя.
— Да я так сказал. Для слова.
— Угу, — кивнула Зоя. — Просто так сказал. Да, Яна Васильевна?
Она пытливо посмотрела на соседку.
— Ну… — развела та руками и шалью. — Я не уполномочена выдавать военную тайну…
— А мы все ваши тайны знаем. Посмейте только из дома выйти! Да, Зой?
— Да… — угрожающе протянула Зоя.
— А то, пока мы в школе, дед из дома убегает. Да, Зой?
— Что такое? — возмутился дед. — Бунт?! Да я сейчас вас всех — под трибунал! А особенно тебя!
Он грозно потряс костылем.
— Ага, вот свалишься где-нибудь, будет тогда тебе трибунал!
— Я приготовила селедочку под шубой. Котлетки и пюре. А супчик будете? Георгий Ефимович, будете? — заворковала Яна Васильевна.
— Супчик? — насторожился дед и сердито нахмурился. — Буду супчик. Солдату перед боем неплохо горяченького.
— Бой в администрации будет? — деловито уточнила Зоя, — Мне подходить в подкрепление?
— Часа в три. Для обратного пути. Но матери — ни слова.
— Лады, — кивнула Зоя, — Пошли к супчику.
— Только котлеты, — непреклонно заявил Ванька.
— Молчи, а то будешь есть две порции, — предупредила Зоя.
— Ты сегодня злая, Зой? Да?
— Злая.
— А чего? Серега тебя разлюбил?
— Не твое дело.
— Тогда не злись. Сделай вид, что он тебя любит, а ты его нет.
— Он Лену любит.
— Рыжую?! Эту железяку с облезлыми патлами?
— Облезлые — это изящно, это модно. Ты не понимаешь в красоте.
— Три длинных волосинки — это модно? Тогда дед круче всех!
— Модно, модно, — отмахнулась Зоя.
— Так это ж — болезнь, это ж нездоровая голова. А разве может болезнь быть в моде? Зой? У Ленки той голова лысая. Может, она в Чернобыль ездила и там облучилась, бедная. Давай, я твой портфельчик поставлю, Зоя!
— На, — Зоя протянула ему портфель и пошла мыть руки.
— И ведь он сам, Зоя, и сам не совсем в порядке. Тоже, кажется, больной, — не унимался Ванька, преследуя сестру по пятам.
— И что за болезнь?
— Рахит, Зой. Ноги, видела, какие кривые? Баран между ног проскочит! Ходит, как будто бы только что с коня слез.
— Это тоже круто, — буркнула Зоя.
— Ничего крутого! Орангутанг.
— А мне все равно нравится, — вздохнула Зоя.
— А вот Игорек кудрявый не нравится тебе? Он красивый. И ноги у него прямые.
— Нет, не нравится, — печально сказала Зоя, намыливая руки.
— А вот еще Максим… Помнишь, на пляже из соседней деревни дачник.
— Максим?..
Зоя насторожилась.
— А почему ты про него спросил?
— А мне, Зой, кажется, что вы — пара. Он тебе подходит. Правда, ноги у него тоже кривые, но мужчину это украшает. Зато у него усы.
— А когда ты разглядел?
— А на пляже, Зой! — оживился Ванька, — У него настоящие усы! А разве он не звонил тебе осенью? Четыре раза… Не звонил? А по сотовому? У тебя ж в адресной книжке есть какой-то Максим. Не этот?
— Обалдеть! — возмутилась Зоя. — Он уже изучил мою адресную книжку! Прямо не дом, а следственное управление. Тебе только в прокуроры идти.
— Дед хочет меня в военное училище определить.
— Пойдешь, пойдешь, там тебя научат кружиться! — пробасил дед, громыхая костылями и медленно передвигаясь по кухне к столу.
Яна Васильевна ответственно суетилась у плиты, как старшая на время Лидиной командировки.
— А папка где? — спросил Ваня.
— В восемь часов придет. Разгрузит вагоны и придет твой папка. Я его тоже построю.
— Его нельзя. Меня можно, а его нельзя.
— Почему это? — удивился дед.
— Потому что он — папка. — Если ты будешь его при мне строить, то я не буду его уважать.
— А если — шутя?
— Шутя можно. Но только тогда сразу двоих, — сказал Ванька серьезно.
Дед довольно крякнул, взялся за ложку.
— Ну, давай, Васильевна, трави.
— Как это — твави? — оторопела Яна Васильевна.
— Да ты, небось, и суп-то варить не умеешь.
— Как это — не умею? — обиделась Яна Васильевна и прижала тарелку с супом к груди.
— Ладно, давай, давай его сюда, а то обожжешься, — велел дед.
Зоя приняла тарелку из рук Яны Васильевны и поставила ее на стол.
— Зачем вы его слушаете, Яна Васильевна? Уже нужно привыкнуть к его юмору, как к неизбежному бедствию. Больше ничего не остается.
— А может, мне нравится, что она не понимает шуток, потому и шучу, — сказал дед.
— Главное, чтобы не обижалась, — сказал Ванька. — Вы, Яна Васильевна, не обижайтесь на него.
— Я не обижаюсь. Георгий Ефимович в последнее время стал намного добрее. Он уже не говорит о похоронах, о памятниках, о кремации.
— Это достижение, — согласилась Зоя.
— А чего об этом говорить? Все уже обговорено. Вы как предпочитаете, Яна Васильевна, в могилку или через крематорий?
— В могилку, — язвительно, но терпеливо ответила Яна Васильевна.
— А гроб черный или красный?
— Деревянный, — сжав зубы, процедила Яна Васильевна.
— А я — красный, — сказал дед. — Под каким флагом воевал, под таким и помру. Ладно, Васильевна, обговорили эту тему, больше повторять не будем.
— Спасибо, Георгий Ефимович.
Зоя с Ванькой переглянулись и снисходительно промолчали, а Яна Васильевна сурово и властно громыхнула на середину стола большое фарфоровое праздничное блюдо с селедкой под шубой.
— Ешьте, и идите заниматься делом. — велела она строго, как Лида.
* * *
Всю дорогу ее клонило в сон. Дождливая погода, однообразное движение дворников по стеклу, глухой голос диктора, грустные новости и бесконечная череда тусклых встречных фар — все это убаюкивало. Периодически она резко открывала глаза и, оживляясь, смотрела вперед, будто сама была за рулем и вдруг заснула. Потом ее снова укачивало, и слова диктора, цепляясь друг за друга, прорастали в отключавшемся сознании какими-то видениями, сложными, перетекающими друг в друга образами и картинами. Потом машина резко тормозила или круто поворачивала, и она подскакивала на сиденье, беспомощно отыскивая рукой ручку двери.
— Что вы все время за дверь хватаетесь. Выпрыгнуть хотите? — строго спросил Вадим.
Она виновато промолчала.
— Я уже, глядя на вас, тоже пару снов успел увидеть.
— Да? — испугалась Лида и быстро села вполоборота к нему.
— Ты не спи, пожалуйста, а то мы попадем в канаву.
— Отрубаюсь, — признался Вадим.
— Не выспался?
— Плохо стал спать. Сегодня в пять часов заснул.
— Я тоже плохо сплю, — призналась Лида. — За день наговорюсь, наработаюсь, потом пока все по полочкам не разложится, не заснуть. А разложится — пора вставать. Давай разговаривать, чтобы ты не спал.
— Давайте, — кивнул Вадим.
— Только не о деле, — предупредила Лида.
— Хорошо, давайте о безделье.
— Давайте, — согласилась Лида.
— Давайте, давайте, — подхватил Вадим.
— Ну, начинайте, — предложила Лида и сосредоточенно стала искать тему.
Говорить было не о чем. Разве только о деле.
— А давайте песни слушать, — предложила Лида.
— А давайте, — согласился Вадим и стал крутить ручку приемника. Волна попалась удачная. Песни были одна лучше другой. Лида устроилась на сиденье поудобнее и стала слушать, удивляясь, что еще есть хорошие песни, хотя по телевизору поют всякую дребедень.
— Не спите? — спрашивала она изредка и он молча мотал головой.
— Может, что-нибудь хотите спросить? Вы спрашивайте, Вадим, потому что я не знаю, о чем с вами говорить.
Он удивленно усмехнулся и снова промолчал.
Ее все равно клонило в сон. С ним было спокойно и уютно, и от этого хотелось сладко заснуть.
— Если вопросов не будет, я засну, — предупредила она.
— И мы окажемся в канаве, — предупредил он.
— Понятно, — кивнула она и быстро выпрямилась на сиденье.
— Что за погода! Дождь, как будто осень!
— Питер, — ответил он многозначительно.
— Питер далеко позади, а дождь все идет.
— Он за нами полетел.
— Значит, в городе дождя теперь нет.
— Скоро весна.
— Судя по погоде — уже весна.
— Февраль…
«Какой веселый разговор!»— восхитилась она зло, потому что, если людям не о чем разговаривать, то нужно молчать или не ездить вместе. Раньше почему-то им было о чем поговорить, а теперь не о чем.
— А почему вы перешли на «вы»? — спросил Вадим.
— Для равноправия.
— Раньше были на «ты».
— Раньше были на «ты» и «вы», а теперь на «вы»
— Может, лучше перейдем на «ты»?
Неожиданное предложение прогнало дрему. Сон, как рукой сняло.
— Зачем? — спросила она, — У нас деловые отношения.
— А раньше ты была проще.
— Ты раньше был студентом, а теперь — деловым партнером.
— Тем более. Что тебе больше нравится?
— Мне все не нравится, — отрезала Лида.
— Почему? — удивился Вадим.
— Потому что мне без разницы, и я хочу спать, но не могу спать, потому что иначе ты заснешь, и мы окажемся в канаве, а я устала, а впереди куча работы, — выпалила она.
— Хорошая оборона, — похвалил он. — но характер плох…
— Кто это сказал?
— Я говорю.
— Откуда знаешь?
— Вижу.
— Молодец, — кивнула она.
— И свысока не разговаривай со мной, а то высажу и пойдешь пешком…
— Что?!
Лида обомлела. Если бы они не находились в глухом лесу далеко от Петербурга, она бы тут же выскочила из машины, даже если бы он не притормозил. Характер был такой… Плохой.
— Я не поняла…
— Что тут непонятного? Мы же не на лекции.
— Вадим? Это мы сейчас не на лекции, а через несколько дней мы будем на лекции, а весной у вас экзамен. Вы не забыли, кстати, что у вас хвост по курсовой?
— Речь не о хвостах.
— У вас тоже плохой характер, — недовольно сказала Лида и отвернулась к окну.
— Из-за этого от меня ушла жена.
— И правильно сделала.
— А ваш муж почему вас бросил?
— С чего ты взял, что он меня бросил?
— Взял вот. Бросил. И правильно сделал.
— Ха! Какая наивная месть с твоей стороны! Это я его бросила!
— Вы не бросите. Вы не умеете бросать.
— Умею.
— Нет. Вы будете тащить всех, кто соизволил попросить помощи.
— Зачем мне это надо? Я что — ненормальная?
— Кто ж его знает. Уж такая родилась. Другой не станете. Но это — не самое плохая ваша черта. Есть и похуже.
Лида напряглась, собираясь с мыслями:
— Кулаков!
— Что?
— А может, вам перевестись на факультет психологии? Юриспруденция для вас мелковата… Это детская шалость по сравнению с вашей проникновенной наблюдательностью!
— Мы подумаем над этим предложением.
— Кто — мы? С кем подумаете? Со второй женой? Она еще не ушла?
— С третьей. Вторую я выгнал.
— Это неправда. Она убежала сама. Без оглядки!
— Ну, если честно, то так. Бросила, — согласился Вадим, улыбаясь.
— Да что вы говорите? — изумилась Лида. — Просто напасть какая-то. Что ж это они все тебя бросают?
— Характер плохой.
— Так надо что-то делать с характером.
— Не знаю, что и делать, — вздохнул Вадим.
— А может, вам в артисты пойти? У вас неплохо получается.
— Что вы меня пристраиваете? Такая заботливая.
— Я думаю о ближнем, да…
Внезапно она рассердилась:
--- Давайте музыку слушать. Мне адоело тут пикироваться с вами. Что за тон выбран, Кулаков?
— Нормальный тон, Бушуева, — отрезал Вадим.
— Ничего себе? Фамильничает!— прошептала удивленно Лида и стала смотреть в окно. «Больше ни слова не скажу. Наглец. Ни слова! Тихий ботаник! Муж меня бросил. Как он со мной разговаривает!»
— Да, как вы со мной разговариваете? — возмущенно спросила она.
— Ласково, — признался он.
— Нет, нагло, — поправила она, — Давайте, пожалуйста, рассказывать какие-нибудь истории или анекдоты. Или, на худой конец, задачи решать по гражданскому праву, или…
— Уравнения какие-нибудь, — продолжил Вадим ее тоном.
— Да, или уравнения, — послушно повторила она. — Какие уравнения?
— С тремя неизвестными. Можно с двумя. Выбирайте.
— Выбирать? Я ж не математику преподаю.
— А я математику хорошо знаю.
— А я плохо. И не люблю. Не терплю…
— Ладно, — вздохнул Вадим. — Жаль, конечно, что уравнения решать не будем. Тогда будем рассказывать анекдоты.
— Давайте, — обрадовалась она.
— Я знаю только с матом, — признался Вадим.
— Как не стыдно! — недовольно поморщилась она.
— Я предупредил. Тогда рассказывайте вы.
— А я не помню ни одного.
— Не может быть.
— Точно.
— А про Красную шапочку?
— Ну… Там неприлично.
— А про колобка?
— Про этажи?
— Ну.
— Так ведь — с матом.
— А про то, как гусь пришел к цапле, — с вызовом воскликнул Вадим, — А? Слабо?
— Это уж и вообще… Нельзя…
— Лидия Павловна! — серьезно и строго, как врач, сказал Вадим, — Я прихожу к горькому, печальному выводу о том, что вы не знаете ни одного приличного анекдота. Вы, как преподаватель высшей школы, знаете ли хоть один анекдот без мата?
— Нет, — буркнула Лида.
— А что ж это у вас за система знаний? На мате основана.
— А потому что так! Потому что я много с уголовниками общаюсь, — заволновалась Лида и стала даже заикаться. — Я не только гражданские дела веду, я с уголовниками сидела… много…
— Вы — сидели?!
— Ходила сидеть. В Кресты. Вот, насиделась, — вздохнула она потерянно.
— И вы позволяли уголовникам в Крестах травить такие страшные, матерные анекдоты в вашем присутствии? Вы их так баловали, Лидия Павловна? Никакого уважения!
— А какое в Крестах уважение? — воскликнула Лида, — Там все как шпроты в консервной банке сидят в кабинете. Ты был в Крестах? Был?
— Упаси Бог!
— Вот и не рассказывай мне.
— Да, память у вас избирательная, — кивнул Вадим, — Анекдоты вы запоминаете только с матом.
«Вот привязался! — восхитилась Лида. — Один-ноль!»
Она подняла воротник шубы и сделала вид, что уже давным-давно спит.
До райцентра, где они должны были заказать документы в налоговой инспекции, в бюро инвентаризации и в бухгалтериях двух заводов, нужно было ехать восемь часов. Лида мельком глянула на часы.
— Медленно едем. Опоздаем, — сказала она.
— А тогда — по канавам, — предупредил он.
— Не успеем все заказать.
— Останемся еще на день.
— Я тороплюсь.
— Куда нам торопиться? — спросил Вадим и в первый раз за всю дорогу повернулся к ней лицом и насмешливо посмотрел. Она мгновенно отвела глаза, но было уже поздно. Какая-то острая иголка процарапав по лицу, вонзилась в тело и проколола его мгновенно до пяток.
«Еще чего не хватало!»— возмутилась Лида глупым, тревожным мыслям. Она отгоняла их, но они снова прилипали.
Он повел плечами и закашлялся, словно поперхнулся от возмущения, прочитав их все до запятой. Она поспешно отвернулась к окну, стала изучать мелкие капли, потому что в тусклом свете дня за окнами ничего не было видно.
— Какая это деревня? — спросил он глухо. Голос его второй иголкой проколол ее тело.
— Не написано, — сказала она тихо, стараясь смастерить безразличный тон. Но тон не получился. Он снова кашлянул.
— Протри стекло, — буднично предложил он, будто они уже лет пять подряд ехали и ехали в этой машине.
— Чем? Платком?
— Ручку покрути, оно опустится и само помоется, — улыбнулся он.
— А-а… Да-да, точно, — спохватилась Лида и стала крутить ручку.
В машину плеснуло влагой и свежим лесным воздухом.
— Слушай, Вадим! А здесь нет снега! — воскликнула она завороженно. — В лесу совсем нет снега! Он зеленый!
— И подснежники цветут?
— Не знаю… Может быть… Хотя нет… Неужели так быстро растаял? За три часа! — восхищалась она. — Помнишь сказку про двенадцать месяцев?
— Да.
— Пойдешь собирать подснежники?
Она повернулась к нему, недоверчиво заглянула в глаза.
— Так ведь еще нет подснежников…
— А вдруг…
— Вдруг не бывает.
— А мы поищем и найдем, — сказал он так, словно она долго плакала, и нужно было ее утешить.
— Не найдем.
Он вдруг остановил машину.
Дорога в глубь леса была заасфальтированной, гладкой и чуть влажной от прошедшего дождя. Она стучала по ней каблуками, как по Невскому проспекту. Он шел позади, смотрел ей в спину, и понимал, что если вдруг она вот так вот, не останавливаясь и не оглядываясь, пойдет в глубь леса, потом свернет к реке, перейдет ее вброд, выйдет к болоту и полезет по зыбкой трясине, то никакая сила не заставит его вернуться к брошенной на трассе машине, к оставленным в городе делам, работе, квартире, учебе, друзьям. Он уже точно знал, что пойдет за ней, за этим гулким звуком жестких каблучков, потому что в любой трясине, во всяком буреломе с ней рядом все равно будет солнце.
Она раскинула руки, подставив ладошки дождю и громко, на весь лес воскликнула:
— Ну какие могут быть подснежники в феврале?! Скажите, что мы здесь ищем?
Издали в своей зеленой расклешенной шубе она была похожа на пышную новогоднюю елку.
— Зима, Вадим, зима! — крикнула она и, не опуская руки, повернулась к нему. Он медленно подошел и остановился.
— Какие мы тут ищем подснежники? С ума сошли, что ли? — виновато улыбнулась она.
— У тебя глаза, как подснежники… Синие… — сказал он. Улыбка растаяла на ее лице, она медленно опустила руки, как усталые, ненужные земле крылья.
— Серые…
— Нет… Как подснежники.
Он взял ее холодные, влажные руки в свои ладони и чуть притянул к себе.
— У тебя тоже синие глаза, — сказала она.
— Четыре подснежника, — улыбнулся он.
— Четное количество…
— Тогда я закрою один глаз.
Он прищурился.
— Теперь три.
Она закрыла оба и засмеялась:
— Теперь — один?
— Нет, два, — сказал и, склонившись, тихо поцеловал ее глаза.
— Что ты делаешь?
— Целую цветы.
Она отшатнулась и пристально посмотрела на него.
— Когда целуют глаза, то узнают мысли.
— Я все узнал, — сказал Вадим. — Поддерживаю. Это правильные мысли.
* * *
Женщина за стеклом делала вид, что очень занята. Она перебирала бумаги, и ее важное, полное лицо было невозмутимым, потому что не было видно заплывших жиром глаз. Лида равнодушно ждала, когда дежурная обратит на нее внимание, и переступала с ноги на ногу, мечтая о горячей ванне. За день они набегались по разным инстанциям, и кожа сапог насквозь промокла, отчего Лиду знобило.
Женщина взяла телефонную трубку, медленно набрала номер и сердито спросила кого-то:
— Где я возьму им два номера? Седьмой освободится только завтра.
Потом она немного помолчала и, изменившись в лице, заворковала:
— Сергунька, ты покушал? Только компот попил? С булочкой хотя бы?
Лида тяжело, обреченно вздохнула и оглянулась на дверь. Вадим поехал в магазин, чтобы купить продукты, а она застряла здесь в ожидании двух номеров.
— Один двухместный и все, — грубо отрезала женщина, не отрываясь от трубки, чтобы Сергунька знал, какая у нее важная работа, и снова заворковала.
— Еще одно место в каком-нибудь номере есть? — напряженно спросила Лида.
— Завтра, — бросила женщина в трубку.
Вадим влетел в холл гостиницы, как вихрь, обвешанный тяжелыми пакетами. Лида оглянулась на шум и удивлено вскинула брови:
— Мы остаемся на неделю? — спросила она, кивнув на пухлые пакеты.
— На всю жизнь, — сказал Вадим. — Где наш дом?
— Дома нет.
— А хотя бы ключи?
— Ключей тоже нет. У них только один номер.
— А нам сколько нужно?
— Хотя бы два.
— Зачем?
Он посмотрел на нее, как врач на только что поступившего в приемный покой больного.
— За стенкой, — буркнула Лида.
— За шкафом, — поправил Вадим и, наклонившись к проему в стекле, постучал о стойку.
— Уважаемая, будьте добры, оформите наши отношения.
— Номер только один, — взвилась женщина и тут же нежно спросила:
— А уроки ты уже сделал, Сергунька?
— Не сделал я уроки, — пожаловался Вадим. — Нам как раз нужен для этого номер. Один.
— Барышня просила два.
— Барышня считать не умеет. Она устала. У нее в глазах двоится. Быстренько, уважаемая, быстренько! Мы люди сами не местные, но благодарные, а у меня от тяжести такой руки отваливаются. Возьмите паспорта, а трубочку положите. Пускай Сергунька уроки делает, не отвлекайте мальчика.
Женщина медленно разинула рот и тихо положила трубку на аппарат. Она взяла их паспорта и стала просматривать.
— В один номер не положено. Можно только мужа и жену.
— Почему? — удивился Вадим.
— Потому что так у нас положено.
— Тогда мне дайте отдельный, — встряла Лида, но Вадим легонько оттолкнул ее локтем.
— Что такое? — прошипела Лида из-за спины. — Я еще буду этот маразм терпеть. Дайте два номера! — повысила она голос.
— Два нету, а один не положено.
— Хорошо, — согласился Вадим. Тогда давайте один.
Женщина глупо замигала:
— Я ж вам только что сказала…
— А мы слышали. Мы сейчас пойдем и оформим брак. Где у вас тут ЗАГС?
— На площади Ленина, налево за перекрестком. — ответила женщина.
— Так, хорошо. Регистрируйте номер на меня, а невеста пойдет готовиться к свадьбе. Восьмой, говорите?
— Восьмой.
— Иди, — коротко велел он Лиде.
— Поедем в другую гостиницу.
— У меня машину украли. Не знаю теперь, как назад добираться будем. К тому же, если ты поселишься в другом номере, будут проблемы.
— У меня?
— У дверей. Я их выломаю, — сказал он тихо. — Иди.
Она взяла ключи и пошла в восьмой номер.
Он пришел чуть позже.
— Что сидишь, как просватанная? — спросил он.
— Замуж собралась. На площади Ленина.
— Кто ж тебя возьмет с таким характером… Упертым… Разбирай пакеты.
— Так уже не надо жениться? — удивилась она.
— Пронесло, — вздохнул он облегченно, — Отделался легким испугом и коньяком.
— Почем это нынче свобода?
— Да рублей триста.
— Дешево.
— А твоя вообще бесплатно, — попрекнул Вадим.
— Женщине свобода не нужна.
--- Ловлю на слове!
Вадим оглянулся через плечо и пристально посмотрел на нее.
— А почему прячешь глаза? – спросил он. -- И вообще! Почему ты сидишь в шубе, в сапогах? Какой поезд ты ждешь?
Она пожала плечами.
— Я тоже устал, а вот видишь, разбираю пакеты, хотя это было велено сделать тебе. Сейчас за чайником пойду. Бездельница какая-то попалась… Ничего делать не хочет. Попалась, бездельница?
Он подошел к ней, присел на корточки и взял ее за руки.
— Ты попалась, бездельница, — сказал он глухо и поцеловал ее ладонь.
— Это ты попался, — тихо улыбнулась она и провела кончиком пальца по его уху, едва касаясь его.
— Еще… — прошептал он, закрывая глаза.
Она дотронулась до его подбородка с чуть отросшей щетиной, потом до верхней припухлой по-детски губы, потом до длинных ресниц, до складочки на переносице…
— Сейчас поцелую твои глаза и узнаю все мысли. Хочешь?
— Хочу, — сказал он, ловя губами ее руку. — Но ты их давно знаешь…Полгода знаешь…
Она смотрела со стороны, как ее рука, уверенная, наглая рука, изворачиваясь и томясь, ласкает его лицо. Она потянулась в нему, отгоняя эту захватчицу, и рука послушно отступила, скользнув по его волосам, спряталась на затылке, напряженная, неутоленная, переполненная неисчерпаемой лаской.
Она коснулась губами его щеки, легко, незаметно ни для него, ни для себя, как касаются губами ветра или капли дождя, или снежинки. Скользнула по колючим иголочкам вдоль щеки к подбородку, чувствуя, как больно, невыносимо остро мучаются ее губы от этих нежных уколов, как неумолимые потоки лучей пришивают ее навсегда невидимыми, неразрывными нитями к этому человеку.
Лучи заполнили ее целиком, она поцеловала его глаза, вздрогнувшие неуверенно и беззащитно. Едва касаясь, словно успокаивая, утешая, словно пыталась что-то сказать ему, но слов не могла вспомнить.
Где-то в памяти всплыл чайник, который нужно поставить, шуба, которую нужно снять, бумаги, дом, работа, город… Где-то всплыло и тут же исчезло все, что было с ней до этого мига.
Она уже больше не была железной, выдержанной, терпеливой женщиной. Она была нетерпеливой. А той, прежней, больше не было вовсе. Она растворилась, растаяла и забыла саму себя. Та, другая, была не она.
— Я не должна этого делать, — прошептала Лида. — Это не я.
— Это не я, — как эхо повторил он.
Глава 24
— Я с чертом не шучу, — сказала Зоя. — Я его как чую, что он на подходе, так бегом подбегаю и проглатываю, даже не глядя. А зачем смотреть? Вот ты зачем разглядываешь?
— Я чертей не видал, — не согласился Ванька.
— Они невидимые. Я образно говорю. Я имею в виду проблемы, неприятности, страхи, злобу и прочие гадости-слабости наши. Я вот как чую, что подкрадывается, так сама навстречу бегом как побегу! Как прыгну! Как съем!
Она растопырила пальцы над кипящей кастрюлей.
— И вкусно? — поинтересовался Ванька.
— Вкусно. У победы есть вкус.
— А над кем победа?
— Над собой. Самая тяжелая из всех побед. Скорей бы ты вырос, ничего не понимаешь.
— Но я стараюсь…
— А толку нет. Ты мыслишь не так, как я. Вот все тебе надо разжевать и в рот положить. К примеру, не сделаны у тебя уроки. Ты ведь будешь бродить, ныть, книжки перебирать, ботинки чистить, посуду даже помоешь, а они у тебя за спиной, как рюкзак будут висеть. Правильно?
— Ой, висят. И сейчас висят.
— А я на проблему или на работу бросаюсь, как тигр. Думаешь, мне эта музыкашка в радость? Плачу! Рыдаю! Но сажусь играть.
— Ругаешься… Материшься даже, я слышал.
— Во-первых, это не мат, это литературные выражения, во-вторых — на кого ругаюсь?
— На пианино.
— Нет, на себя. На лень свою. А уже только потом — на пьесу. Сейчас я тебе покажу, козявка, сейчас я тебя разберу и выучу! Посмей только не получиться!
— Ты злюка.
— Нет, я — воин наступающий, а ты — бегущий. Короче, мой полы, я все сказала.
— Ну Зой…
— Все равно твоя очередь. Чем дольше будешь ныть, тем тяжелее будет закончить работу и работать будет противно, как из-под палки, потому что не ты ее будешь побеждать, а она тебя, пленного и покоренного, эксплуатировать.
— Все равно не хочу, — признался Ванька, — Не мужское это дело — полы мыть.
— Ты какой-то шибко раздумчивый стал, Иван. Грустный ты какой-то. Ничего не случилось?
Ванька пожал плечами и оттопырил губы.
— О, да ты собрался реветь? — расстроилась Зоя, — Колись, что произошло? Подрался с кем-нибудь?
— Собираюсь.
— С Аликом?
— Со всеми.
— Из-за чего?
— Да… Тут… Из-за девочки одной.
Зоя замерла у стола с ложкой в руке.
— Вот тебе на… Началось. И как ее зовут?
— Кристина.
— Эта первоклашка? Из соседней парадной?
Ванька шмыгнул носом.
— Которая бальными танцами занимается? — уточнила Зоя.
Ванька шмыгнул погромче.
— Ну что ж, — по-взрослому вздохнула Зоя. — У тебя неплохой вкус. Одобряю.
— У нее много поклонников, — поделился Ванька.
— Это хорошо, — похвалила Зоя, — За любовь нужно бороться, становиться выше, сильнее, умнее, заниматься спортом, другими видами работ. А ты, Иван, не можешь собственную лень победить. Мой полы.
— Да чего мне… Кисло все как-то.
— Не заболел? Температуры нет?
— Я заскучал. По бабушке, по маме…
Зоя тихо присела рядом с ним на табуретку.
— Я тоже домой хочу…
— Надоела мне эта школа, этот город, терпеть его не могу, — пожаловался Ванька.
— А когда мы приезжаем к бабушке, то уже через неделю хочется сюда. Вот странно, да, Вань?
— Да как-то все противно: один — здесь, другой — там. Жили бы все вместе, так и все равно, где, хоть на Сахалине, хоть на Колыме.
— Такая вот жизнь, Вань. Вместе — невозможно по одним причинам, врозь — по другим. А ведь эти причины — это те же самые черти, которых мы не можем с размаху проглотить. Мама — одного, ты — другого, бабушка — третьего.
— Папка проглотил. Папка молодец.
— И дед всегда глотает.
— И ты глотаешь. И я тоже буду глотать их, гадов!
Ванька вскочил со стула, схватил железное ведро и, гулко брякнув им по краю ванной, открыл кран.
— Сейчас я вам покажу, кто в доме хозяин! Вы у меня все разбежитесь по углам! — крикнул он.
— Так их, Вань, так их! — подзадорила Зоя.
— Ишь ты, разленился я, как кот. Я, Зой, полы вымою, а потом ковры буду пылесосить.
— Правильно, Ванюш!
— И… И еще потом… Потом географию поучишь со мной?
Зоя запнулась.
— А сам не можешь?
— Я плохо города выговариваю, — пожаловался Ванька, топя тряпку в ведре.
— Я вообще-то хотела в интернет слазить, — замялась Зоя.
— Ну и ладно, — неожиданно легко согласился Ванька, — Съем я и эту заботу, как папка ест. Во я сегодня наемся! Сейчас намою полы, дед придет с Васильевной и ахнут. Ты не пойдешь его встречать?
— Не велено, — ответила Зоя.
— А справятся?
— Не сказано.
— Может, пойдем, встретим?
— Нельзя без приказа.
— Они на такси?
— На «Волге», как министры. Пусть катаются.
Когда полы были вымыты, ковры пропылесосены, обед приготовлен, они позвонили бабушке. Несколько минут крикливого разговора — на том конце не было слышно — не успокоили, а только расстроили их. Они сидели потерянно на диване, прижавшись друг к другу, и долго молчали.
— Мама скоро приедет, — тихо сказал Ванька, — И где мы все будем жить?
— В тесноте — не в обиде. Главное, что она будет с тобой. Ты же скучаешь?
— А бабушка когда приедет?
— Бабушка дом не бросит.
— И вечно она толком не поговорит, — возмутился Ванька, — Ой, много платить, много платить. Да лучше б я мороженое не ел неделю, чем такой разговор.
— Хороший разговор, — пожала плечами Зоя.
— Ничего хорошего. Одни слезы да охи. Что случилось, что случилось? Где родители? Почему звоните? Почему одни? — передразнил Ванька.
— Что это ты передразниваешь старших?
— Потому что терпения больше нет.
— Так ты проглоти свою злость и посмотри на все по-другому. Бабушка тоже скучает и переживает за нас.
Ванька сердито засопел.
— Понимаешь ли, братец, — назидательным тоном начала Зоя.
— Вот только не надо мне этого! — Ванька резко поднял ладонь вверх и рубанул воздух, — Я лучше проглочу.
— Понимаешь, Вань, — исправилась Зоя и мягко погладила его по голове, — Каждый миг жизни — это куча хлама, среди которого можно найти жемчужное ожерелье, бриллиант величиной с кулак, чудесную рамку для картины, резную, ручной работы…
— Ролики новые, — кивнул Ванька.
— Букет свежих, только что срезанных роз.
— Бальное платье, розовое…
— Как у Кристины. Правильно, Вань. Но ведь все другое — хлам! И нужно усердно выискивать в нем это платье, этот жемчуг, эти кроссовки…
— Ролики…
— Когда научишься, то глазки автоматически перестанут замечать лишний сор, ненужную грязь, всякую ерунду. А жемчужина — в чем? Вот сейчас — в чем?
— Мама приезжает…
—Да. Все здоровы и живы. Остальное — зачем нам с тобой видеть, Вань?
— Зоя! Какая ты умная у меня сестра! — восхищенно сказал Ванька. — И я тебе хочу сказать, что ни Димка, ни Игорь — ногтя твоего не стоят. Разве только Серега, хоть у него и ноги кривые. Потому что ты, Зоя…
Ванька набрал полную грудь воздуха, отыскивая подходящее слово.
— Ты, Зоя, — царица!
Зоя недоверчиво хмыкнула.
— Тебе деньги, небось, на жвачку нужны? Откуда столько пафоса?
— Я честно говорю, — признался Ванька.
От неожиданности Зоя глупо фыркнула и захихикала. Ванька тут же насторожился. Реакция сестры ему не понравилась.
— А если — царица, так и веди себя как царица, а не фыркай тут! — велел он.
* * *
— Мать дома? — воровато оглядываясь по сторонам, тихо спросил в дверях дед.
— Она завтра только приедет, — сказала Зоя.
— Кто ее знает, — недовольно пробурчал дед, вваливаясь в прихожую. — Вчера или завтра…
— Погода пасмурная, дождь, как летом. Что это за зима! Мы с Георгием Ефимовичем так промокли, так устали! — радостно затараторила Яна Васильевна. — Ванечка, поставь, пожалуйста, чаник. Так хочется чайку, правда, Георгий Ефимович? — приговаривала она, снимая тяжелую, намокшую шубу.
— Зой, держи костыль, — буркнул дед.
— А что такой сердитый?
— Погоди, дай раздеться, все скажу.
— Что случилось? — насторожился Ванька.
— Отец дома?
— На работе.
— Вот и хорошо. Пусть работает, — кивнул дед, с трудом освобождая руки от влажных рукавов куртки.
— Вы что, пешком шли? Мокрые все.
— Мы машину не могли поймать, Зоя, — пожаловалась Яна Васильевна, — Целый час ловили.
— Видят, что я на костылях, не хотят путаться. Кому нужны заботы со стариком? — вздохнул дед.
— А я Георгия Ефимовича на остановке спрятала и сразу машину поймала, — похвасталась Яна Васильевна.
— Конечно, завлекла, — согласился дед.
— Деньги сначала отдала, а тут и кавалер мой прискакал. Куда денешься. Жалко деньги назад отдавать, правда, дети?
Она запнулась на минуту и нерешительно продолжила:
— Это, конечно, непедагогично, но такова жизнь…
— А что вы не спрашиваете о результатах похода? — напряженно поинтересовался дед, пробираясь вдоль коридора к кухне.
Музыкальный паркет мучительно застонал от такого количества ног, он не успевал издавать звуки, а редкие писки, которые пробивались сквозь толчею, были такими слабыми, что растворялись тут же, не достигнув даже высоты колен.
— Идемте, дети, идемте, — ворковала Яна Васильевна. — У меня чудесные конфеты. «Мишка на Севере» фабрики имени Крупской. Надежды Константиновны. Кто из вас, дети, знает, кто такая Крупская Надежда Константиновна? Кто скажет, тот получит приз!
— Жена Ленина, — ответил дед устало.
— Георгий Ефимович! — возмутилась она, — Ну я же детей спрашиваю! Вы же не ребенок! Кто вас за язык тянет?
— Мерзавцы! — стукнул дед костылем по полу. — Подлые предатели!
— Кто? — хором воскликнули Зоя и Ванька.
— Они. Потомки тыловых крыс. Расплодили крысятники, сидят по своим норам, ждут своего часа. А потом, по темноте за добычей крысить выбегают. И тащат, и тащат!
— Георгий Ефимович! — предупредила Яна Васильевна. — Вы это уже говорили. Зачем теперь повторять перед детьми?
— Пусть знают, где живут, — сурово ответил дед, тяжело усаживаясь в свое кресло.
— Не надо убивать в детях веру… надежду…
— Веру не убьешь, если она есть, а надеяться им не на что. Не пойдешь, Ванька, в военное училище. Нечего тебе защищать. Крысы одни…правят…
— Как это? — оторопел Ванька. — Я, конечно, раньше не хотел, но собирался…
— А не пойдешь. Это не страна. С такой властью — это не страна.
— А я наоборот пойду, — не согласился Ванька. — Власть и народ, страна и земля — это разные вещи, ты сам говорил.
— Несовместимые… Земля сама по себе, народ сам по себе, а власть — это теперь – да-аа! Вся страна нынче существует только ради этой власти. Вот, дети дорогие, садитесь теперь и слушайте, как ваш прадед, герой войны, проиграл свой последний бой. Как последний подбитый гад выполз я из этого дворца. Хорошо, что Васильевна поддержала.
— Проиграл? — побледнел Ванька и обиженно замигал.
— Проиграл. И знаешь, чем он меня добил?
— Кто?
— Долгов, глава администрации района нашего.
— А ты бы ему — по голове, костылем! — распалился Ванька.
— Ваня! — ужаснулась Яна Васильевна. — Чему ты дедушку учишь?!
— Он мне сказал так: вы едете и едете, а город наш не резиновый. Видишь ты, его город, а не мой. Не беда, что я его защищал? Говорит, нам своим героям жилья не хватает, не то, что приезжим.
— А что это за отдельные герои у них свои? А ты чей? Американский? — с ненавистью спросила Зоя.
— Вот я и говорю…
— А ты бы ему костылем как дал! — воскликнул Ванька.
— Ваня! — цыкнула Яна Васильевна. — Это непедагогично!
— Погоди, Васильевна, не встревай. Ты на язык прыткая, а на дело негожая. Ты мне и там всю дорогу мешала речь сказать.
— А для чего им речи? Отфутболили и рады, — махнула рукой Яна Васильевна.
— Погоди, никто меня не футболил. Сказали, что надо десять лет в городе прожить, чтобы на очередь поставили, а я только восемь прожил. Так я еще десять жить буду! Что они думали — сдохну? А хрен собачий в дуле пулеметном они видали? Так я им покажу!
--- Ну,ну! – предупредила Яна Васильевна, но было поздно.
--- Буду жить им назло, пока квартиру не дадут! Буду и все! Я спрашиваю, город Петербург и страна Россия — это разные государства? Я чей?…
— Дед, дед, — попытался остановить его Ванька.
— Я ему так, Ваня, сказал. Говорю, хоть я и приехал сюда незваным татарином, да не по своей воле, а потому что меня в приют не сдают, потому что такие обстоятельства. А ты, говорю, Долгов, никому кроме твоего кресла не нужен. А старым будешь, детки твои из Швейцарии таджика наймут, чтоб горшки за тобой выносил. Ты — Долгов - должник, и они всем должны будут. А раз государство квартиры ветеранам дает, то ты мне долг отдай.
— Так и сказал? — усомнился Ванька.
--- А вот так и сказал!
— Чуть поярче сказал, колоритно.. — поджала губы Яна Васильевна.
— И не твое дело, Долгов, зачем я сюда приехал. Не воровать и не прогибаться тут перед тобой, крысой хреновой.
— Георгий Василевич! — предупредила Яна Васильевна. — Там дальше нельзя.
— Да, непедагогично, — согласился дед. — Зато честно. И я сказал, Зоя, так: я хоть и не ленинградец, но Родину свою я защищал не хуже других. И Родина меня не забыла! Вот и ордена, и медали. А что я выжил, так в том моей вины нет. У нас страна одна. А если положена квартира к 60-летию Победы, то дай. Другим даешь и мне дай. У меня семеро по лавкам и ни одного в Швейцарии нет. А если мне не положено, то напиши на бумаге — почему. Мол, только семь лет, как из Америки вернулся. А надобно десять. Напиши!
Дед отвернулся и стал судорожно тереть лоб.
— Я так и чувствовала, что не нужно ходить, — занервничала Зоя.
— Разве удержишь? — прошептал Ванька.
— Родина меня не забыла, — горько сказал дед. — Но вспоминать не хочет…
— Георгий Ефимович, вы напрасно так расстраиваетесь. Я сейчас позвоню Марине, они обещали письменный ответ прислать. Мы соберем все недостающие документы и пойдем в суд, дадут вам квартиру. Только не переживайте. Берегите здоровье!
— Не помру! — хлопнул дед рукой по столу. — Гадом буду, если помру. Даю слово! Таблетки теперь все буду есть. До одной. Пусть витамины колют, не стану сопротивления оказывать. Но я переживу этого Долгова. Его свои же крысы сожрут. Не поделят добычу и сожрут! Он же — дол-гов!
— Короче, дед! — прервал его Ванька. — Я так понял, что бой был не последний. Последний еще впереди. Это была так, игрушечная разведочка.
Дед мигом притих.
— Разведочка, говоришь? — насторожился он.
— Конечно. Не бой же. Разве это бой? Ты чего, дед, с дуба рухнул, что ли, с крысами воевать! — радостно завопил Ванька. — Это недостойно твоих званий!
— Ваня, что за текст, — предупредила Яна Васильевна.
— Да и правда, — согласилась Зоя, — Какого-то крысеныша за армию принял.
— Крысеныш-то он крысеныш, но за ним — законы. И они против меня, выходит, так.
— А их читал, эти законы? — воскликнула Зоя. — Почему ты такой доверчивый? Почему ты веришь телевизору, властям?
— Как не верить? Я привык верить… — растерялся дед. — А кому я должен верить?
— Никому! Надо идти в суд, — отрезала Зоя.
— В суд. А суд — из трех блюд. Марина говорила, законы и там не работают, работают деньги.
— А мама говорила, законы работают, не работают люди! — повысила голос Зоя. — И надо слушать маму, а не Марину!
— Доверяй, но проверяй, — воскликнула вдруг Яна Васильевна. — Вот мы обжалуем официальную бумагу в суде и узнаем, где истина, а где ложь. Вы меня извините, Георгий Ефимович, но крысиные бумаги…
— Яна Васильевна, что за текст, — укоризненно сказал Ванька.
— Извините, — засмущалась Яна Васильевна.
— Целый день: извините, извините, - махнул рукой дед. --- Ее толкнут, а она — извините, ее облают, а она — извините. И меня расслабила этой своей вежливостью. Я вот зря его не послал. Надо было послать. Эй, я б его так послал!
— Дед, а ты умеешь? — улыбнулся Ванька.
— А то! Упаси Господь вам услышать, как я умею. Я б ему лет на десять жизнь укоротил, если б выдал все, что умею.
— Ну так сходи, пошли, — посоветовал Ванька. — Дело несложное, я провожу.
— Иван! — грозно воскликнула Яна Васильевна. — Чему ты учишь дедушку?!
— А что? — возмутился Ванька. — Каждый должен получить то, что заслужил! Если бы он вежливо разговаривал, то и не надо было бы посылать. А дед ему в отцы годится, а он ему — город не резиновый, а вы ему — извините. Дед! Давай я пойду пошлю!
Дед задумался. Он внимательно посмотрел на распаленного, красного от гнева Ваньку и строго спросил:
— А ты умеешь?
— А то! Упаси Господь тебе услышать, как я умею! И если в школу сообщат, то папка разберется. Так и скажет: есть за что, вот и послал. И вы идите.
— Боже мой! Боже мой! — заломила руки Яна Васильевна. — Я этого не перенесу! На моих глазах и ушах за один час приличная, образованная, воспитанная семья, умная семья, благодаря вам, уважаемый Георгий Ефимович, превратилась в источник злобы, ненависти и… нецензурного… поведения…
— Яна Васильевна, давайте попьем чайку, — спокойно сказала Зоя. — Мишка на Севере, фабрики имени Крупской. Надежда Константиновна тоже радела за культуру быта, занималась развитием сети клубов, библиотек, музеев. Кому приз?
— Да-да, Надежда Константиновна… Да-да. Приз у меня в сумочке. А сумочка моя — где?
— В прихожей бросила, — буркнул дед.
— Я сейчас, сейчас…
Яна Васильевна засеменила по коридору.
— Вы уж как-нибудь соберитесь, как-нибудь ведите себя. Что же вы себя не ведете-то? — укоризненно сказала Зоя. — И тебя, Иван, заносит. Кстати, где ты научился ругаться?
— А будто ты не умеешь, — отмахнулся Ванька.
— Но это — хлам, Иван. Куча хлама. Проглоти этого чертика и поище в кучку хлама… ну, что? Ну, хотя бы шоколадку, что ли…
— А вот и я! — воскликнула Яна Васильевна. В руках ее была огромная шоколадка «Мишка на Севере» фабрики имени Надежды Константиновны Крупской, жены Ленина Владимира Ильича, по отцу Ульянова, что родом из города Симбирска, там, где катила, катит и будет катить воды мать российских рек Волга.
* * *
Паркет устало, по-стариковски заохал: «Ох-хо-хо-хо-хо». Его накрыли сглуху новыми циновками, и уже неделю он задыхался под ними без своей привычной музыки. Квартира старела быстрее, чем люди. По стене в прихожей поползла дерганной, угловато-нервной змеей гремучая черная щель. Тощий хвостик ее уползал под потолок и прятался там в красных выщербинах облупленных кирпичей, тело расширялось книзу, а голова пряталась под коробками. С каждым днем змея становилась жирнее, темнее, будто питалась чем-то у соседей в нижней квартире. Тело ее, казавшееся издалека выпуклым, при внимательном изучении превращалось в глубокий провал, из которого тянуло ледяным холодом, и, судя по всему, полутораметровая капитальная стена древнего дома начала мощно разрушаться.
— Откуда ты взялась? Кто тебя звал? — спросил Тимоха у змеи, устало снимая мокрые боты. — Приползла, гадюка, зимой… Только этого не хватало.
Мертвая змея дыхнула морозно и жутко, предупреждая теплое человечье прикосновение. Тимоха подержал рядом с ней ладонь, чувствуя, как замерзают пальцы, и угрюмо нахмурился: придется поставить «маячки».
— Это кто такой пришел? — радостно воскликнул Ванька, спеша в прихожую навстречу отцу.
— Это я такой пришел, — улыбнулся Тимоха.
— Какой такой?
— А совсем никакой. Устал, — вздохнул Тимоха. — Ты чего это в девчоночьем платье?
— Это не платье, — обиделся Ванька. — Это ночная рубашка Зоина. Она мне ее подарила. А чего? Теплая…
— Беги в кроватку, я сейчас приду, а то замерзнешь.
— У нас очень холодно, пап. Видишь, какая дыра в стене? А сегодня Зоя и в нашей комнате такую же обнаружила. Ковер подняли, а там трещина, потому и холодно.
— У вас тоже трещина? — растерялся Тимоха.
Ванька радостно кивнул.
— Чему радуешься? Дом рушится, — рассердился отец.
— А не знаю, — пожал плечами Ванька. — Я почему-то люблю, когда опасно. Вот когда гроза, например, или когда ураган. Помнишь, какой у нас дома был ураган? Все деревья повалило! Помнишь, как страшно было?
Ванька сладко зажмурился.
— Может, теперь дом обвалится и мы уедем отсюда наконец-то? Домой…
— Ваня, что ты мелешь? — вздохнул Тимоха. — Куда мы уедем? Где ты будешь учиться? В деревне школы нет.
— Да я могу и не учиться, лишь бы домой, — признался Ванька.
— Иди в постель, у тебя уже ноги посинели, дурья голова.
Тимоха легонько подтолкнул сына в тощие, торчащие, как крылышки, лопатки, и тот, подлетев мотыльком, порхнул вдоль коридора на кухню.
— Я тебе новость скажу, — объявил он, усевшись с ногами в кресло и спрятав острые коленки под фланелевым подолом Зоиной ночнушки. — Мойся, ужин я разогрел, тебя ждал.
— Зоя спит?
— Зубрит.
— А дед?
— Дед уехал.
— Куда? — удивился Тимоха и отбросил в сторону полотенце.
— Велел вызвать врача и отвезти его в госпиталь для ветеранов войны на Народную улицу дом два. Поехал готовиться к бою, витамины колоть.
— К какому бою? — вытаращил глаза Тимоха.
— С властью будет сражаться.
— Позови сестру, — приказал отец.
Ванька взлетел над креслом и в три мгновенья скрылся за дверью.
Голодный после разгрузки двух вагонов Тимоха схватил кусок хлеба и стал жадно жевать.
— Зоя! — крикнул он — Что тут случилось?
Зоя вплыла сонной цаплей на кухню и, поджав длинную ногу, встала у дверей, равнодушно зевая.
— Где дед, я спрашиваю у вас?
— Витаминов захотел. Поехал здоровье укреплять. А что мы могли поделать? Вас дома не было, мама в командировке, а нас он ни во что сегодня не ставил. Он сегодня никого ни во что не ставил.
— Не слушался нас, — кивнул Ванька.
— Ему что, плохо стало?
— Нет, не жаловался. Сказал, что он теперь сам себе командир…
— Он никогда не жалуется. На скорой увезли?
— Врач участковый, Александра Михайловна, вызвала скорую помощь.
— Значит, ему стало плохо, — потерянно обронил Тимоха.
— Да хорошо ему, пап, хорошо. Просто кочевряжится.
Ванька взмахнул широкими, расклешенными рукавами и снова взлетел в кресло.
— Да что ж ты в такой безобразной рубахе ходишь, мужик! — возмутился Тимоха.
— Я не хожу, я сплю в ней, — оправдался Ванька, — К тому же, никто не видит.
— Рубаха китайская, между прочим, — поджала губы Зоя. — А деда я отвозила в госпиталь. Он доволен, пусть полежит.
Ванька, легко подпрыгнув, приземлился на стуле и, притулившись к отцовской спине, обхватил руками коленки.
— Холодно у нас, — пожаловался он.
— Потому что трещины в стене, — назидательно сказала Зоя. — Дом рушится.
— А до утра он не рухнет? — прошептал Ванька.
— Не наводи панику, — сказала Зоя, — Пойдем спать, я включила обогреватель.
— Зоя, а с врачом ты поговорила? — уточнил Тимоха.
— Поговорила, — кивнула Зоя, — Только он со мной особо говорить не стал, велел взрослым прийти.
— Никто с тобой говорить не хочет, — пожалел сестру Ванька.
— Ладно, я завтра поеду, — кивнул Тимоха. — Идите отдыхать.
— Пойдем, Вань. Спокойной ночи, дядя Тима.
— Я посижу с папой, — отмахнулся Ванька, — Мне надо еще кое-что ему сказать…
— Ладно, — согласилась Зоя и ушла.
— Говори, — разрешил Тимоха, разминая вареную картошку в тарелке.
— Еще одна новость имеется…
— Говори.
— Мама приезжает.
Тимоха замер, потом задумчиво постучал стальной ложкой по гулкой тарелке и уточнил:
— Когда?
— Скоро.
— А точней?
— Бабушка не сказала. Может, завтра даже. Я вот все жду, не сплю.
Тимоха отодвинул тарелку в сторону, повернулся к Ваньке и протянул ему руку.
— Иди-ка сюда ко мне, сынок.
Ванька медленно поднялся, вытянулся во весь рост и раскинув ручонки в широких рукавах, взмахнул ими, как птица крыльями и перелетел со стула на колени отцу.
— Платье мягкое, и правда, китайское… Хорошее платье, — тихо сказал Тимоха.
— Зоя подарила, — благодарно улыбнулся Ванька, прижимаясь к отцовской груди. — Только это не платье.
— Хорошее платье, — прошептал Тимоха, гладя грубой рукой сына по голове.
— Ты не переживай, пап, — сказал Ванька. — Она приедет, и все будет так, как будто ничего другого раньше не было. А ничего другого и не было. Ты, да я, да она, дед, бабушка, Зоя, тетя Лида. Вот и все. Приехала бы еще бабуля…
— Ничего другого и не было, — повторил задумчиво отец.
— Я не помню ничего, — сознался Ванька. — А теперь хочу жить так, чтобы помнить.
— Чтобы помнить, — кивнул Тимоха.
— Потому что, если не запоминается, значит, и не было. Зоя говорит, что не бывает провалов в памяти, а бывают провалы во времени. Зоя — такая умная сестра!
— Умная у меня сестра, да…
— Нет, она — моя сестра, а твоя сестра — тетя Лида. Но она тоже умная. Она говорила мне, что время бывает живое и мертвое. Живое — это любимое, а мертвое — без любви. И тогда оно проваливается.
— Она так тебе говорила? — удивился Тимоха.
— Ну… — замялся Ванька, — это она Зое говорила ночью, а я не спал, подслушал… нечаянно…
— Нехорошо подслушивать.
— А зато интересно! Потому что мертвое время — это провал, он нам не нужен, раз без любви, вот мы его и не помним. Помним только живое, когда нас любили и когда мы тоже всех любили.
— Почему же ты ничего не помнишь? — затаил дыхание отец.
— Живое — помню, мертвое — нет, — сказал Ванька. — Но должен помнить все, потому что я всех люблю. А маму — больше всех… Может даже, больше тебя. Мне ее жалко…
Тимоха сглотнул судорожно ком в горле и сжал тонкие плечики сына.
— И еще у меня, пап, другая новость.
— Сколько много у тебя новостей.
— На сегодня — последняя. Это очень серьезно.
— Ну, — насторожился Тимоха.
— Меня окрестить надо, — грустно вздохнул Ванька, — А то Зоя говорит, что один я — нехристь, а все у нас крещеные. У всех есть ангел-хранитель и только у меня нет. Одинокий я…
Тимоха вздрогнул.
— Тетя Лида обещала меня окрестить. Она будет моей крестной. Но я хочу, чтобы все вместе: и ты, и мама, Чтобы праздник был. Можно так?
— Можно, — сказал Тимоха.
Он обнял сына, крепко-крепко прижал его к груди и закрыл глаза.
«Я больше никогда никого не буду жалеть, я больше никогда никого не буду любить! Я зажалел его! Я убил его! Возьми его на ладошки, как птенчика, обогрей, приласкай. Он не может расти без любви. Он погибнет без любви! Ничто в мире не может жить без любви! Ты мой маленький, ты мой хорошенький, птичка моя глупая, мой птенчик!»
Слова бурным вихрем охватили его. Разные слова разных людей: его, Лидины, Олины, мамины, — все вместе они впились в его душу, изнуряя ее своей силой и правдой. Он прижал сильнее сына к груди, чтобы слова не вырвались наружу, чтобы удержать этот мощный поток, потому что не знал в ту минуту, что говорить можно, а что — нельзя.
— Больно, — пискнул, как птенчик, Ванька.
Тимоха вздрогнул и отпрянул от него.
«Я не знаю, как жалеть, не умею! — с отчаянием подумал он.
— Ты меня не жалей, я не маленький, — буркнул Ванька и слез с колен. — Я спать пойду.
Тимоха растерянно развел руки.
— От тебя деревней пахнет, дровами березовыми, — сказал Ванька неуверенно. — Доски грузил, что ли?
— Вагонку, — кивнул отец.
— И много?
— Кубов сто.
— Это сколько вагонов? — сосредоточенно наморщил лоб Ванька.
Тимоха ухмыльнулся.
— Зачем тебе?
— Сколько? Хочу знать, — уперся сын.
— Два.
— Много, — покачал головой Ванька. — Устал, наверное?
— Устал.
Ванька оглядел внимательно длинный, широкий подол своей ночной рубахи и строго глянул на отца.
— Так говоришь, позорная рубаха?
— Безобразная.
— Девчоночья, — согласно кивнул Ванька. — Пожалуй, надо снять. Отдам ее сестре.
— Она ж ей мала. А тебе спать тепло. Носи пока.
— Так ведь я — мужик.
— Рубаха теплая, китайская…
— Значит, можно пока? — вскинул глаза Ванька.
Отец одобрительно кивнул:
— В порядке исключения. Никто ж не видит.
Глава 25
Он торопился. Полночи выгребал остатки строительного мусора, мыл полы, раставлял на книжных полках книги, сворачивал непослушные, пузатые пласты заляпанной краской клеенки. Каждая мелочь напоминала о ней: о клеенку она испачкала брюки, о кусок обоев зацепилась в коридоре и чуть не упала, обрезок доски держала в руках, внимательно изучая рисунок среза сучка, повторяя причудливые изгибы жизни погубленного дерева плавным движением мизинца.
Вадим присел на корточки, провел пальцем по темному родимому пятнышку на гладком, розовом теле доски и решительно спрятал обрезок на антресоль — пусть будет в доме.
Потом принялся за кухню, стал мыть посуду. Она пила кофе из старой, треснутой кружки и оставила два глотка на донышке. Он допил их, радуясь тягучей сладости, будто это был с трудом собранный цветочный нектар, помыл кружку и зачем-то поставил ее на середину стола.
Она оставила в ванной свою расческу. Он освободил для неожиданно найденного сокровища всю полку, скидав в мусорное ведро месяцами копившиеся бритвенные станки, неоконченные тюбики зубной пасты и кусочки мыла. На полке теперь лежала только одна расческа, а сбоку притулился стаканчик с зубными щетками и толстым тюбиком зубной пасты. Подумав, он выбросил и щетки, и стаканчик, и тюбик, решив купить две новых. Теперь на полке лежала только расческа. На столе стояла ее кружка, а на антресоли лежал обрезок доски, который она погладила. Остальное, все, к чему она не прикоснулась, он готов был выбросить на помойку. Для начала — мусор, потом, потихоньку и все другие вещи, включая мебель, все, что жило здесь до нее, что дышало чужим, неуютным, враждебным для них двоих прошлым.
Он вышел на улицу. Раннее зимнее утро по-весеннему трезвонило синичьими песнями. На самой верхней ветке клена он разглядел двух птичек. Солнце, низкое, но яркое, игралось с робкими полупрозрачными тенями, и синички, прыгая и перелетая с ветки на ветку, раскачивали их, отчего тени трепетали, переливались и смешивались и друг с другом, и с живыми, тонкими ветками. Он раньше никогда не замечал мелких синичек и не слышал их…
В полупустом магазине Вадим набрал продуктов, затем поехал в аптеку, купил зубную пасту, две красивые, самые дорогие щетки — одну синюю, другую — розовую и долго потом стоял возле витрины с детскими бутылочками и сосками, пытаясь поймать себя на какой-то ускользающей, скромной и стеснительной мысли. Но мысль была слишком изворотлива, а пустышки Лиде были не нужны. Поэтому он вышел из аптеки и направился к Толику в бар. Толик теперь заправлял баром.
— Как ваше ничего? — буркнул Толик недовольно вместо приветствия, не отрывая глаз от бумаг.
— Ничего, — кивнул Вадим. — А ты толстеешь.
Толик поднял крупную круглую голову и потер пухлой ладонью раздувшуюся от сытой жизни щеку.
— Растолстеешь тут. Работы невпроворот, а готовят вкусно.
— Бегать надо.
— Месяц на стуле сижу, — пожаловался Толик.
— Заматерел. Надо тебе на недельку в охрану или швейцаром.
— Стриптизером! — язвительно предложил Толик.
— Засиделся ты в начальниках, — подколол Вадим.
— А ты, говорят, в подчиненных. Засиделся или залежался? — спросил Толик и заржал.
— Не понял? — воинственно переспросил Вадим.
— Ладно, ладно, знаем мы про твои шалости. Дело молодое.
Вадим зло глянул на него:
— Не понял? — сурово повторил он.
— Да кто ж против? Отдых делу не помеха. С бумагами разобрались?
— Да, — коротко ответил Вадим.
— На суд иди с ней. Проконтролируй. Адвокаты — народ ушлый: сегодня с вами, завтра — с нами, послезавтра – с ними. Тем более что у нее нюх, как у волка, а я платить ей не собираюсь. Боюсь, что она это поняла. По глазам вижу. Вильнет.
— Как это — не собираешься? — удивился Вадим.
— А где я денег возьму? — округлил глаза Толик. — И к тому же — за что? Она что-то сделала?
Вадим тяжело замолчал.
— Может, еще и суд проиграем. На законе далеко не уедешь, а судья — голышок.
— Голышок?..
— Голенький. Мальчик пустой.
— Там мужик лет под сорок.
— Три года судьей, молодой. И голенький. Костюмчик зелененький, цвета бакса мы ему не приобрели по вине нашей Плевако. Слушаемся эту Плеваку, а зря. Вот помяни мое слово, костюмчик голышку ответчик припас.
— Не знаю… — тяжело вздохнул Вадим.
— Ну так ты едешь туда?
— Как скажут.
— Как я скажу, или как она скажет? — уточнил напряженно Толик.
— Как она.
— Тогда, брат, я скажу, что дело — крах. Ты уже не слышишь меня? Скоро и замечать перестанешь?
— Успокойся. Я все делаю для дела.
— Угу, — кивнул Толик. — Цыплят по осени считают.
— Придет и осень, — кивнул Вадим. — А насчет оплаты — не крысь.
— Жалеешь ее? Что это ты такой жалостливый стал?
— Нежный стал, старею…
— Ну так займись меценатством, спонсируй нищих и бомжей. Вон их сколько развелось. Ты корми, а я не буду. У меня, Вадик, у самого семеро по лавкам, и все с разинутыми ртами. Нету денег, Вадя, нету!
— Медведь еще не убит, а ты уже делишь шкуру.
— Я только предупредил.
— Это нечестно.
— Ха! — воскликнул Толик, — Какая тут честь? Какая в наше время может быть честь? Ты мне еще про совесть напомни, а также про ум нашей эпохи. Теперь, Вадик, деньги — это ум, честь и совесть нашей эпохи. Причем — свои деньги, а не чужие. А все, чему нас в школе учили, я забыл. В Чечне память отшибло за пару боев.
— Ладно, — сжав зубы, произнес Вадим. — Потом поговорим.
— Я тебе свою карту раскрыл. Теперь ты давай свою. У тебя с ней что, любовь?
— Это к делу не относится.
— К делу это как раз относится. Если у вас шуры-муры, то мне придется платить, потому что ты уже сейчас зубами скрипишь, а потом кулаки зачешутся. Нам с тобой ссориться ни к чему, мы в одной подводной лодке.
— Договор дороже денег.
— Она как-то плохо на тебя влияет, Вадя. Ты с ней поосторожней! Договор не может быть дороже денег. Дороже денег могут быть только большие деньги. Дороже больших денег могут быть только очень большие деньги. Их нам с тобой не заработать, не надо было время в Чечне тратить, когда все хватали.
— Ты заключил с ней договор, — уперся Вадим.
— Ну и что? Пусть он будет. Она любит бумажки.
— Ты заключил с ней договор, — повторил Вадим.
— Ты хочешь сказать, что она потом обратится с ним в суд?
— Можно и так.
— Можно. Только если осторожно. Ты ей объясни при случае, что такое жизнь.
— Тогда я сам взыщу, — резко сказал Вадим и посмотрел в глаза Толику.
— Через суд? — изумился Толик.
— Зачем? Ты же узнал за пару боев, что такое жизнь. Я тоже это знаю.
— Ты мне угрожаешь? Из-за какой-то заучки-недотепы?!
— Она смелая женщина, а ты шакал. И я тебя, шакала, предупредил. Взыщу. Это — моя карта.
— Понятно, — пробасил Толик. — Шуры-муры, а деньги пополам. Неплохо ты пристроился. Просто клево попал на «TV»!
Он откинулся на стуле, выставив округлившийся живот и широко расставив крепкие, напряженные ляжки.
— Завидую…
— Не завидуй. И не мешай ей работать. Дело и так хитрое. Впереди — враг, а позади свои поджимают. Знакомо тебе это? Бывало?
Толик брезгливо скривил губы.
— Нет, не бывало.
— Вот и плохо. Не всему нас там научили. А раньше-то бывало! Винтовку в руки, Толик, и — на танки!
Вадим вскочил со стула.
— А позади — батальон СМЕРШ, свои! С пулеметом! И им пострелять охота. Крови, знаешь, как бывает охота? А? Ты знаешь! И между ними — у штрафника — никакого шанса. Ни единого! Потому что судьба его – кровью искупить вину!
Вадим наклонился к Толику:
— В чем ее-то вина? И перед кем? Какая — у бабы — вина? В том, что ты, кабан из батальона СМЕРШ, крови захотел? Так те за идею отстреливали своих же подранков, ты — за что? За бабло. Не за свое, а за чужое! Бухгалтер-эконом. Толик дрыгнул на стуле, пытаясь положить ногу на ногу, но толстая нога соскользнула и глухо брякнулась об пол.
— Твою мать… — прошипел Толик.
* * *
В консультации царил хаос. Все не было перевернуто вверх ногами, но все было повалено на бок. Два огромных и тяжелых, как бегемоты, стола, невыносимые из-за узких дверей, лежали по сторонам, оттопырив тонкие, несгибаемые ножки, как пьяная стража. К кабинкам не было возможности пробраться из-за обилия старых, драных стульев. Новые, васильковые, чужеродные, будто спрыгнувшие с обложки делового журнала и выросшие на глазах, гордо выставив дорогие спинки, оттеснили и деморализовали старую, привычную для всех драную мебель.
— Что происходит? — оторопело спрашивал каждый входящий в консультацию адвокат.
— Передел собственности! Мы ее переделываем! — важно отвечала праздничная Марьянка. — Старое не может жить по-новому, а новое не хочет жить со старым. Революция!
— Кто девочку научил такому? — возмущенно покачал головой адвокат Илья Олегович.
— Башечкин! — гордо ответила Марьянка. — Он еще велел передать всем, что любая революция не обходится без жертв. Так что жертвуйте. По тысяче рублей хватит.
— На что?! — хором взвыли адвокаты.
— На боеприпасы! На что ж еще? Не на шубу же мне! — возмутилась Марьянка. — Мы еще и стены будем красить.
— Красным или оранжевым? — спросила Лида.
— Персиковым. Нежным таким. Почти что цвета лосося.
— Персиковой революции еще не было, — согласно кивнул Илья Олегович. — Бархатная была, оранжевая была, а нежной не было, персиковой. Это тоже Башечкин посоветовал?
— Не без него, — уклончиво ответила Марьянка.
— Тогда пусть этот серый кардинал и платит, — подвела итог Лида. — А мы, народные массы, можно сказать, жертвы всякой революции, и так разорены взносами.
— Лидия Павловна! — возмутилась Марьянка. — У вас задолженность по взносам за прошлый месяц.
— Ничего не знаю, — буркнула Лида.
— Тогда я при всем моем уважении, вывешу на доску объявлений списки героев. Вы их будете возглавлять, — пригрозила Марьянка.
— Почему это? — возмутилась Лида. — Не за два же месяца задолженность. У некоторых, я знаю, и за три…
— Потому что у вас фамилия на «Б», а на «А» у нас должников нет. А Афанасьев, если вы хотите что-то сказать, отчислен. Да, и Алексеев тоже.
— В следующий раз, Бушуева, бери фамилию Яковлева, — посоветовал Илья Олегович.
Лида, собравшаяся было отшутиться, замолчала и сосредоточенно уткнулась в свои бумаги.
— У меня даже есть один Яковлев на примете. Бывший подводник. А, Лид? — завелся Илья Олегович.
— Не! — отрезала вдруг Марьянка. — Тем более — бывший. Лидия Павловна, зачем он вам? Может, его по состоянию здоровья списали. Эти атомные лодки — такая беда. Они так влияют на потенцию!
Она сокрушенно покачала головой.
— Это невыносимо, — прошептал Илья Олегович. — Девочка идет вперед семимильными шагами. Тоже Башечкин научил? — повысил он голос.
— Жизнь научила, — вздохнула Марьянка. — Сдавайте по тысяче, не отвлекайтесь, а то заведующему пожалуюсь.
Лида недовольно раскрыла сумочку и достала кошелек.
В этот момент дверь открылась и на пороге консультации возникла Аллочка, бледная как тень, растрепанная, с заплаканными глазами. Она тихо поздоровалась, проскользнула мимо всех и села ровненько на новый стул в уголок, поставив на коленки портфель и аккуратно сложив на него ручки, как будто пришла на вокзал.
— Что случилось? — насторожилась Лида, — протягивая Марьянке злополучную тысячу.
— Ничего, — едва слышно проронила Аллочка, сдерживая слезы.
— Процесс проиграла? Ерунда! — бодро похлопал по плечику Аллочку Илья Олегович, — У тебя еще этих процессов! Нервов не хватит!
— Не хватит… — как эхо повторила Аллочка. — Меня цыгане обокрали.
— Как?! — ахнули все.
— И сколько?
— Где?
— Когда?
Аллочка достала пудреницу, припудрила носик и пригладила пальцем взлохмаченные бровки, предварительно послюнявив его.
— Я не знаю, куда милиция смотрит, что законодательное собрание делает? Бомжи под ногами лежат, как трупы, цыгане толпами бегают. У них документов нет, а они бегают. Приличных людей забирают, а эти бегают.
— Сумочку выхватили? — предположила Лида.
— У меня выхватишь! Пусть бы попробовали! — пригрозила Аллочка. — Сама отдала. Еще и клок волос выдрали.
Аллочка почесала светлый висок и из ее больших глаз покатились слезы.
— Дралась? — уточнил Илья Олегович.
— Я слишком хорошо воспитанная девушка, чтобы драться на улице, — возмутилась Аллочка. — Я ей сама разрешила выдрать.
Лида с Ильей Олеговичем переглянулись.
— А давайте, я чайку поставлю, — растерянно предложила Марьянка. — Вот и тортик есть. Башечкин принес.
— Ставь, — кивнула Лида. — Рассказывай, Алла.
Аллочка послушно вытерла слезы, села поудобнее и стала излагать подробно и обстоятельно, без эмоций и лирики, словно в прениях на суде, отстраненно, как о посторонней.
Оказалось, что цыганка пристала к ней на автобусной остановке, сказала, что Аллочкин муж гуляет и обещала доложить, с кем, посоветовать, что делать и как избежать разрушения семьи. Для этого Аллочка позволила ей выдрать пучок волос, потом цыганка обмотала этими волосами пятьсот рублей, положила их на Аллочкину ладонь и обещала вернуть, чтобы Аллочка потратила их на покупку приворотных и отворотных продуктов. Потом она обмотала еще пятьсот, а больше у Аллочки не было, и поэтому цыганка велела достать из портфеля другие деньги, казенные. Аллочка очень удивилась, откуда цыганка знает о казенных деньгах, которые Аллочка должна была сегодня отвезти в агентство недвижмости, но неожиданным образом деньги из портфеля, минуя толщину папки и тонкие стенки заклеенного и опечатанного конверта, тоже оказались запутанными в волосах. Пачка была слишком толстой, и волос не хватило, поэтому цыганка вцепилась в Аллочкин хвост и пока та изумлялась внезапно возникшей боли, закрутила пачку волосами, приговаривая, что вместе с этими деньгами Аллочка должна была отдать сегодня нехорошим людям все свое счастье, свою любовь, семью и будущих детей. Аллочка с ужасом глядя на деньги, замечала, как пачка тает на глазах, как растворяется на ее ладони страшное зло, которое могло случиться, которое она не должна была допустить. Потом пачка выросла снова, и цыганка сказало, что теперь это совсем другие деньги, что ничего они, эти плохие люди от нее, от Аллочки, не получат. Она заставила Аллочку положить расколдованные деньги в портфель и подарить ей за помощь всего-навсего одну золотую сережку, а вторую оставить на память о сегодняшнем дне, потому что с этого дня Аллочка будет самой счастливой на свете женщиной. Но если не жалко, то две сережки, ведь муж ей готовит к юбилею свадьбы в подарок новые, с бриллиантами.
Лида глянула на Аллочкины ушки с сиротливо пустыми точками на мочках и велела открыть портфель.
— Чего его открывать, — вздохнула горько Аллочка. — Там пачка рекламок. Даже без волос.
— А волосы где? — глупо спросила Лида.
— Она дунула, и они улетели, — тихо сказала Аллочка, прямо смотря перед собой равнодушными глазами.
— Нет, покажи, покажи, — настойчиво попросил Илья Олегович.
Аллочка медленно открыла портфель и вытряхнула из него на пол все содержимое. Серые рекламки веером разлетелись у ее ног, словно карты, брошенные тренированной рукой фокусника.
— И сколько? — уточнила Лида.
— Тридцать, — вздохнула Аллочка.
— Тысяч рублей? — спросил Илья Олегович.
Аллочка угрюмо кивнула.
— Я еще купила мужу часы. У нас действительно завтра юбилей свадьбы — три года. Стихи написала, хотела гравировку заказать: «Любимый мой, бесценный мой, все время я с тобой».
Она печально подняла глаза на Илью Олеговича.
— Красиво, правда?
— Ну что ж… Хорошие стихи, — кивнул Илья Олегович и полез во внутренний карман за бумажником. — По тысяче собирать будем или больше? — деловито спросил он Лиду.
Лида тоже достала кошелек и печально посмотрела на деньги:
— У меня только семьсот. Марьяна, отдай тысячу Алле, а я тебе завтра сдам. И взносы две тысячи принесу.
— Начинается! — зашипела Марьянка, разрезая торт. — То потеряют, то забудут, то украдут у них, а теперь сами поладили отдавать. Совсем уже офонарели!
— Марьяна! — строго повысила голос Лида.
— Сейчас! Погодите! — отмахнулась Марьянка, — Дам! Куда от вас денешься! Не успеваю списки писать и клянчить. Что я вам — доярка? А теперь еще праздники на носу. А ремонт? Котофеич всю кровь выпил! А потом злитесь, что я — крайняя…
— Марьяна! Что делать? — философски изрек Илья Олегович. — Случай редкий, неординарный, мы должны поддержать товарища. Это наша общая беда. Собирай со всех, кто сколько даст.
— Нет-нет, не надо, — запротестовала Аллочка. — Перестаньте…
— Аллочка, сидите тихо! — велела Марьянка.
— Я сама выпутаюсь. Я ж работаю, муж работает. Нет, я ему не скажу. Продам что-нибудь.
— Что тебе продавать? Никто у тебя ничего не купит. В магазинах нового полно. Продашь за копейки, а потом не собраться будет. Не упрямься, — сказала Лида.
— Если у меня вдруг украдут машину, отдашь деньги назад. Вот и все, — сказал Илья Олегович.
— А у вас украдут, — согласно кивнула Марьянка. — Вы где ее бросаете всегда? У Воробьева украли и у вас украдут.
— У Юры машину украли?! — ужаснулся Илья Олегович.
— Конечно. А чего не взять, если двери нараспашку, — занудно произнесла Марьянка, подкалывая к чистому листу бумаги две тысячные банкноты и выводя ровным почерком посередине: «АЛЛОЧКЕ НА ЦЫГАНКУ».
— А когда украли? — распереживался Илья Олегович.
— На той неделе. Он уже новую купил. «Оку».
— Ну, тогда не нужно собирать, — успокоился Илья Олегович. — «Оку» не украдут.
— Украдут, — вздохнула Марьянка, — У вас все украдут, потому что — безголовые. Не помните ничего.
— Марьяна, в третий раз! — угрожающе повысила голос Лида, весело при этом улыбаясь.
— Все равно безголовые. Сколько раз говорила, что на шкафу четыре зонтика лежат. Дождь льет, ходят мокрые, а зонтики лежат. Причем два владельца вычислены. Думаете, заберут? Нет…
Марьянка завелась. Лида быстро попила чай, мельком прислушиваясь к Марьянкиным занудным словам и заторопилась.
— У меня с Зоей сегодня встреча. По магазинам вытащила меня пройтись. Как не хочу!
— Хочешь, не хочешь, а ребенка надо одевать, — изрекла Марьянка.
— Вот и тут ее спросили! — возмутилась с улыбкой Лида, потому что Марьянка была всего лет на семь старше Зои.
— Я позвоню тебе вечером? — горестно простонала вслед Аллочка.
— Насчет курят?
— Насчет всего. А курята сдохли.
— Какая радость! — не удержалась Лида, — Извини, конечно. Я побегу.
— Бегите, бегите, — разрешила Марьянка. — Радость ваша недолгая. Она завтра новых купит. Штук тридцать, на все, которые я соберу. Да, Алла?
Аллочка терпеливо промолчала.
* * *
На улице была солнечная, предвесенняя слякоть. Вернее, полусолнечная. Редкие, шустрые облака, пролетая, заслоняли собой солнце, и поэтому начало улицы было пасмурным, а конец — светлым и ярким. Когда солнечный свет проливался на Лиду, она радостно жмурилась и не смотрела туда, где ее уже поджидали мрачные, нахмуренные дома. Когда становилось пасмурно — смотрела, и потому, ловя солнечный свет, играя с ним в догонялки, она прошла все начало Невского до Казанского собора. Можно было бы сесть на маршрутку, но проспект был запружен машинами. Он задыхался от неподвижности, и Лида старалась не смотреть на эти жуткие предродовые потуги, бесполезные, безрезультатные потуги главного проспекта города, стремящегося освободиться от измучившего его железа. Бесполезные потому, что на следующий день муки повторятся снова.
Возле Казанского собора неожиданно для себя Лида повернула направо и, удивляясь этому решению, посмотрела на часы. До встречи с Зойкой оставалось минут сорок, и она могла опоздать. Зоя была терпеливой, она уже месяц мечтала вытащить мать в поход по магазинам, а Лида была слишком обязательной и не любила опаздывать. Несмотря на это, ноги сами несли ее к входу в собор.
Лида накинула на голову шелковый платок, и, перекрестившись, открыла тяжелую, плавную дверь.
В соборе было пустынно. Даже к иконе Казанской Божьей матери не было привычной длинной очереди. Лида подошла к церковному ларьку, прочитала все объявления и спросила у женщины, продававшей свечи, как окрестить ребенка. Женщина подробно все объяснила ей, Лида купила свечу и поспешила к иконе.
Постояла поодаль, не решаясь подойти. Слишком много накопилось в душе такого, что не пускало приблизиться к святыне. Лида подошла к ступенькам, возле которых на постаменте был помещен текст молитвы, и принялась читать полушепотом, изредка робко поднимая глаза на Богоматерь. Она вдруг поймала себя на том, что читает молитву автоматически, правильно произнося непривычные слова, и при этом разглядывая старославянский шрифт, останавливаясь то на причудливом узоре буквы, то на загадочном, непонятном слове. Стала читать сначала и — опять то же самое.
Л ида напряженно притихла. Потупив взор, она поняла, что не может подойти к иконе. Богородица смотрела на нее строго.
«Почему?»— удивилась Лида, вспомнив, как тянулись ей навстречу, как звали и ждали ее иконы Воскресенского храма.
— Вы можете подойти и поставить свечу, — услышала она за спиной.
Оглянулась, испуганно вздрогнув, и увидела молодого, доброжелательного батюшку.
— Идите, идите. Я смотрю, вы не решаетесь.
— Не могу, — призналась Лида.
— Не знаете, что просить или слишком тяжела просьба? Поставьте в благодарность и не просите ничего.
— Я ничего не прошу. Но не могу подойти.
— Прочитайте молитву, — посоветовал батюшка.
— Не могу молитвы до конца прочитать. Она ускользает от меня, — прошептала Лида.
— Вы думаете о другом, торопитесь. Не молитвенное у вас сейчас состояние. Когда последний раз причащались?
— Я ни разу не причащалась…
— Не крещеная?
— Крещеная.
— Значит, причащалась один раз при крещении. Великоват перерыв у вас, великоват… — покачал головой батюшка.
Лицо его стало напряженным, взгляд прохладным, и Лида увидела вдруг, что батюшка немолодой, не двадцатипятилетний, как ей показалось в первый миг, что ему уже не меньше пятидесяти. За три минуты разговора с ней он постарел на тридцать лет.
— Не исповедовались? — тихо спросил он.
— Я не знаю, как это делать.
— И не поститесь, — кивнул утвердительно батюшка.
— Специально — нет.
— Великий пост тоже не соблюдаете?
— Нет, не соблюдаю.
— В церковь ходите?
— Редко. Свечку поставить… — призналась Лида.
— Замужем?
— Разведена.
— В блуду живете, - кивнул батюшка.
— В блуду…
— Вы — не христианка, — резко сказал батюшка и сделал шаг в сторону, закончив разговор.
— Как это? — воскликнула Лида — Постойте! Нет, я христианка! Я крещеная, у нас все в роду крещеные, верующие люди! Я тоже верую… Не говорите так…
— Как я должен говорить? — спросил батюшка. — Как зовут вас?
— Лидия. А вас?
— Отец Феоктист.
— Быть крещеным человеком, Лидия, не значит быть истинным христианином. Вот она — христианка. Видите?
Он указал на женщину, стоящую поодаль и спокойно взирающую на икону. Лида окинула женщину взглядом, и на душе у нее стало тепло. Женщина излучала тихое, светлое достоинство.
— Откуда вы знаете?
— Вижу.
— Потому что она так одета и так себя ведет? А если я не могу, не имею права так одеваться, если, согласно должностных обязанностей, я должна вести себя по-другому? Там, в жизни…
Она махнула рукой в сторону дверей.
— Протестуете? — улыбнулся батюшка.
— Я выяснить хочу для себя. Так трудно дается каждый день, что волей-неволей начинаешь искать причину. Я не могу ее найти.
— Причина — внутри вас.
— Я знаю это. Но не знаю — какая. Я уже давно не вижу себя, не слышу, не чувствую. Мне хорошо понятны только другие люди. Я чувствую их боль, живу их жизнями, преодолеваю их проблемы, а сама тону… Меня уже как будто нет. Есть только обязанное всем существо, которое ходит, пишет, говорит, думает и решает за других. Для себя я ничего не могу делать и даже уже не хочу. Будто права не имею.
— Это неверно. Вы кто по профессии?
— Адвокат, — сказала Лида и пытливо заглянула в глаза отцу Феоктисту.
Батюшка сочувственно закивал головой, и Лиде показалось, что больше он не хочет с ней разговаривать.
— Значит, вы хорошо знаете законы?
Лида напряглась, внутренне готовясь дать ему юридическую консультацию по какому-нибудь жилищному вопросу прямо здесь, возле Казанской иконы.
— Неплохо.
— Но вы знаете людские законы, а не Божьи. Людские законы иногда совпадают с Божьими, но редко. Вы находите выходы и решаете проблемы там, — он махнул рукой в сторону дверей. Вы разбираетесь в ситуации и знаете, какую норму права и когда применить. Вы знаете, как изложить просительную часть в исковом заявлении, чтобы решение суда могло опереться на закон и пресечь несправедливость, уничтожить зло. Так?
— Так, — кивнула Лида.
— Божьи законы вы не умеете применять. Вы их не знаете. Если бы вы их знали, то легко бы решили свои проблемы.
Отец Феоктист легонько дотронулся рукой до ее плеча, чуть отталкивая ее от себя.
— Вы и мир вокруг вас равновелики и равноценны. Но для самой себя вы — больше, чем окружающий вас мир. И знаете, почему?
Отец Феоктист наклонился к ней и, понизив голос, доверительно сказал:
— Сообщу вам по секрету, Лидия, что вы от мира можете не зависеть. Вы можете говорить то, что считаете нужным, а не то, что от вас хотят услышать, одеваться так, как вам велит душа, а не мода. Можете, если научитесь верно применять нормы законов Божьих. Мир слабее вас. Он сразу к вам подстроится. Мир боится Божьей силы и не спорит с ней. Он ее ждет и повинуется ей. Вы можете все, если это для вас будет жизненно необходимо, потому что вы — Бог!
— Я — Бог?! Лида отшатнулась от батюшки. Глаза ее забегали беспомощно и возмущенно.
— Да, — просто сказал отец Феоктист. — «Я есть Бог»— это первая заповедь Христа. Эти его слова — не о себе. Он и без того ведал, что Он — Бог. Это — наши слова. Если читать вслух, то получится, что мы говорим о себе. Кто такой — я?
— Это… я…
— Это вы, — кивнул батюшка. И вы есть Бог. Вам столько же много дано, сколько имеет Он. Господь мог в одно мгновение сотворить из камня хлеб. Вы тоже можете это сделать.
— Я — нет…
— Можете. Если захотите. Если будет необходимость, вы раздробите камни, разработаете почву, посеете зерно, вырастите урожай, соберете его, обмолотите, смелете, замесите тесто и испечете хлеба. Так? Но это — человеческий путь. Вот почему в этом пути нужны людские законы. Чтобы вам не мешали исполнять Божий замысел.
— Да, я могу… — по-детски радостно улыбнулась Лида.
— А исцелить больного?
— Если лечить… Могу.
— А сдвинуть гору?
— Я-то не могу, но человек может, в принципе…
— И так во всем. Только путь долог. Для преодоления этого пути нам дано сильное, мудрое тело, терпеливое, способное самовосстанавливаться, здоровье, силы, мир вокруг. Да, тяжело! Но мы пришли сюда трудиться, а не ублажать себя. Тело изнывает и разрушается от безделья. Так же и с душой. Почему вы этого не видите, не слышите, не чувствуете?
— Я вижу…
— Потому что вас этому не научили с детства, не вложили в вас это, вот и приходится до всего доходить самой.
— Отец пытался…
— А вы отторгали. Вы были активной комсомолкой и боролись с верой отца. Вы сознательно избрали превосходство законов людских над законами Божьими, стали поклоняться этим законам и теперь вам плохо, потому что вы видите, что они не могут быть незыблемыми. Вы не успеваете подстраиваться под них. Вы разрушили в себе веру в людские законы, а без веры вам тяжело жить.
— Да… И я не хочу подстраиваться… Я хочу исповедоваться. Я никому ничего не рассказываю, а только слушаю чужие тайны. Они накопились во мне… Невыносимо накопились!
— Профессия накладывает отпечаток. Это неплохой отпечаток, — одобрил отец Феоктист. — Но вы, Лидия, должны перестроить свою жизнь, иначе это переполнение приведет вас к трагедии. А ведь впереди — жизнь вечная. Мы недолгие гости на этой планете, и нам с вами скоро улетать.
— Скоро?
— Очень скоро. Может быть, завтра, может быть через сорок лет. Разницы нет никакой. Это — очень скоро. С чем вы вернетесь? С судебными решениями по чужим искам? У вас есть дети?
— Дочка. И мальчик… Ваня.
— Сын?
— Не сын, но это мой ребенок. Ваня.
— А муж?
— Он с нами не живет.
— Нужно его вернуть. Семью надо беречь.
—Многие не смогли пережить девяностые годы. Перестроились… Нет, теперь не будет семьи.
— В вас есть огромная сила, но она направлена не в то русло. Вы не уважаете себя. Вы потеряли свое достоинство и потерялись сами. И мир потерял вас! Но он не смирится с этой потерей! Вы не знаете, как применять оружие, которое дано вам в неограниченном количестве для борьбы со злом. У вас столько оружия, сколько нет у все вместе взятых прихожан нашего собора. Вы не знаете об этом, но вы должны об этом знать. Знайте! Никто вам не поможет, кроме себя самой и Господа. А Он сейчас говорит с вами моими словами здесь, возле иконы, которая не раз спасала Русь Святую. Это не я с вами говорю. Так почему вы глухи? Да потому что слишком далеки от Бога. Каждому крест дается по силам. Но крест свой нужно нести с радостью, с честью, достойно. Так, чтобы все темные силы разбегались во все стороны, завидев вас издалека. А вы ползете под ним, как издыхающая змея. Вы недовольны, вы мучаетесь, вы обижены на себя, на людей, на весь мир.
— Немного иногда, да, обижена, — кивнула Лида.
— Крест будет легким, если вы станете радостно прощать.
Он благословил ее, положив легкую руку на голову и, медленно поднявшись по ступенькам, подошел к иконе.
Глава 27
Зоя торжественно и осторожно несла пакет с коробкой, как будто в коробке сидела живая кошка или, на худой конец, морская свинка. На самом деле там были новые босоножки на тонком, классическом каблучке с блестящим переплетом в виде тропической острокрылой бабочки. Зоино лицо сияло, блаженная полуулыбка закрепилась на ее губах, будто не собиралась сходить никогда.
Лида шла рядом, косясь на дочку, улыбалась, как ее отражение в зеркале, и гордилась своей внезапно возникшей кротостью. Чего ей стоило пережить бесконечные примерки в невыносимо-перламутровых, ледово-зеркальных магазинах, в окружении дежурно вежливых и предупредительных продавщиц. Как ей хотелось поторопить Зойку и даже побубнить на нее за излишнюю медлительность, придирчивость и разборчивость. Но она вытерпела это все, понимая, что Зойка блаженствует, отхватив пару часов материнского внимания и заботы. Она не стала мешать этому блаженству, побоялась притронуться к нежной, беззащитной, ранимой радости не то что словом, а даже быстрым взглядом на часы.
— Какой хороший магазин! — восхищалась Зойка. — Мы никогда раньше не были в этом районе города!
— Были, — возразила Лида.
— Когда? — удивилась дочь.
— Когда ты еще не родилась. Мое общежитие — вон на той улице. А за углом была очень хорошая булочная, я постоянно бегала туда за вкусняшками. Очень хотелось булочек, конфет. Потому ты и родилась толстушкой.
— А ты хотела меня родить? — спросила вдруг Зойка.
— Почему ты спрашиваешь? — удивилась Лида.
— Ты не хотела сделать аборт?
Лида напряглась.
— Почему ты спрашиваешь? — глупо повторила она.
— Как-то тяжко живется. Может, я случайная? Может, вы меня не хотели?
— Какие глупости! — возмутилась Лида. — Я каждый день считала до того мгновения, когда можно будет забеременеть, чтобы до родов успеть защитить диплом. Я ведь и госэкзамены благодаря тебе шутя сдала. С таким животом пришла, что они побоялись меня расстраивать. А на распределение поехала на седьмом месяце. Уж если бы не хотела так, то подождала бы годик, чтобы не устраивать себе лишних проблем. Хотела… Очень хотела. Правда, я думала, что родится мальчик.
— Я знаю, что ты больше любишь мальчиков.
— Но все равно ты — желанный ребенок. А сейчас мне кажется, что все в этом мире уже прописано заранее. Как хорошо, что ты — девочка.
— Как жаль, что вы не родили мне брата. Может, сейчас все было бы по-другому.
— Мальчиков родишь ты. А я буду самой хорошей бабушкой. Буду каждый день печь пироги.
— Вы с отцом любили тогда друг друга? — прервала ее Зойка.
— Любили.
— А куда ж делась ваша любовь?
— Никуда не делась. Живет. Она заболела, болеет сейчас сильно.
— А выздоровеет?
— Нет, наверное. Слишком серьезным было ранение. Останется калекой. Но не умрет. Любовь не умирает, продолжается в Зойках.
Они свернули за угол, и Лида обомлела:
— Зоя! Вот она! Булочная!
— Что такое? — испугалась Зойка.
— Она до сих пор — булочная! — воскликнула Лида. — И буквы те же самые, только поржавели. Давай зайдем!
В старой булочной за пятнадцать лет ничего не изменилось. Даже ассортимент.
— Медальки! Шоколадные медальки! Горошек цветной! Боже мой! — ахала Лида, удивляя и настораживая продавщиц. — Слоечка! Плюшка!
Зоя ходила за ней следом и снисходительно улыбалась.
— Сейчас я накуплю всего! Ты сегодня будешь лакомиться тем же, чем я пятнадцать лет назад! — радостно воскликнула Лида.
Зоино лицо светилось. Лида поняла, что дочка была рада не своей радости, а радости матери. Она смотрела на Лиду как на маленького ребенка, и взгляд ее был любящим и всепрощающим.
Они накупили огромный пухлый пакет разных вкусняшек и, весело тараторя, спустились в метро.
— Мне — направо, тебе — налево, — вздохнула Лида, передавая Зойке пакет. Зоя повторила ее вздох еще более печально, улыбка исчезла с ее губ, как следы помады от беспощадной, грубой салфетки.
— Что делать… — пожала она плечами.
— Если суд не пойдет, я вернусь рано. Если пойдет — то до победного.
— У тебя предварительное слушание?
— Нет, по существу.
— А… Ну, тогда пойдет, — разочарованно протянула Зоя.
— Не факт. Может, и не пойдет. Деда сегодня дядя Тима должен был навестить, завтра — ваша с Ванькой очередь, не забыла?
— Угу, — кивнула Зоя.
— Вот тебе еще двести рублей, купи блестящую новую заколку к босоножкам.
— Я хочу вместе с тобой выбирать.
Лида знала, что не будет помощницей дочке в выборе заколки, что Зойке нужно только ее присутствие рядом. Дочка устала от одиночества.
— Тогда давай завтра. Специально пойдем. Только ради заколки. Хорошо?
— Да! — по-детски послушно кивнула Зоя. — Я сейчас присмотрюсь, но покупать не буду. Завтра пойдем.
— И зайди к Яне Васильевне. Если она пойдет навестить деда, то передай ему с ней гостинцев.
Она кивнула на пакет.
— Ну, все задания получила?
Зоя печально кивнула.
— Сегодня вечером приедет тетя Оля, ты проконтролируй Ваньку. Будь с ним рядом. Я не знаю, какая у него будет первая реакция. Даже не могу предположить.
— На шею к ней он не бросится, — уверенно сказала Оля.
— Дядя Тима сегодня в ночь в котельной, — сказала Лида задумчиво. — Если что, звони Маринке… Хотя нет, ей не звони, у нее Петрович. Нельзя ее нервировать.
— А зачем мне звонить Маринке? — насторожилась Зоя. — А ты где будешь, мам?
Лида запнулась, уставилась на дочку и быстро замигала.
— Я дома буду… Где мне еще быть? — сказала она. — Даже не знаю, почему я так сказала…
— Может, ты к дяде Мише хотела поехать? — подсказала ей Зоя.
— Нет, не хотела, — пожала плечами Лида. — Никуда не хотела ехать… И ты извини меня за дядю Мишу, Зоя.
— Да ладно…
— У меня через час суд. Мысли путаются…
— Серьезный суд? — насторожилась Зоя.
— Да нет, ерунда. Раздел имущества. Тряпки, шкафы, ложки, вилки…
— Глупые люди, — вздохнула Зоя.
— Глупые, — кивнула Лида.
Мимо них прошел очередной поезд. В шуме утонули Зоины слова. Лида мучительно зажмурила глаза, ожидая, когда шум прекратится.
Зойкины слова потерялись в свисте и визге подходящего поезда. Она виновато улыбнулась и весело замотала головой.
— Они не дают нам с тобой говорить! Эти звуки! — закричала отчаянно Лида.
— Потом поговорим! — крикнула Зоя.
— Они все время нам мешают! Свистят, лязгают, визжат!
— Дома поговорим! — крикнула Зоя. — Я побежала!
— Положи мне на счет денег за телефон, а то отключат! У меня там почти ничего!
Зоя кивнула, быстро поцеловала мать в щеку, махнула рукой и смешалась с толпой, мелькнув на прощание в дверях вагона вызывающе розовым пухлым пакетом.
Поезд тронулся, а Лида еще долго стояла на платформе, глядя в пустое пространство, где он только что был, пока не наткнулась на тяжелый, исполненный жадной темноты взгляд полуголой женщины на огромном рекламном плакате. У женщины были задраны высоко вверх стройные ноги в белых узорных колготках, нарисованные глаза были непроницаемыми, поглощающими все живое. Это был нечеловеческий взгляд ямы.
* * *
Они не спали всю ночь. Зоя в новых босоножках ходила из угла в угол по комнате, выдавливая каблуками на старом, дряхлом дереве круглые монетки и пятнышки. Паркет хрустел сухо и мертво, потеряв музыкальный слух, будто никогда и не был способным издавать певучие звуки. Ванька в новых зеленых тапках преследовал ее по пятам.
— Позвони еще раз, — просил он.
Зоя послушно брала свой сотовый телефон, набирала Лидин номер и напряженно слушала железный голос: «Абонент временно не активен».
— Позвони дяде Мише.
— Ее там нет, я звонила.
— Маринке?
— Тоже.
— Ну, я не знаю… Давай по записной книжке… Красная такая…
— Уже двенадцать часов. Или час?
— Час.
— Она ругать нас потом будет, что мы людей тревожим по ночам. Нельзя звонить так поздно. Ну, где же она?
— Ты думаешь, что-то случилось?
— Ничего не случилось. Но почему она не звонит? Почему ее нет дома? Где она? — с отчаянием воскликнула Зоя.
— А у нее деньги в телефоне не кончились? — предположил Ванька.
Зоя медленно развернулась на тонких каблучках, посмотрела на него неподвижным взглядом:
— Деньги?
— Ну…
— Кончились деньги… — растерянно кивнула Зоя, — Она просила заплатить… А я забыла…
— Дура! Дура! — заорал во весь дух Ванька. — Иди! Иди теперь, плати! Вдруг ей не выехать откуда-нибудь и позвонить не с чего! Ворона!
— Сам ты ворона! — обрадованно выдохнула Зойка. — Пойдем!
— Куда мы пойдем? Все пункты приема платежей закрыты! Все нервы мои вымотала, а теперь еще до утра волноваться надо.
Зоя скинула босоножки и плюхнулась в кресло.
— Не заплатила, — кивнула она виновато. — Забыла…
— Забыла, — передразнил Ванька. — Мать на такой работе работает, а она забыла. Помешалась на своих кавалерах, весь вечер с трубкой по дому бегала, а она, может быть, звонила в этот момент, предупредить хотела. Может, они в театр пошли с дядей Мишей.
— У дяди Миши ее нет.
— Может, с кем-нибудь другим. Она женщина свободная! — воскликнул Ванька.
— Какая бы свободная ни была, а домой позвонить должна.
— Так ты на телефоне висела!
— Висела на телефоне, — покаянно призналась Зойка.
— Вот теперь и виси, всю ночь не спавши. Из-за тебя!
— Из-за меня, — согласилась Зойка и тихо заплакала.
— Не реви, — рыкнул угрожающе Ванька, — Не реви, а то я тоже зареву. Сказали, что мама приедет сегодня вечером, а ее нет. Где она тоже?
Он сурово засопел, еле сдерживая слезы.
— Давай бабушке позвоним? — предложила Зойка.
— Чего не хватало! — возмутился Ванька. — Еще бабушку в гроб вогнать захотела?
— А мы только про твою маму спросим, заодно и про мою, может, узнаем. Может, она ей звонила?
— Откуда?! С кирпича? По твоей милости.
— А тогда папке твоему?
Ванька задумался.
— На которой он сегодня работе?
— В котельной.
— В котельной я телефона не знаю. А ты не знаешь?
— Нет, не знаю, — горестно опустила голову Зойка.
— Взрослая тетка, а ничего не знаешь! Разбалована так, что никуда и позвонить не можешь. Пойдем к Яне Васильевне, у нее спросим.
— Поздно…
— Да эта тетеря и звонок не услышит. Ванька сердито встал с дивана.
— Нет, — замотала головой Зоя. — Она нашла бы телефон. Она попросила бы у прохожего, у милиционера, у кого угодно. Я ее знаю. Она перебралась бы даже через разведенные мосты вплавь, даже если бы земля провалилась, она прилетела бы или спустилась с крыши, но она была бы дома, если не предупредила. Что-то случилось…
— Не каркай, — глухо сказал Ванька.
— Давай искать записную книжку, — всхлипнула Зоя. — Будем звонить всем подряд. Что-то случилось!
— Может, она кому-нибудь звонила, просила передать нам, что задержится? — оживился Ванька.
— Если бы просила, уже передали бы…
— Да? — обомлел Ванька. — Значит, не просила?
— Может и просила, давай искать.
Они пошли в Лидину комнату. Сиротливо пустая дедова кровать, ровно и аккуратно застеленная новым, непривычным для глаза покрывалом, наспех заправленная кровать матери, кипы бумаг на столе, пачка ручек, торчащих острыми стрелами из деревянного бочонка, — все это пугало их своей ненужностью.
— Бумаг-то сколько, — вздохнул с благоговением Ванька, которому раньше строго-настрого велено было к бумагам не подходить.
— Разве тут что-нибудь найдешь?
— Красненькая такая, смотри, — посоветовал Ванька.
Зоя принялась листать раскрытую на столе тетрадь, стала вчитываться в текст, пытаясь найти хоть там какой-то ответ.
— Маленькая такая. Вернее, средняя, меньше тетрадки, — прошептал Ванька, осторожно перебирая бумаги. — Ты смотри сама, а то мне не велено трогать.
— Ищи, ищи,
— Да, я буду тут рыться, а ты книжки читать. А потом мне и влетит!
Зоя, не отрывая глаз от текста, отошла от стола и присела на краешек кровати.
— Как так можно жить, чтоб не думать на всякий случай, вдруг что-нибудь случится, — бубнил он, перекладывая с места на место наполненные бумагами пластиковые папки. — Должны быть какие-то телефоны. Хоть даже на стене бы написала, мол, так и так, я женщина свободная… Безалаберные все, безответственные. Отцу не позвонить. Вот где взять его телефон? А? Тоже мог бы оставить. Вдруг что? Живут, как будто сами себе хозяева, будто никто о них не переживает. Это ж — город. Страшный город! Это ж не шутка! — повторял он Лидин текст Лидиным тоном и сердито перебирал ручки, заостряя внимание то на одной, то на другой.
— Ишь ты, какие ручки! А книжки нет. Спрятала, что ли книжку? Будто кому-то она нужна, — ворчал он, бестолково и растерянно переставляя с места на место календарь, статуэтку черной кошки, пачку визиток.
— Во сколько визиток. Все непутевые. Одни директора… Менеджер, главный редактор, врач… Все генералы, им звонить нельзя…
— Вань, — тихо позвала Зоя.
— Чего?
— Это тебе… Вот я нашла. Для тебя это.
— Что? — насторожился Ванька.
— Дневник, что ли…
Ванька неслышно присел рядом с Зоей, прижался к ее боку.
— «Про страны, про время, про людей»…
— Ну-ка, — тихо сказал он, забирая из рук сестры тяжелый, мелко исписанный альбом. — Дай сюда.
Он раскрыл первую страницу и стал читать вслух.
* * *
Сколько было времени, они не знали. Темные окна зимой оставались темными до середины дня, потому что выходили во двор-колодец. Потом чуть брезжил рассвет, но ненадолго, часа два помучившись, он снова угасал, и квартира погружалась во тьму. Первые звуки гимна Петербургу испугали их. Они забыли выключить радио на кухне.
— Пойдем, хоть чаю попьем. Шесть часов, — сказал Ванька.
— Пойдем.
Радио без умолку ворковало о вчерашних новостях. Зоя тихо взяла чайник, набрала воды, поставила его на газ.
«Вчера состоялось очередное заседание Законодательного собрания…»
— Собирайтесь, собирайтесь, — разрешил Ванька.
«При вынесении приговора по уголовному делу в зале заседания Приморского суда сработало взрывное устройство…»
— Что? Приморского? — побледнела Зоя.
«Погибло два человека, четверо госпитализированы. Среди пострадавших судья, два адвоката, конвоир…»
— Ваня…
Коробок со спичками выпал из Зоиных рук.
— У нее было дело в Приморском суде…
Резкий звонок телефона сотряс стены и их хрупкие, усталые от бессонной ночи тела.
Зоя схватила телефонную трубку, рука ее крупно дрожала.
— Да… Да, Бушуева. Зоя.
Она испуганно глянула на Ваньку. Ванька вцепился в ее руку, но рука безжизненно обмякла, и Ванька изо всей силы сжал ее:
— Что, Зоя, что?!
— Нет, взрослых нет. Никого нет. Я взрослая. Срочно приехать? Народная, дом два?
Рука Зои напряглась, и она прижала Ванькину голову к своему животу.
— Что, Зоя, что?! — шептал Ванька, уткнувшись в напряженные мускулы.
— Хорошо. Сейчас приеду. Через час. Народная, два, — сказала Зоя сдержанно и, набрав полную грудь воздуха, оттолкнула Ваньку.
— Иди…
— Куда? — оторопел он.
— Я сейчас, — сухо сказала Зоя. — Меня вызывают.
— Что случилось, скажи!
Зоя нервно забегала по комнате.
— Где мой теплый свитер, где носки?
— Вот…
Ванька с готовностью подавал ей вещи, наблюдая, как Зоя натягивает их, не выворачивая налицо.
— Я с тобой! — воскликнул он вдруг и стал лихорадочно собираться. — Даже ничего не говори, я с тобой!
Мелодичный звонок в дверь, неуместный этой жуткой музыкальностью, остановил их. Ванька радостно глянул на Зою:
— Она!
Зоя ахнула и бросилась открывать дверь
— Здравствуй, Зоинька! — воскликнула в дверях свежая от утреннего морозца Ольга. — Сыночек! Ванечка!
Ванька испуганно вытаращил глаза и отшатнулся от нее. Он с отчаянием посмотрел на Зою и прошептал:
— Я думал, это наша мама.
Он сорвал с крючка куртку и стал пихать непослушные, негнущиеся руки в рукава.
— Я разве не мама? – растерялась Ольга.
— Ты проходи, проходи, раздевайся. Потом разберемся, — велел Ванька.
— Нам нужно уйти, — сухо сказала Зоя. — Мы торопимся.
— А где все? Где дед, где папа, где Лида? — робко спросила Ольга. — Что у вас тут происходит?
---- Папа скоро придет со смены, ты его жди, - сказал Ванька.
---- А вы куда так рано? Я с вами!
— Нет уж, — обернулся в дверях Ванька, — Мы одни. Это — наши проблемы. Закрой за нами дверь.
По улице было скользко идти. Раннее утро, ни одного прохожего, обледеневшие лужи и редкие, сонно жужжащие машины, серые, неподвижные скалы домов с черными провалами окон и внутри этого — две призрачных, скользящих фигурки крепко взявшихся за руки детей.
На автобусной остановке было темно и пусто. Ванька долго стоял молча, вглядываясь в пустую, мигающую светофорами асфальтовую даль.
Потом, отчаянно, часто задышав, он вскинул лицо к небу и горячо зашептал:
— Боженька! Хоть я и некрещеный… Услышь Ты меня! Не бросай Ты нас, Боженька! Страшно- нам! Куда нам без нее, кому мы нужны тут?! Он схватил Зою за руку:
— Молись, Зоя, молись, ты крещеная, — сказал он. — А мне нельзя, может…
— Как молиться?…
— А как хочешь, молись, — взвыл Ванька.
— Отче наш… я только эту молитву знаю…— прошептала Зоя.
--- Молись, Зоя, молись! Давай! – крикнул в голос Ванька и обхватил сестру руками. – Давай!
Он затряс ее, будто Зоя была спящей.
--- Отче наш! Иже еси на небесях…
--- Громче, Зоя, громче! Он услышит!
Ванька, прижавшись к ней, повторял слова молитвы, смешивая их со слезами и сдавленными всхлипами. Потом он внезапно стих и, отстранившись от нее, пристально и сурово посмотрел в зеленоватое небо.
— Это что же получается, — прошептал он. — Это вот теперь так получается?
Он протестующе замахал рукой.
— Нет, так не может быть! Так не положено быть! Это нечестно!
— Что нечестно? Что Он тебе сказал? — бесцветным голосом спросила Зоя.
— Пойдем в метро, — велел Ванька.
— Зачем? — равнодушно спросила Зоя.
— Так быстрее. Если успеем – значит успеем. Так сказал.
Он пошел вперед неторопливо, уверенно, чуть вразвалочку, как сильный деревенский мужик после тяжкого, праведного трудового дня, широко расставляя худые ноги и изредка поскальзываясь на мелких лужицах в своих зеленых домашних тапках на гладкой резиновой подошве.
Возле станции метро он оглянулся и, увидев, что Зоя послушно семенит за ним, по-взрослому снисходительно кивнул ей:
— Все будет хорошо. Знаешь, почему?
— Почему, Ваня? — пролепетала Зоя посиневшими от холода губами.
— Она еще не окрестила меня. Вот почему. Кроме нее крестной матерью никто быть не может. Вот почему. Другую я не возьму. Боженька мне сейчас это сказал. Вот почему. Пойдем Зоя, не бойся. А куда мы идем?
— Народная, два.
— Народная, два, Народная, два… Как туда ехать?
— Не знаю, — пискнула Зоя.
— Так дедов госпиталь для ветеранов войны на улице Народной…
Зоя растерянно замигала:
— Что-то случилось с дедом?
Ванька медленно опустил голову, долго смотрел в землю, потом поднял на Зою повзрослевшие, тяжелые глаза.
— За деда не бойся. Дед просто так не сдастся. Он не отступит без боя. Он без победы не уйдет. Пойдем, сестра. Он уперся худенькими руками в тяжелую, неподатливую стеклянную дверь станции метро, и через секунду, несколько раз качнувшись, дверь затихла, перестав искажать отражение двух людей, идущих навстречу всему, что им будет дано.
Свидетельство о публикации №118033000709
