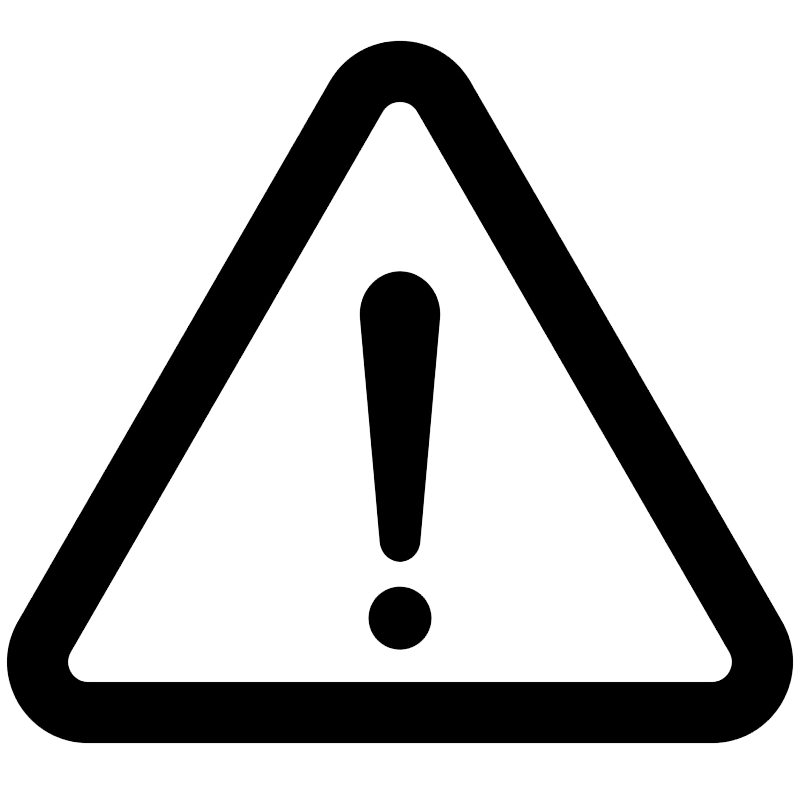
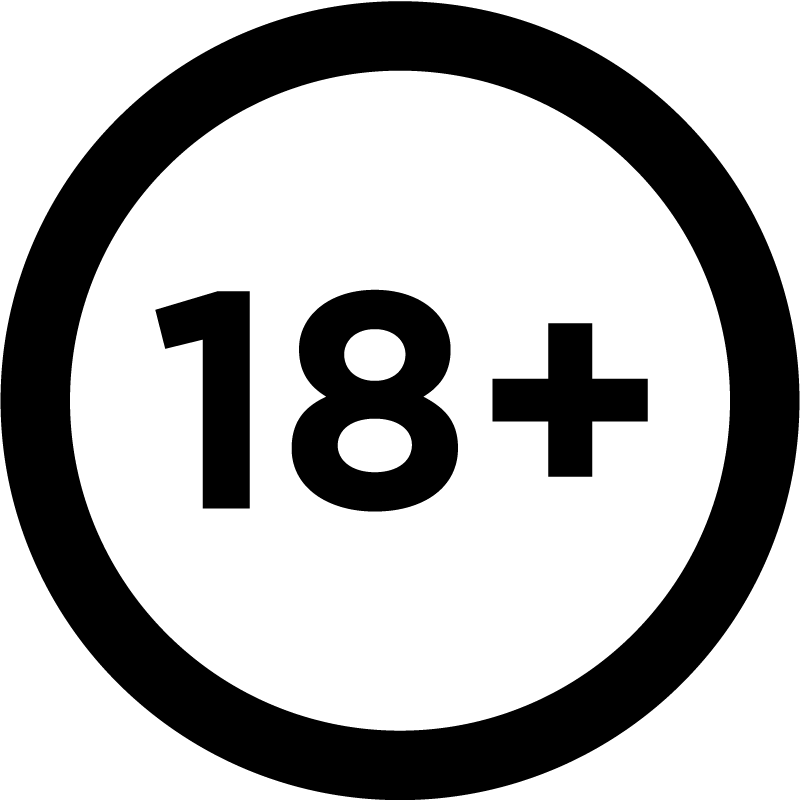 Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Поэма
Трудно сосчитать, сколько лет я посвятил любимому делу. Сложно вообразить, как разнообразна была моя танцевальная карьера! Мне приходилось выступать на международных танцевальных конкурсах и соревнованиях, бывать балетмейстером, заниматься постановкой грандиозных балов дебютантов, наконец, преподавать. Но всё это было не сразу. В самые первые дни моей карьеры, выйдя из тренировочного зала на бескрайние паркеты улиц, я подолгу перебирал ногами, стоя на остановке в ожидании трамвая. Во что бы то ни стало мне хотелось стать лучшим, а потому я никогда не чурался косых взглядов и продолжал заниматься всюду, где только мог.
Стремительно завоевав себе имя в сольных выступлениях, в десять лет я стал мечтать о более солидном поприще — о парных состязаниях, ведь сама сущность танца заключается в объединении людей, чаще всего двух людей. Как и многие выдающиеся спортсмены, в двенадцать я обзавёлся собственным агентом, на плечи которого лёг эполет таких забот, как поиск и переговоры. Для меня подбирались не просто престижные соревнования, а такие, о которых впоследствии непременно писали бы «в газете, а не в газетёнке», — как выражался мой первый агент, добавляя: «Имя твоё — главное достояние».
Что касалось впоследствии поиска и подбора партнёрш, лично мне это напоминало закулисную жизнь ипподрома. Я ощущал себя то жеребцом, которому подбирают искусную наездницу, то жокеем, которому ищут лучшую лошадь. Но если сейчас это смешит, то в те далёкие времена и сам процесс, и подход к нему казались мне чем-то должным, естественным. В преддверии какого-нибудь важного соревнования или кубка агент навещал меня, принося с собой ворох обработанного видеоматериала с нарезкой выступлений разных партнёрш. Мы устраивались поудобнее и начинали изучать кандидаток. Подготовленный гость то и дело вставлял замечания о сильных и слабых сторонах той или иной девушки, рассматривая её исключительно с точки зрения дополнения к моему таланту. И я, признаться, думал так же: «Что в них особенного? Чем они, собственно, отличаются друг от друга? У них одинаковые платья, похожие (зачастую прилизанные) причёски, все они жутко накрашены, даже имена у них повторяются. Важно лишь то, что я смогу от них взять, чего смогу достичь с ними». И все партнёрши, я в этом уверен, в свою очередь думали обо мне так же.
Если вы мне не верите, если вам покажется, что я выдумываю, если вы вдруг занимались или занимаетесь танцами и вам, кажется, повезло не узнать таких вещей, то вы либо ещё никуда не забрались, либо забрались уже слишком высоко и ничего не помните!
Когда череда побед с какой-нибудь партнёршей вдруг обрывалась, наши агенты и мы оба понимали, что пара исчерпала свой потенциал и нужно искать кого-то получше. Таким образом я часто менял партнёрш, постепенно поднимаясь всё выше в спортивном мире и со временем прославив своё имя.
Однако, спустя годы, я стал всё чаще задаваться вопросом — зачем всё это? Дипломы и медали никогда не приносили мне подлинной радости. Все эти «побочные эффекты» находили приют в специальной комнате в доме моих родителей. Эта комната остаётся для меня самым ужасным местом на земле! Когда я только начал получать первые награды, ещё живя с родителями, мне было радостно приносить трофеи домой и хвастать ими. Было приятно, когда мама вырезала из газеты первую заметку о моей победе. Тогда родители решили выделить целую комнату под мои заслуги. Я старался избегать её — что-то неприятно отталкивающее поселилось и жило в ней. Однажды за ужином кем-то было подмечено, что скоро решительно все стены злополучной комнаты будут обвешены дипломами, медалями и газетными вырезками. Я ужаснулся и решил заглянуть туда. Дверь небольшого помещения недружелюбно заскрипела, и я зажёг свет. Нет, было невозможно, невыносимо оставаться там дольше пары секунд: выкрашенные золотом и серебром медали смотрели на меня своими многочисленными глазами со всех сторон; синие, зелёные, красные надписи «Диплом» издалека казались не то зловещими суровыми бровями, не то трещинами на стене комнаты. Я бросился на улицу и бежал до тех пор, пока не очутился у своего излюбленного пруда, где можно было успокоиться, бросая камни в блестящую, ровную, словно покрытую ртутью воду.
С юных лет я старался не замечать цену, которую приходилось платить за успех. Мне вовсе не казалось, что мой день какой-то особенный или тяжёлый; мне даже чудилось, что я абсолютно такой же, как и другие мальчишки, жившие по соседству, просто им нравится одно, а мне другое. «Пусть их не влечёт ни пьедестал, ни вкус и радость заслуженной победы, ни бесконечное “я могу”, счастливо порхающее в сердце, — во всём остальном мы ничем не отличаемся», — думал я. Тем не менее изредка некоторая суровость моего детства выглядывала из-под тени мечты: «Тем ли я занимаюсь? Стоит ли это таких усилий? На то ли я расточаю своё время?» — спрашивал я себя, будучи подростком, но почти сразу прогонял «мысли слабака», эти козни тётушки Лени, и вспоминал слова тренера: «Пока ты бездействуешь, кто-то продолжает непрестанно тренироваться, развивается, растёт». Они злили меня, и я старался наверстать упущенные минуты.
Впрочем, вопрос о тщете соревновательной жизни всё чаще подолгу гостил в моих мыслях. Неужели жизнь дана лишь для непрестанной погони за бумагой и железом? После случая с комнатой очередные медаль и диплом были утоплены в пруду. К тому же мне было двадцать, а потому сердце не покидало ощущение, что весна создана специально для таких, как я, — и это лишь усугубляло моё положение. После выступлений меня то и дело настойчиво приглашали в театры и на концерты, и, если соревнования проходили в другой стране, отказываться было невежливо. Особой любви к театру я не питал, да и роль обычного наблюдателя порою была мне невыносима, однако знакомство с великими произведениями классиков зачастую приятно завораживало сердце — причём не только с хореографической точки зрения, — и постепенно опера стала для меня сродни балету. За одним последовало другое, и всё чаще я находил время для чтения классической литературы. Под влиянием искусства и весны, царивших тогда в моей душе, я сделал предложение своей партнёрше — девушке, с которой провёл больше времени, чем с любой другой. В тот же вечер она оставила меня (и даже переехала в другой отель): «Ты всё испортил!» — бросили её губы на прощание. — «У нас всё так хорошо получалось, но ты же знаешь — за двумя зайцами…»
У нас, действительно, последнее время всё шло отлично. Мы достигли такого уровня гармонии, что газеты писали о наших выступлениях: «Глядя на эту пару, вам кажется, будто не музыка руководит их движениями, а сам танец грациозными мановениями дирижирует звуками».
— Проклятая профессия, — бросил я мысленно вслед исчезнувшей партнёрше. — Дурацкий спорт.
Неужели люди выдумывают все эти истории, что я видел на сцене, о которых читал в книгах? Неужели всё это чепуха, фантазия, несбыточный идеал?
II
Постепенно я забросил соревнования. Меня, пожалуй, могла бы удержать возможность выступить на Олимпиаде, но очередной запрос на включение танцевальной программы в программу игр был отклонён, и надежды тысяч людей по всему миру вновь потерпели крушение. В силу контрактов ещё некоторое время приходилось выступать, и выступать хорошо, но изменения в моём сознании были необратимы: я начинал всё больше ценить не дикую призрачную гонку за несуществующими вершинами, а размеренную, полную чудесных проявлений жизнь. Порой меня приглашали для постановки балов, несколько раз я удачно ставил балет, но основной моей деятельностью стало обычное преподавание танцев.
Я приезжал в одну или другую европейскую столицу и арендовал студию неподалёку от центра. Такие помещения обычно используют художники или скульпторы: там просторно, много верхнего света — яркого, но мягкого; он не портит краски будущих картин, не искажает цвет. Все мои студии были двухэтажными: первый этаж отводился под занятия танцами. Вымерялся пол, заказывалось качественное паркетное покрытие, ставились зеркала и ширма — если была необходимость. На втором располагалось моё пристанище: широкая кровать или высокий матрац, кофейник, столовые принадлежности, уборная. Довольно часто мне везло — с верхнего этажа можно было выйти на крышу. Для каждой студии я заказывал вывеску на местном языке: «Школа танцев». Местные журналисты, зорко следившие за жизнью округа, быстро её замечали и печатали бесплатную рекламу: несколько моих регалий, короткая история — смотря по фантазии автора, — и адрес студии. Этого было достаточно, чтобы обеспечить меня потоком клиентов.
Поначалу было здорово вести индивидуальные и групповые занятия для людей всех возрастов; иногда мы с моими учениками выбирались на соревнования, и я часто разделял их победы. Однако со временем решил отказаться от групповых занятий: чувство ответственности за успех каждого вынуждало постоянно заниматься «выравниванием», а это было делом непродуктивным. Вскоре я стал работать либо с парой учеников, либо один на один.
Может показаться странным, но больше мне нравилось заниматься с любителями — в них я находил отдохновение. Они не были так суровы к себе, как профессионалы, и в них не было спортивной жестокости, необходимой для высоких побед, зато они обладали лёгким отношением к жизни, которого мне так не хватало.
Мои школы танцев поочерёдно открывались в Берлине, Риме, Лондоне и других городах, но чаще всего я возвращался в Париж. Студии в пятом округе казались самыми удобными, да и столица Франции была как-то по-особенному близка. Несмотря на различие культур и языков, ученики моих школ в целом ничем не отличались друг от друга. Те же спортсмены, те же любители, и, как ни странно, из их числа в каждом городе со временем выделялся особый разряд — девушки, приходящие ко мне не только ради уроков. Я был молод, как и большинство моих учениц, а значит, наши сердца жадно дышали вездесущими парами весны. Каждый раз, открывая новую студию, я был твёрдо настроен развивать танцевальный талант в каждом ученике, но спустя несколько месяцев любая школа начинала превращаться в бардак, бороться с которым не представлялось возможным.
Это было похоже на суровое проклятие: приходила очередная ученица, я усердно занимался с ней, но вскоре музыка и сам танец — чаще всего медленный вальс — разжигали в нас неумолимое желание, после чего двери студии запирались ловкими девичьими пальцами. Со временем обо мне начинала ходить дурная слава по всему городу — как я позже стал догадываться, — и в мои двери всё чаще стучались ученицы, мало интересующиеся танцем. Более того, вместе с ними пришло умение отличать одних от других: порой приходилось распознавать невербальные жесты, скрытые в интонации нотки, анализировать ответы — или просто слушать многозначительные обращения вроде: «Мне вас рекомендовали как отличного учителя вальса». Сначала такие фразы веселили: звучали словно пароли разведчиков, но со временем стали раздражать. Некоторым ученицам — в кавычках — я отказывал, ссылаясь на переполненный график, других, напротив, легко записывал на занятия.
Такие связи бывали короткими или длительными; некоторые ученицы становились моими друзьями, и мы приятно проводили время: ходили на выставки, гуляли по бесконечным улицам, бывали завсегдатаями злачных мест, а иногда подолгу сидели на крыше студии с дешёвым вином или портвейном.
— Вот она, жизнь! — думал я, беззаботно считая звёзды то на небе, то в глазах очередной спутницы.
Через полгода или год почти в каждом городе, где бы я ни жил, становилось жутко и противно. На улицах то и дело попадались незнакомки, поглядывавшие на меня лукавым взглядом; иногда одна из них окликала меня, стараясь похвастать перед подругой: «Здравствуйте, вы как-то учили меня танцевать…» — и, сделав паузу, добавляла неизменно: «Вальс, помните?» Я натянуто улыбался и то молча кивал, то отвечал с ухмылкой: «Как же, помню!» Однако в минуты очередного побега от назойливой собеседницы в голове неизменно скрипели две мысли: «Проклятый вальс!» и «Пора уезжать».
Вскоре я действительно уезжал, но история повторялась снова. Менялись школа, вывеска, язык вокруг, но всё это было лишь сменой декораций — те же ученицы, тот же вальс, та же дурная слава. Со временем я стал разборчивее и чаще пресекал попытки превратить мою школу в бедлам, но жизнь от этого почти не менялась.
Казалось бы, на моём месте любой должен быть счастлив, но это положение вовсе не было завидным. Бесконечные вереницы красавиц сливались в однообразную, безликую массу. Иногда мне чудилось, что я всё так же гоняюсь за победами и медалями — пусть и изменившими форму. Ладно бы я забывал имена или лица — это было бы сносно. Но до чего же было невыносимо порой не помнить вчерашнюю спутницу! Возможно, я помнил цвет волос, но напрочь забывал, как её звали, о чём мы говорили.
И вдобавок никак не мог вспомнить, какой была та — самая первая, нарушившая спокойный, почти монастырский уклад моих школ. Это тяготило сильнее всего.
Однако, как уже было замечено, не все связи с девушками обрывались окончательно. Постепенно у меня появилось пять настоящих подруг, трое из которых жили в Париже. С каждой из них я поддерживал общение, несмотря на то что некоторые давно забросили занятия танцами. Словно пять континентов или пять пальцев на руке, они отличались друг от друга так, будто я намеренно стремился максимально диверсифицировать своё окружение.
В Лондоне жила Катрина — девушка с душой музыкантши. Однако не стоит представлять преисполненную романтизма скрипачку или грациозную волшебницу чёрно-белых клавиш фортепиано. Моя английская подруга была заядлой рокершей, с которой я когда-то прыгал у сцен на самых вычурных концертах.
В Берлине мне всегда была рада модель Герта Кроп.
Во Франции я знался с неутомимой путешественницей Миланой, за хрупкой спиной которой значилось несколько кругосветок; с кучерявой служительницей кисти Анджелой Рени-Марсо и не менее удивительной Евой, о которой следует рассказать особо, ведь её невозможно охарактеризовать одним словом.
Иногда я подшучивал над ней, говоря, что если взять политический глобус и вместо стран нанести на него всевозможные дарования, умения и способности, то в какое бы место ни указал палец, выбранный талант обязательно оказался бы очередным самоцветом, вынутым из сокровищницы её души.
Из всех пятерых подруг Ева проявляла ко мне наибольший неподдельный интерес. Мы часто беседовали, развлекались, путешествовали. Порой мне казалось, что она понимает меня лучше всех на свете. Но не только поэтому я старался держать её ближе и не выпускать из виду. У Евы было несметное множество знакомых, и список её контактов можно было бы, пожалуй, издать в нескольких томах. Как я выяснил позже, обладая удивительной памятью, она поддерживала все знакомства — независимо от их важности и перспектив. Честолюбивые планы этой поистине удивительной девушки могли заткнуть за пояс порывы ни одного Наполеона. И хотя я воспринимал её доверие как нечто, если не должное, то, по крайней мере, вполне обычное, подобное душевное гостеприимство для неё было редким проявлением интимности.
Так или иначе, Ева любила помечтать.
Однажды, отдыхая в любимом кафе, она вдруг, услышав вой сирены, рвущей воздух нашего любимого города, заявила:
— Мой муж обязательно будет ездить с мигалками!
— Девушка, вы собираетесь выйти за доблестного полицейского? — рассмеялся я, изображая голос блюстителя порядка.
— Что за глупости! — лениво перевела она на меня взгляд.
— Значит, за отважного пожарного? — не унимался я, отвратительно изображая Ромео. — Детка, я потушу этот пожар… чувствуешь, как он неумолимо снедает тебя изнутри?
— Прекрати балаган! — воскликнула Ева, вырываясь из объятий обожателя Джульетты. — Ни черта ты не понимаешь!
Когда я наконец успокоился, она задушевно промолвила:
— Нет на свете ничего лучше, чем ездить с мигалками! Чувствовать своё превосходство над окружающими… быть самым, самым.
Последние слова задели меня: те ощущения, которые когда-то дарил пьедестал, упорно не поддавались забвению.
— Не кажется ли тебе порой, что ты попросту прожигаешь свою жизнь? — спросила Ева, взяв меня за руку.
«Не кажется?» — ухмыльнулся я про себя и язвительно заметил ей: «Проводя время с тобой здесь, на крыше?»
Она собиралась было сказать что-то ещё, но я, не желая портить вечер, подлил своей подруге вина, пытаясь утопить в нём все-все слова.
III
Колесо моей жизни продолжало неторопливо катиться по дороге времени. Я вернулся в Париж и открыл новую школу танцев, которая располагалась буквально в паре кварталов от прежней, хотя на деле, как подметила Ева, эти две школы разделяли целых четыре года. Я решил остепениться и впредь использовать школу только по назначению. Участвовать со своими ученицами в сражениях под знамёнами Венеры — в тех самых, что так забавно описал Апулей в начале новой эры, — мне больше не хотелось.
Годы странствий научили меня тому, что танцы — не лучший и далеко не единственный повод для начала отношений с противоположным полом. Кроме того, следовало уделять больше времени развитию профессиональных спортсменов: «Именно они — ключ к успеху, краеугольный камень здания моей известности и доброй репутации», — крутилось в голове. Таким образом я и вправду остепенился, снова оказавшись на верном пути.
Вскоре, освоившись в новой студии, спустя месяц-другой я решил повидаться со старыми знакомыми. Милана, недавно делившаяся со мной своими планами, вновь отправилась в турне. Анджела была безумно занята организацией третьей выставки: несмотря на то что показ готовили больше года, она страшно волновалась и всё время вносила «последние» правки в свои картины. Наблюдателю со стороны могло показаться, будто юная художница старается не то оживить, не то заколдовать свои полотна. Кусок дерева с насаженной на него щетиной какого-нибудь зверя в её руках превращался в волшебную палочку — омелу друида. Кистью она пыталась вдохнуть жизнь в краски, ею же искала Грааль — невидимую границу заветной страны под названием Шедевр.
Обычно за несколько месяцев до выставки Анджела словно косатка надолго заныривала в глубины студии и почти не покидала её. Я решил не тревожить её своим возвращением и дождаться разговора после вернисажа. Так мой круг общения на время сузился до немногих друзей и Евы. Последняя была искренне рада моему приезду, а мои планы относительно школы привели её в настоящий восторг:
— Наконец-то ты понял, что реноме — это твоё всё! — улыбалась она с довольным видом. — Ведь, в сущности, неважно, чем занимается человек: забивает ли гвозди, правит ли страной или, как ты, учит других танцевать — он должен развивать свой талант. Стремление быть лучше делает жизнь жизнью, а не простым прозябанием.
— Ага, — вставил я, — слава самурая бежит впереди него.
Кто бы мог подумать, что четыре года работы, направленной не в то русло, так подорвут мою известность! Парижские газеты едва упомянули об открытии школы — и даже те строки были написаны скорее ради злословия. Моё имя напоминало забытое на чердаке зеркало: оно утратило былой блеск и покрылось пятнами забвения. Но такие затруднения не пугали — они напоминали очередной сезон состязаний, где каждая новая гонка обнуляет счёт, отдаляя от победы.
Тем временем в школе появлялись новые ученики, и вскоре среди них выделились пятеро наиболее перспективных спортсменов. Больше всего времени я посвящал именно им: «Частые газетные заметки об их победах станут золотыми кирпичиками к изумрудной стране известности», — витало в голове.
Так прошло полгода. Школа всё реже принимала простых любителей, хотя теперь они, вопреки прежнему, были уже не капризом, а необходимостью, приносящей ощутимую часть дохода.
— Ты становишься альфонсом! — подтрунивала надо мной Анджела после выставки. — Тебя больше не интересует привлекательность учениц! И с каких это пор кошелёк стал лучшей рекомендацией для девушки?
Однако милая художница ошибалась. Я не утратил интереса к красоте, да и до сих пор не мог отказать талантливым, пусть и небогатым ученикам. В тот период школа во многом держалась именно на любителях. А равнодушным к очарованию женщин я так и не научился быть.
Однажды, во время урока, я заметил на пороге что-то удивительное (из-за громкой музыки мы не услышали, как вошла посетительница). Хотя лето — раннее, парижское — было в разгаре, уже три дня подряд лил проливной дождь. Серые стены домов почти почернели от воды, белые фасады посерели, а грустные кариатиды прятались под крышами. Казалось, город свернул бутон своих красок и погрустнел.
Мне была чужда меланхолия — в такие дни я, освободившись, обычно ловил такси и мчался на вечеринку к друзьям, смеясь по дороге над забавными мордочками собак, строящих гримасы своим безжалостным хозяйкам, — но даже для меня тогда не нашлось бы весёлости бегать по лужам.
Незнакомка на пороге была забавно одета. То ли по призванию, то ли случайно, но первым, что бросилось в глаза, стали её ноги, обутые в жёлтые резиновые сапожки. «До чего же они смешные!» — восхитился я про себя и поймал себя на мысли, как должно быть прекрасно гулять в таких сапожках по лужам, измерять глубину и ощущать на голени лёгкое давление миниатюрного моря.
Рядом с аккуратно стоящими сапожками я заметил такого же цвета зонт-трость, воткнутый остриём в паркет. Крупные капли на складках зонта медленно падали на пол, словно созревшие лимоны.
Вскоре розовый плащ отвлёк меня от этого созерцания: сквозь него выглядывали тёмно-зелёные брюки, заправленные в сапожки, и нежно-голубая блузка.
Я взглянул на лицо посетительницы: мягкие, выразительные черты, нежные линии, густые, слегка волнистые тёмные волосы каре — всё в ней складывалось в совершенную гармонию. Её каштановые глаза были огромными, губы — пышными, лицо разрумянившимся от ходьбы. Передо мной стояло само очарование, сошедшее с полотен Бугро — разве что облачённое по-современному.
Не слыша её голоса и не зная имени, я уже чувствовал: передо мной бесподобное создание. Её улыбка делала её обворожительной, а наряд говорил не только о смелости, но и о внутреннем свете. Пёстрое обличье этой девушки могло обезоружить дождь, превратив его в праздник жизни, ослепить молнию своими цветами, перекричать гром гимном юности и веселья.
Незнакомка казалась мне неведомым, почти неземным существом, которое, если и обрадовало мою студию своим присутствием, то лишь по невыносимо глупой случайности. Мне не хотелось успеть сравнить её с другими, пытаться запечатлеть этот волшебный образ в анналах памяти, задаваться вопросами «отчего» и «зачем», — я решил, что будет лучше поскорее выпроводить её, как бы грубо это ни выглядело.
— Что вам угодно? — довольно сухо спросил я.
— Я случайно наткнулась на вашу вывеску, — радостно начала посетительница приятным, словно музыка, голосом, — и подумала, что мне, пожалуй, не помешает взять несколько уроков танцев!
Слегка смягчившись, я предложил ей прийти завтра в то же время. Она как-то по-особенному светло улыбнулась и выпорхнула за дверь. Остаток урока, да и всего дня мои мысли возвращались к видению, имя которого я всё ещё не знал.
На следующий день Париж благоденствовал под лучами вновь вспыхнувшего солнца: дождь прекратился ещё накануне. Птицы то и дело шуршали крыльями, купаясь в лужах, пока те не исчезли под жаром. Разноцветные зонтики цветов распустились на газонах и кустах; редкие облака лениво плыли на юго-запад. Блестящие глаза моей студии — окна — томно раскрыли веки, впуская аромат лета.
В назначенный час на пороге школы снова появилась незнакомка. Хотя одета она была довольно просто, в тканях её наряда пробегали нити женственности и гармонии. Я уже собрался указать ей на ширму, за которой можно было переодеться, когда гостья, чуть пожав плечами, заметила:
— Меня зовут Эмма. Вчера я забыла рассказать вам кое-что важное о своём танцевальном опыте.
— Хорошо, расскажите сегодня, — улыбнулся я, — но давайте не будем стоять у двери: вот за этой ширмой вы можете приготовиться к занятию.
— Нет, послушайте, — покачала головой Эмма, чуть зардевшись, — это важно. Мне уже доводилось брать несколько уроков, но я, как правило, не проходила дальше одного-двух занятий, — вздохнула она. — Как только мой учитель или учительница позволяли себе хоть немного грубые замечания о моих шагах или движениях, я тут же собиралась и уходила, навсегда забывая дорогу к ним.
Решительность революционерки звучала в её голосе, внимательность разведчицы — в глазах. Моё спокойствие и отсутствие неуместной улыбки, видимо, были признаны удовлетворительными. Эмма продолжила:
— У меня никогда не было цели стать великой танцовщицей или балериной, — сказала она с лёгкой грустью. — Лишь скромное желание научиться сносно танцевать известные танцы. К тому же мне кажется, что я довольно танцевальна и хорошо слышу музыку.
— Я в этом не сомневаюсь, — ответил я.
Эмма улыбнулась.
— Однако я не намерена терпеть колкие замечания в свой адрес. Не могли бы вы…
— О, без проблем! — перебил я с улыбкой.
«Правда?» — весело спросил её взгляд.
— Да. Могу вас научить танцевать даже без слов! — приободрился я, поддавшись магии её глаз. — Вы не читали Луи Авегля? Он пишет, что немые — самые завидные учителя. [aveugle (фр.) - слепой]
— Нет, без слов не нужно, — рассмеялась Эмма, направляясь к ширме.
«Что за девушка!» — мелькнула мысль, затмив всё остальное.
Разгуливая по паркету, я размышлял над её словами и, вспомнив, каким строгим бывал с учениками (а как же без строгости?), рассмеялся над своей шуткой про книгу. И вдруг в голову пришла забавная догадка.
— Эмма, — позвал я, оказавшись у ширмы, — скажите, а в вашем роду не было поэтов?
— Почему вы спрашиваете? — удивилась она, выходя на паркет. На ней осталась бежевая юбка-плиссе и светло-голубая рубашка с подвёрнутыми рукавами, а тёмно-кремовые танцевальные туфельки сменили прежние, бледно-розовые.
Я осёкся, не ожидая столь скорого появления. Её красота завораживала. Пьянящие чары, словно дорогие духи, будоражили, отвлекали, сбивали с толку.
— Не знаю насчёт того, были ли, но я и сама иногда пишу стихи, — призналась Эмма.
— Много же у вас увлечений!
— Да, этого не отнять. Но признайтесь, зачем вы спрашивали?
— Был в Америке замечательный поэт, Алан Эдгар... Отчего-то мне вдруг показалось, что было бы забавно, если бы он приходился вам родственником по линии отца.
Эмма чудесно рассмеялась:
— Действительно, было бы забавно!
Я настоял на том, чтобы новая ученица внесла своё имя и координаты в мою увесистую, чуть растрёпанную временем книгу, заведённую с самого открытия первой школы. Сей архив был нужен, во первых, для порядка — в некоторых городах ко мне приходили ревизоры и проверяли деятельность на законность, во вторых, для удобства: время от времени возникали экстренные случаи, когда требовалось отыскать того или иного ученика.
Наконец всё было готово, чтобы начать урок. Узнав, что Эмма «когда-то пробовала» множество танцев, я быстро нашёл решение, которое искала моя смекалка:
— Здорово! — искренне восхитился я. — У вас довольно большой опыт. Сегодня мы повторим несколько танцев из вашего списка. Есть предпочтения? — девушка в недоумении покачала головой. — Хорошо, тогда начнём с вальса, а если останется время — ча ча ча и фокстрот.
Я поставил музыку, подходящую для первого танца. Она звучала негромко, почти фоном, позволяя свободно говорить; композиции сменяли одна другую, не отвлекая внимания.
— В моей школе существует незыблемое правило, — с лёгкой наглостью соврал я, возвращаясь к Эмме, — на первом уроке ученик учит учителя тому, что знает сам.
Весь свой талант я направил на то, чтобы стать, если не нерадивым учеником, то хотя бы добросовестным новичком. Эмме пришлось показывать основные шаги, попутно их вспоминая, рассказывать о ритме и позициях партнёров. Когда новоиспечённая «учительница» делала всё безупречно, я искренне восхищался простотой и естественностью движений. Когда же она ошибалась или что-то забывала, я осторожно помогал ей: делал невинные предположения, предлагал попробовать иначе. Мы быстро возвращались в нужное русло и постепенно продвигались вперёд. Боясь хоть чем-то задеть самооценку девушки, я стал изобретательным.
Я был похож на столяра, заменяющего рубанок стамеской; на рыбака, использующего булавку и нить; на лингвиста, ищущего новые слова. Эта вынужденная непрямолинейность меня забавляла — всё казалось новым, и в этом была игра. Преступление рамок обыденности, отказ от привычки — не рождает ли оно импульс для появления чего-то невероятного?
Однако новое амплуа давалось мне нелегко. Когда мы с Эммой впервые попробовали станцевать в паре, после трёх кругов вальса я не выдержал и рассмеялся, впрочем, быстро опомнился:
— Я чертовски давно не танцевал вальс!
К моему удивлению, Эмма тоже расхохоталась:
— Ученик, не забывайте, что это вообще-то ваше первое занятие!
Мы оба вновь рассмеялись. Между нами установилось то самое лёгкое взаимопонимание. Эмму тронуло, что я буквально воспринял её слова и изо всех сил стараюсь соответствовать негласной просьбе, — благодарность светилась в её глазах. Мне же было радостно осознавать и это, и её простоту, и естественную искренность.
После короткого отдыха я заявил, что мне, пожалуй, стоит повторить базовые шаги. Эмма охотно показала их, и вскоре малые и большие квадраты стали у нас получаться отлично — и порознь, и в паре. Мы перешли к другим танцам. Я решил, что на первом занятии вальсировать больше не стоит: я не хотел, чтобы из-за неудач у Эммы опустились руки. Почему? Сам не знал. Её слова отчего-то задели меня.
Спустя годы мне пришла мысль, что, возможно, тогда моё сердце было готово услышать нечто подобное, а может, даже ждало этого. Но в тот день я лишь подумал, что Эмма, должно быть, единственный ребёнок в семье или младшая дочь.
Есть семьи, в которых вырастают самые прекрасные девушки на земле. Любовь, достаток, уют и благополучие живут там в согласии, а тёплая атмосфера, созданная вокруг дочери, становится благодатной почвой для расцвета утончённости, доброты и нежности — тех добродетелей, что позже станут катализаторами женственности.
Хрупким созданиям дозволено почти всё: заботливая рука воспитания не знает запрещающих жестов — она поощряет, хвалит, указывает на лучшее и прежде всего приучает к трём грациям искусства: рисованию, музыке и танцу.
Первый мужчина в жизни девочки, отец, не перестаёт восхищаться любимым созданием, зорко следит за осанкой маленькой принцессы. Он балует дочь так умело, что подарки не становятся обыденностью и не теряют волшебства.
К тому же в любящей семье девочку невольно стремятся оградить от грубости внешнего мира, укрыть от неприглядных сторон жизни. Кажется, это неправильно — но напроситесь к ним в гости! И если вам улыбнётся не только удача, но и само розовощёкое чудо, вы увидите маленькое счастье во плоти. Беззаботность, доверчивость, искренность сверкают в глазах малышки естественным блеском. «Прекрасный дар — детство», — улыбнётесь вы.
Однако заботливое укрытие от мира часто делает последующее знакомство с ним трудным. Такие девушки сохраняют приветливость и жизнерадостность, но, чуждые широкой публике, подсознательно стремятся к семейному уюту — который находят не только в доме, но и в друзьях.
IV
На следующий день мы с Эммой продолжили занятия. Новый подход к обучению, на который она меня вдохновила, оказался удивительно плодотворным. Раньше я почти не обращал внимания на знания ученика любителя и повторял с ним каждый танец с самых основ, из за чего время использовалось не всегда эффективно. С Эммой всё было иначе. Первый урок полностью раскрыл для меня её сильные и слабые стороны. Это походило на то, как если бы я на миг заглянул в чужие карты.
Для любого хоть немного хорошего учителя знание пробелов ученика сродни не только знанию фарватера для штурмана, но и минного поля для сапёра. Поэтому ко второму уроку Эмма продвинулась так, что её прогресс позавидовал бы любой прежний ученик. Фокусируясь на трудностях, мы двигались с фантастической лёгкостью и быстротой. Казалось, происходило нечто волшебное.
Повторив несколько танцев и заметно их улучшив, мы дошли до вальса. Эмма хорошо знала движения и прекрасно крутилась одна, но в паре у нас опять возникли неполадки. Любую другую ученицу я бы попросту заставил повторять шаги, а если бы не помогло — закружил бы по паркету, стараясь силой навязать чувство танца, подавить ошибки и недочёты. Такой подход не нравился даже мне, но как сказать человеку «чувствуй», если это не касается пяти чувств Аристотеля? И хотя мне приходилось просить учениц «слушать партнёра», лишь немногие могли действительно развить в себе эту способность.
Наш с Эммой вальс начинался хорошо, но лёгкая неточность шагов постепенно, из круга в круг, словно накапливающаяся погрешность, разрушала танец.
— Давайте попробуем останавливаться после каждого поворота — будто это завершённое движение, — предложил я.
Со стороны казалось, что мы переводим дыхание, словно дети, делающие первые шаги.
— Раз, два, три; раз, два, три, — повторял я, осторожно поворачивая хрупкую партнёршу.
— Кажется, я поняла! — воскликнула она наконец.
Я сделал музыку громче. Лёгкая мелодия, словно птицы, наполнила студию. Мы встали в пару, убедились в правильности позиции и начали вальсировать.
Несколько мгновений лёгкая дрожь Эммы щекотала мне пальцы; с каждым шагом учащался ритм её сердца. Она удивительно слушала и двигалась почти невесомо, как весенний ветер. Потеряв ключи от своего арсенала замечаний, я с едва заметными движениями пытался то поправить её, то напомнить о чём то забытом. Почти всегда она понимала без слов — и это было так неожиданно и завораживающе, что у меня, привыкшего к танцу, появилось лёгкое головокружение. Мне казалось, что я вальсирую впервые.
Если же Эмма не понимала намёков, я ненадолго прекращал их и невольно начинал изучать её: как она отреагирует? будет ли ей удобнее, если я…?
Этот внутренний процесс не имел ничего общего с методичным подходом. Я не превращался в исследователя за кафедрой, не строил планов и графиков. У меня было лишь одно желание — почувствовать партнёршу. Оно запускало во мне целые полчища скрытых, почти бессознательных реакций.
Я не был похож на школьника у панели управления ядерным реактором, хотя некоторых девушек и вправду можно было сравнить с чем то подобным. Мои движения оставались точными, но впервые я действовал без анализа. Разум, отправленный в отставку, позволил почувствовать, как Эмма откликается на каждое движение. Танец не менялся по форме, оставался вальсом, но строгие линии вдруг ожили, стали мягче, цветастее.
Подобные ощущения цвета не были мне в новинку. Несведущему кажется, что судьи на турнирах следят лишь за точностью движений, но это не совсем так: моя пара нередко побеждала именно потому, что движения были «раскрашены» чувствами — пусть и искусно подделанными.
С Эммой же мне не нужна была победа. Я не стремился к медали, не мечтал о пьедестале — и искренность освобождала танец, придавая ему естественную красоту.
Когда мы закончили первый круг, пройдя вдоль стен студии, мелькнули в зеркале под лестницей, приблизились и вновь отдалились от ширмы, Эмма чуть нарушила позицию и открыто посмотрела на меня.
Никогда не забуду этого взгляда.
Из под длинных чёрных ресниц на меня глядели не только радость, упоение, благодарность, но и кареглазое изумление. Несказанные вопросы вспыхивали и гасли в каштановой бездне, словно светлячки.
Глаза Эммы светились чем то неведомо прекрасным, излучали всеобъемлющее счастье. Но, несмотря на то что меня тронуло это открытие — ещё одному человеку явилась чарующая прелесть танца, — я лишь невольно ухмыльнулся в доверчивые, сверкающие на меня очи, не разглядев и растоптав нежный цветок, едва взошедший в них.
«Что с того, что с ней удивительно приятно танцевать — пожалуй, приятней, чем с кем бы то ни было? Не станет ли она очередной ученицей, тенью прошлого, которую я вскоре перестану узнавать? Не забуду ли я её и это прекрасное имя через, может быть, пару недель?» — демонами носились вопросы в голове, и последний был самым жестоким.
Среда, или, если угодно, рамки, в которых я добровольно находился, казались мне необходимым условием пути к восстановлению репутации.
«Работа на результат, падение и снова работа — пожалуй, в этом и есть смысл жизни», — думал я тогда.
Со стороны, возможно, я походил на птицу, родившуюся в неволе. Вот открыта форточка — никто не мешает взлететь, а я стою на узком парапете, гляжу в огромные глаза неведомого мира и не решаюсь покинуть клетку, ставшую домом. И пусть, вернувшись к кормушке, поилке и качелям, такая птица, вероятно, станет избегать зеркальца — ведь там нет нет, да выглянет кто то новый, чужой, — я тогда об этом не задумывался.
Эмма отвернулась, и мы продолжили танцевать. Все мысли разом потухли, а на сердце, помимо других чувств, зажглась досада.
Вскоре мы так же успешно завершили второй круг вальса, вновь обойдя паркет студии по периметру, и снова моя партнёрша одарила меня пленительным взглядом.
— Как здорово! — воскликнула она, улыбаясь.
— У тебя прекрасно получается! — сказал я с искренним восхищением, но тут же осёкся и немного смутился.
Да, невозможно обращаться на «вы» к таким глазам, к такому взгляду. Я чувствовал, что это могло бы ранить сердце девушки. Но слова, вырвавшиеся сами собой, сбивали меня с толку.
Эмма улыбнулась ещё теплее — затанцевала ещё лучше.
V
Следующие несколько дней замечательная ученица не появлялась в моей школе. Попытки не придавать этому большого значения давались мне нелегко. Днём, пока я проводил время на тренировках, мысли об Эмме редко озаряли горизонт сознания, но под вечер, убаюканные сумраком и трелью закатных огней, они зажигались и вспыхивали, соревнуясь со звёздами.
Если бы Эмма прямо сказала, что больше не собирается заниматься со мной танцами, я воспринял бы это спокойно. Но её внезапное исчезновение лишило меня покоя. Несколько раз ноги упрямо проносили меня мимо отеля пропавшей ученицы — казалось, кто то заколдовал мои маршруты.
На седьмой день своего отсутствия Эмма снова появилась. Так как время, отведённое для неё, я по привычке не занимал, она застала меня одного.
Ученица рассказала, что ненадолго уезжала из города, а спешка не позволила предупредить.
— Я бы хотела продолжить занятия, — немного виновато добавила она и, улыбнувшись, сверкнула глазами, — если это возможно.
— Приходите в любой день в это же время, — ответил я. — Кажется, оно не слишком удобно остальным ученикам.
— Вы же совсем не знаете! — вдруг воскликнула Эмма. — Теперь у меня появился действительно стоящий повод приходить к вам!
— Золото на чемпионате мира?
— Нет, — рассмеялась она, — бал Парижанок.
— Замечательно! — обрадовался я. — Прекрасное мероприятие, с хорошими традициями и отличной организацией!
Когда первый восторг угас, я спросил:
— Но ведь до него примерно неделя?
Эмма слегка кивнула, её волосы пружинисто качнулись.
— Что ж, не пропускайте занятия — и вы затмите любую дебютантку!
— А вы сами собираетесь идти?
На самом деле друзья приглашали меня, как обычно: на бал собиралось почти всё наше общество. Но мысль о том, что каких то три года назад я ставил в «Интерконтинентале» танец дебютантов, а теперь оказался забытым, отталкивала меня.
— Скорее нет, — признался я. — Впереди соревнования, нужно тренировать учеников.
— Полно вам! — усмехнулась Эмма, выразительно окинув взглядом пустой паркет. — Что-то не похоже, чтобы вы проводили здесь сутки напролёт.
— Вы уже раздобыли приглашения? — спросил я, не придавая значения её шутке.
— Нет, но собираемся сегодня.
— Мы? — небрежно уточнил я.
— Да, мы с подругами.
— Нет, вы пойдёте на этот бал со мной.
Мы оба замерли, глядя друг другу в глаза. Холодность игрока, идущего ва-банк, овладела мной.
— Хорошо, — наконец произнесла Эмма серьёзно.
— О приглашениях я позабочусь, — сказал я. — А вы не забывайте про занятия.
Стайка тренировок пролетела, как птицы, приближая нас к заветному балу. Если в танцах уже не было прежнего удивления и открытий, то Радость и Восторг по прежнему кружили по паркету. После уроков я неизменно провожал Эмму: сначала под предлогом взглянуть на отель, где она жила, а потом это стало нашей традицией. По дороге мы непринуждённо болтали о самом разном — Эмма была легка не только в танце, но и в разговоре.
Однажды она явилась сияющая, как никогда:
— Я наконец то нашла платье! — радостно сообщила с порога.
— Моего любимого кричаще жёлтого цвета!?
Эмма рассмеялась. После неожиданной поездки к морю она вернулась по южному загорелой, и её гардероб изменился: бледно розовые и светлые тона исчезли, уступив место глубоким синим, зелёным, чёрным и моему любимому красному. Эти цвета подчёркивали смуглую кожу и мягкое сияние её глаз.
— Нет нет, не пытайтесь угадать! — улыбнулась Эмма.
— Скажите хоть, какого оно цвета, — взмолился я, стараясь удержать любопытство. Сделав пару шагов, подошёл к шкафу у стены. — Надо же мне знать, какой из нарядов выбрать, — повернулся я к ней с двумя фраками, — красный или зелёный?
Взрыв звонкого хохота разукрасил студию.
— Боже, где вы их откопали?
Фраки были молча убраны на место.
— Вы уходите от ответа! — притворно возмутился я.
— Вы начали первым! — заметила Эмма, направляясь за ширму. — Ничего я вам не скажу!
VI
Чтобы отвезти Эмму на бал, я решил одолжить автомобиль у приятеля. В таких случаях первым на ум всегда приходил Паскаль Корне. С этим молодым философом, как его иногда называли, мы были знакомы со школьной скамьи. У каждого из нас была своя страсть, которая делала обоих изгоями в стенах института жизни.
Увлечением Паскаля были голуби, и едва заканчивались уроки, он спешил к голубятням с тем же рвением, с каким я бежал на паркет. Теперь он жил в пригороде Парижа и зарабатывал теми же птицами: дрессировал их, сдавал в аренду на праздники, продавал циркам, зоопаркам и частным коллекционерам. Иногда, когда с деньгами было туго, он поручал мне или кому то другому присматривать за своими питомцами, а сам на три–шесть месяцев уходил в море. Почти весь его багаж в этих путешествиях составляли одна две клетки с голубями, которых он после отправлял домой, прикладывая к посылке письмо о своих скитаниях.
Мне лишь однажды довелось присматривать за этим живым богатством — работа оказалась нетрудной. Одни вольеры на время путешествий оставались открытыми, и птицы сами добывали себе корм; другие были оборудованы автоматическими кормушками. Небольшой ручей, протекавший у дома Паскаля, он однажды «пригласил в гости», направив его русло к голубятням, — так появился живительный отвод с чистой водой. Моя забота сводилась к тому, чтобы раз в неделю чистить вольеры, проверять кормушки, следить за пернатыми и читать письма, которые доставляли голуби почтальоны.
Хотя Паскаль часто пользовался своей машиной, я всегда мог просто попросить её — и он, смеясь, отвечал: «Бери!» После этого мы вместе отмывали автомобиль снаружи и внутри, вытаскивали из него хлам и тканевые накидки, защищавшие обивку от перьев.
— Паскаль, — подшучивал я, — когда ты перестанешь возить птиц и начнёшь катать птичек?
Он добродушно смеялся. Эта шутка, похоже, ему нравилась.
Однако, немного подумав, я понял, что для бала его простоватая машина, прошедшая путь от Moderne к Vintage, пусть и овеянная ореолом романтики, будет не лучшим выбором. Пришлось договориться с другим знакомым о представительном автомобиле.
В день бала, ожидая Эмму в роскошном фойе её отеля, облачённый в свежий фрак, я ощущал радость достойного человека и чувствовал, как невидимая спутница — уверенность — берёт меня под руку.
Вскоре моя пара появилась. Если ожидание было приятно, то увидеть Эмму в бальном наряде оказалось подлинным испытанием. Тёмно коричневое платье в пол нежно подчёркивало смуглую кожу, гармонировало с каштановыми волосами и откликалось в глазах. Околдованный этим видением, я забылся, пока знакомый голос не разбудил меня:
— Вижу, моё платье вам понравилось! — рассмеялась Эмма, удивляясь моему превращению в истукана.
— Оно восхитительно, — выговорил я с трудом.
Эти ощущения были новы для меня — и прикосновение к чему то неведомому, и глубина бездн, в которые срывалось моё сознание, пугали и восхищали одновременно. Я будто поднимался высоко в небеса, а затем падал обратно, едва успевая дотронуться до звёзд.
Я боролся с лёгким головокружением и не помнил, как мы вышли на улицу, как сели в машину.
«Открыл ли я ей дверь?» — прозвенело в голове. Когда я окончательно пришёл в себя, автомобиль медленно поднимался по проспекту святого Михаила.
Мой взгляд, жадно вернув себе крылья, бросился к пассажирскому сиденью: «Здесь ли она?»
Эмма, укутанная в негу молчания, задумчиво смотрела на изумрудные деревья, обнимавшие бульвар. Её глаза казалось задавались вопросом: «Каково это — оказаться на балу?»
Теперь я мог рассмотреть каждую деталь. Ловко собранные косы венчали её голову, диадема в виде сияющего месяца мерцала среди тёмных волос. Серебряные серьги и колье неброско оттеняли кожу. Прозрачный шифон прикрывал плечи, переходя в расшитый блестками корсет, а шёлковая юбка, словно речная гладь под утренним туманом, скрывала своё сияние за лёгким слоем газа с бисерными узорами.
— Ты удивительна! — вырвалось у меня. — Была бы Золушка поразборчивей, она непременно выбрала бы шоколадное платье!
— Много ты понимаешь в нарядах! — рассмеялась Эмма, весело взглянув на меня.
Оставив машину в квартале от «Интерконтиненталя», мы пошли пешком. Эмма держала меня под руку — волнение слегка путало её шаги. Со стороны могло показаться, что в туфлях на каблуке она была почти одного со мной роста, но куда бы мы ни шли, я всё равно ощущал себя гигантом: облака гордости касались моих глаз. Каждый шаг этого хрупкого создания отдавался эхом в груди, каждый взмах ресниц будоражил мысли. Почему с другими я не ощущал ничего похожего?
Наконец мы добрались до отеля и вошли внутрь.
Глубокие бордовый, зелёный и тёплые бежево коричневые тона наполняли холл. Разношёрстная публика гудела. Стеклянный потолок пирамидой тянулся к небу. Не желая пропустить выход дебютантов, мы направились в главный бальный зал.
Под куполом лучился золотой орнамент, а из центра свисала новая звезда — хрустальная люстра. По периметру зала в два яруса росли колонны с факелами светильниками. Между арками зеркал и окон на балкончиках стояли мраморные статуи, спокойные и сияющие, как свидетели праздника.
Едва мы успели налюбоваться великолепием, как оркестр у камина начал увертюру, и объявили полонез дебютантов. Распахнулись боковые двери.
Оркестр усердно наполнял сердца собравшихся великолепной музыкой. Эмма залюбовалась синхронностью чёрно-белых движений, а я невольно стал восхищаться ею, потеряв на время всякий интерес к хореографии.
Однако вскоре мысли и чувства увлекли её прочь:
— Джозеф, — обратилась она ко мне, — я придумала знаки!
— Какие знаки? — удивился я.
— Смотри, если ко мне подойдёт кавалер и попросит позволения пригласить меня...
— Эмма! — добродушно пожал я нежную ладонь.
— Нет-нет, я серьёзно. Ведь даме не к лицу грубо отказывать.
Я дипломатично согласился и выслушал эту милую идею, не считая нужным утруждать себя её запоминанием — не хотелось лишать себя права решать самому.
Вскоре чёрно-белый вальс, дождавшись своего часа, стал окрашиваться фигурами танцующих гостей. Всех одолело желание танцевать. Несмотря на тесноту, счастье искрилось в глазах Эммы. Первый танец на первом в жизни балу — как много он значит для девичьего сердца! Многолюдье лишь усиливало блеск торжества, завораживая сменой лиц, и даже неловкие пары, которые порой налетали на нас, забавляли её.
После нескольких танцев мы отправились искать наши места за столиками.
Есть такой миг на балах, когда даже лучшие знакомые, завидев друг друга издалека, ограничиваются лёгким кивком: одни спешат на паркет, другие — к буфету, третьи, позабыв обо всём, ищут кого-то в толпе. Эти приветствия похожи на условные знаки разведчиков или настороженный оскал собаки — время ещё не пришло. Пройдут стаи минут, бал переведёт дыхание — и тогда все начнут кланяться шире, останавливаться, обмениваться рукопожатиями и восклицать: «Ба! Кого я вижу!»
Избегая толпы, мы пробрались в соседний зал под расписным потолком, где белоснежные столы сияли серебром приборов, цветами и свечами. Я не хотел полностью изолировать Эмму, потому заранее выбрал стол на несколько персон. Нашими соседями оказались приятные люди — в основном пожилые. Каждый из них находил повод восхититься её нарядом или позавидовать её вкусу.
Мы только начали знакомство, едва притронулись к блюдам и вину, как желание танцевать вновь овладело Эммой. Возвратиться на паркет оказалось непросто: множество знакомых останавливали нас. Сначала мне было лестно представлять спутницу, перекидываться короткими фразами, но после пары десятков вежливых кивков Эмма заскучала, и нам пришлось вновь манкировать ответы.
Открыто уклоняться было нехорошо: стремление восстановить своё имя диктовало осторожность, ведь среди гостей были и влиятельные люди, и устроители будущих конкурсов, и журналисты. Когда пролетело несколько танцев, я решил разнообразить светские приветствия и сделать их интереснее для Эммы. Но она внезапно оставила меня — собиралась найти подруг. Мне показалось, что это даже к лучшему: «восстановлю нужные связи», — подумал я.
Однако довольно скоро заметил, что без неё беседы не клеятся. Мы поменялись ролями, и теперь уже меня обходили вниманием. Неужели это из за давних обид? Я чувствовал себя изгоем: собеседники рассеянно переглядывались, ответы становились сухими и формальными. Устав, я отошёл к своим друзьям. «Может, дело всё-таки в ней?» — мелькнуло в голове.
Наш небольшой кружок стоял у паркета, мысли и фужеры витали в воздухе, разговор прерывался смехом. Один из моих товарищей познакомился с иностранкой, не понимавшей по французски, и привёл её к нам. Он уговаривал нас не переходить на английский, а она, не смущаясь, говорила на тарабарщине. Чего он только ей ни обещал! Мы подыгрывали: кто пытался «отбить» гостью, кто утверждал, будто где то уже её видел. Но вскоре мяч шутки был уронен:
— Смотрите! — сказал кто то, указывая на паркет.
Моему удивлению не было предела: Эмма танцевала вальс с военным. Бал вошёл в ту фазу, когда пространство освободилось, и можно было наблюдать пары.
Пожалуй, я испытал нечто похожее на чувства художника на первой выставке собственных картин. Одно дело — видеть их рядом, подолгу вглядываться, и совсем другое — издалека, среди чужих взглядов. Я никогда не считал себя большим наставником Эммы. Скорее, она учила меня — чувствовать. Поэтому, впервые увидев её на паркете со стороны, я ощутил чистое восхищение. Но вскоре оно смешалось с тревогой и лёгкой ревностью.
Её партнёр — воплощённая осанка и сдержанная сила — вёл уверенно и благородно. Эмма же двигалась легко, словно слыша не музыку, а дыхание танца. Их дуэт был полон контрастов: юность весны и зрелость осени, нежный сад и суровые гусеницы войны. Они притягивали взгляды, и мне показалось, будто весь зал следит за ними.
Когда танец закончился, военный проводил Эмму к зрителям. В тот же миг она заметила меня и, словно снова ожила вместе с музыкой, направилась к нашей компании. Весело поздоровалась, подарила мне лёгкий реверанс — я засмеялся и ответил поклоном.
Мои друзья, кажется, онемели от удивления, когда самая красивая девушка бала не только подошла к нам, но и взяла меня под руку. Признаться, я и сам замер от удовольствия.
— Вы изумительно танцуете, — почтительно сказала наша «иноязычная» знакомая на чистом французском.
Мы расхохотались.
— Да ну их! — сказал я Эмме, беря её за руку. — Потанцуешь со мной?
Заиграл лёгкий фокстрот. Пока мы кружились, я объяснил Эмме причину общего веселья и добавил:
— Издалека ты особенно красивая.
— Только издалека? — приподняла она бровь и рассмеялась. — Пока я тебя искала, меня многие приглашали. Этот был всего лишь второй.
— Значит, твои знаки не пригодились.
— Ещё не вечер, — загадочно улыбнулась Эмма.
Оставшуюся часть праздника мы действительно не расставались. Мне хотелось, чтобы Эмма танцевала и с другими, не ограничивая себя, но и не хотелось её отпускать. Приходилось вежливо отказывать всем, и, кажется, моя партнёрша вовсе не расстраивалась — я догадывался, что с другими ей было не столь приятно танцевать.
Решив развлечь её и заодно подойти к нужным гостям, я продолжил представлять её знакомым. Они, к слову, стали гораздо радушнее: многие уже успели заметить Эмму на паркете. Однако было неловко представлять её своей ученицей, поэтому я поступил иначе. На балу ей временно была вручена шуточная фамилия По — та самая, что с первого дня иногда прилипала к ней заочно. Кроме того, я изображал её кем угодно, только не ученицей: писательницей, балериной, теннисисткой, художницей, а однажды даже русской принцессой.
Эмма охотно подыгрывала, ловко отвечала на «профессиональные» вопросы и, казалось, разбиралась во всём. Иногда и сама выдумывала шутливые истории, вызывая смех и симпатию.
— Эмма По, знаменитая художница, — объявил я, представляя её приземистому господину, знакомому Анджелы.
— Ба! — удивился он. — И какова ваша специализация, мадмуазель?
— Мне особенно удаются пейзажи и портреты, — улыбнулась Эмма. — Сейчас я работаю над картиной «Лгунишка».
— Хм... любопытно, — задумчиво почесал подбородок собеседник. — А ведь мой друг недавно жаловался на отсутствие сюжетов. Посоветую ему вашу идею — она чудесная!
— Благодарю, — рассмеялась Эмма.
Когда мы отошли, я заметил:
— Я бы с удовольствием посмотрел на эту картину. Где её можно увидеть?
— В Лувре! — не задумавшись, ответила художница. — Разумеется, тридцать первого сентября.
Но несмотря на всё веселье, самым восхитительным на балу оставался сам танец с Эммой. Привычка давно превратила даже самые блистательные балы в обычное для меня дело. Подобно людям, которые перестают замечать красоту книги — шершавость страниц, запах чернил, звук перелистывания, — я давно перестал восхищаться блеском торжеств. Но Эмма была особенной. Она словно воплощала саму природу — ту, к которой невозможно привыкнуть. В ней жила новизна: ведь не бывает двух одинаковых молний, снежинок, рассветов или закатов.
Поэтому и бал, и паркет, и все движения вокруг вновь обрели свежесть юности.
Однако, на фоне этих чарующих ощущений я — по давней привычке — внутренне готовился к тревожному повороту. Это не была меланхолия, просто я, привыкший с детства видеть маршрут своего пути, терял покой, когда впереди не видел моста хотя бы из шатких досок.
Рано было размышлять о будущем — мы оба понимали: Эмма приехала на каникулы из России и рано или поздно уедет. Я не знал, когда именно, но был уверен, что уедет.
Неопределённость этих чувств, в которых труд и упорство уже ничего не решали, придавала жизни особую красоту. И потому Эмма становилась для меня настоящим сокровищем.
Я благоразумно решил не дожидаться самого конца бала — того неловкого момента, когда веселье спадает, и ты вдруг начинаешь прозревать. Каково это — видеть, что скрывается под иллюзией фокусника или под столом, где шаловливая туфелька раздаёт внимание направо и налево!
Уметь уйти вовремя — искусство, сродни тому, чтобы встать из-за стола с чувством лёгкости или выпить и остаться человеком.
На обратном пути к машине Эмма без умолку делилась восторгом от бала. Её переполняло чувство прекрасного: она готова была обнять каждый дом, каждое дерево, каждый фонарь.
— А ту мелодию ажурного вальса, — (так она называла фигурный вальс), — ты помнишь? Помнишь?
Я, не скрывая восхищения, кивнул; но ей, кажется, было не до ответов. Она дважды прокружилась, тихо напевая: «та-та-та, та-та-та», — и её платье распустилось живым цветком. Каблучки звенели: «цок-цок-цок». Опасаясь, как бы она не оступилась на камнях, я подхватил её и закружил. Эмма рассмеялась и, отдышавшись, прижалась ко мне чуть крепче, чем обычно.
В машине она почти заснула, и всю дорогу мы молчали. Когда добрались до отеля, моё сердце колотилось, как никогда.
— Мы ещё увидимся? — спросил я, прилагая невероятное усилие, чтобы скрыть волнение.
— А ты этого хочешь? — с лёгкой насмешкой ответила она.
— Спрашиваешь?! — выдохнул я, почти не веря в собственный голос.
— Спасибо за вечер, — произнесла Эмма тихо.
Она стремительно чмокнула меня в щёку, выпорхнула из машины и исчезла за дверью отеля.
Ещё несколько мгновений я сидел в оцепенении — дивясь, как у неё хватает лёгкости после утомительной ночи... и как одно мгновение способно обратить зрелого мужчину в беззащитного школьника.
VII
Не раньше полудня открылись мои глаза на следующий день. Решив заглянуть за Эммой и, возможно, позавтракать вместе, я стоял у зеркала внизу и безуспешно боролся с запонками, когда дверь студии распахнулась — на пороге засияла Эмма.
— Вот здорово! — воскликнул я. — Помоги мне с этими упрямцами.
— Ты вообще читал газеты? — спросила Эмма, размахивая свежими изданиями.
— Дожидался почтальоншу! — ответил я, забирая газеты. — Пошли завтракать.
— Дай сюда! — нетерпеливо настояла она, когда мы вышли на улицу, а я, зажав газеты под мышкой, продолжал возился с вредными запонками.
— И о чём же сегодня пишут? — спросил я, любуясь её лицом, вдруг ставшим серьёзным. — Бьюсь об заклад, все статьи о тебе — о том, как ты вчера блистала на балу!
Эмма с нарочитой строгостью взглянула на меня из под длинных ресниц:
— А ты почитай, почитай, дурень!
Добравшись до уютного кафе, мы устроились за столом, и я развернул газеты.
«Вчера Гранд отель “Интерконтиненталь“ распахнул двери для гостей великолепного бала парижанок. Шестьдесят восемь пар дебютантов открыли вечер знаменитым вальсом “На прекрасном голубом Дунае” Иоганна Штрауса, исполненным на французском языке под аккомпанемент оркестра “Евгения”…» — примерно одинаково начинались все статьи.
В одной из них следовала историческая справка, в другой — описание банкета и танцев.
В конце обеих публиковался список гостей, где значились «знаменитая художница Эмма По (живое воплощение искусства)» и «Эмма По, иностранная принцесса, говорящая на чистом французском».
— Какой ужас, — театрально вздохнул я. — Они явно переборщили с “чистым французским”. Я ведь не осуждаю твои belles paroles [фр. красивые слова], они чудесны, но факт, что с иностранцами ты разговаривала по английски, просто вопиющ!
— Что ты за дурак! — возмутилась Эмма. — Тебя совсем не смущает, что они называют меня “знаменитой” и “принцессой”? Одно дело — шутка, другое — печать газеты.
— Ну брось. Однобокие факты, а то и выдумки — любимое занятие журналистов, кого теперь этим удивишь? Но ведь ты, правда, знаменита: даже в газетах о тебе пишут. — рассмеялся я. — К тому же эта короткая фамилия создаёт тебе инкогнито. Что до языка — подумаешь.
Видя её недовольство, я попытался разрядить настроение:
— Ты же настоящая принцесса! — Она покачала головой. — Не веришь? Но признайся хотя бы, ты ведь девушка?
— Наглец! — вспыхнули каштановые глаза.
— А есть у тебя документ, удостоверяющий это?
— Non-sens! У меня есть паспорт!
— Он лишь подтверждает гражданство, — парировал я. — А девушка узнаётся и без бумаг. Так и принцессу отличают воспитание, манеры и ум. Вот даже на этой фотографии, — я поднял газету, — разве здесь ты не похожа…
— На каком ещё фото?! — глаза Эммы округлились.
— Ты не видела? — рассмеялся я. — А вот я здесь вышел вполне статным. Погоди… почему на мне форма? Что за медали?!
Пока я задавался вопросами, Эмма всё пыталась вырвать газету.
— Дай же наконец посмотреть!
За секунду до взрыва женского терпения я вернул её собственное изображение.
— Надо же! Я себя не узнала. Вот почему утром эти газеты лежали у моей двери!
На фотографии в четверть полосы она была запечатлена в движении. Высоко и гордо неся голову, Эмма улыбалась. Названная «принцесса» держала меня под руку и смотрела чуть в сторону; подол платья замирал в полёте. Мой же силуэт остался за кадром — лишь кусок моей руки попал в объектив, а остальные гости вообще утонули в размытии.
— Ну разве ты здесь не принцесса? — сказал я, стоя за её спиной.
— Хорошее фото, — заключила она, откинув голову так, что коснулась моей руки, лежавшей на спинке стула. — Жаль, что ты не поместился.
— Ну что ты, сherchez la femme, — [фр. ищите женщину] рассмеялся я.
Последующие две недели мы виделись почти каждый день. Мы обходили музеи, бродили по улицам и мостам Парижа, наслаждались французской кухней и мороженым. Все мысли и чувства принадлежали лишь нам.
Школа тем временем опустела, но моё сердце было полно. Все былые цели и мечты отступили, перечёркнутые стрелками на чулках ангела. Разве юность думает о расчётах? Разве любви нужна стратегия?
Я закрывал глаза на необходимость развивать школу и даже просто зарабатывать. «Неужели у меня не может быть отпуска?» — оправдывался я перед собой. Эмма обладала массой свободного времени и с радостью делилась им со мной. Мог ли я отказаться от такого сокровища?
VIII
Когда весь Париж оказался исследован, мы с Эммой отправились в пригород. Мы и до этого бывали в парках и заповедниках, но то место было особенным — дальше других и будто окутанное тайной. Я не знал его настоящего названия, но друзья называли его «Бархатная гора» — из-за бархатцев, каждый год расцветающих на её склонах.
Согласно легенде, когда то в домике на этом холме жила пожилая пара. Единственным украшением их скромного жилища, помимо любви, была клумба с оранжевыми бархатцами, которые так любила хозяйка. После её смерти старик продолжил высаживать эти цветы в память о ней. С годами он терял зрение, а, возможно, и рассудок: всё ещё ходил по горбатой спине горы, рассыпая семена, даже тогда, когда цветы уже тянулись к нему со всех сторон. Время прибрало и его. Дом разрушился, но бархатцы, словно забыв, что они однолетние, цвели каждый год, напоминая о вечной любви.
К «Бархатной горе» мы добрались на автобусе. Пока я рассказывал легенду, Эмма смеялась, прижимала губы к моей щеке, то сжимала мои пальцы, то взъерошивала волосы, и глаза её сверкали безрассудным счастьем.
— Что ты делаешь? — попытался я удержать и её, и себя. — Ты сегодня сама не своя.
— А что, нельзя? — передразнила она. — Может, я и правда больше не своя?
Она прижалась ко мне, заглянув в лицо; локоны, взлетев, возвращались на место мягкими волнами.
— Мой прекрасный Джозеф, мой Париж, — прошептала она с восторгом. После короткого поцелуя добавила чуть виновато: — Расскажи, куда ты везёшь меня? Я ведь ничего не поняла.
Я продолжил историю, и Эмма успокоилась. Склоня голову, задумчиво слушала, посвятив блеск глаз видам за окном.
Так переменились наши отношения после бала. Когда это случилось? Я не мог ответить. Невозможно сказать, в какой момент руки влюбились в руки, голос наполнился нежностью, а карие глаза стали самыми родными. Всё произошло и медленно, и внезапно; мы перестали считать шаги и минуты, забыв о конечности мгновений. Грядущее скрывалось в тумане неведения, прошлое не имело значения.
Наконец мы добрались до места. От автобусной остановки пошли по грунтовой дороге, покрытой редкими камушками. Тропа, словно обнимая гору, вела вверх.
— Как здесь красиво! — сказала Эмма, когда мы поднялись достаточно высоко.
Перед нами открылся чудесный вид: среди домов и дорог серебрилась Сена, петляя, как тонкая лента. Мы присели на лавочку. Подниматься выше значило отвернуться от города. Я снял рюкзак — из за которого утром был прозван «школьником» — и достал банку с крупно нарезанными фруктами. Эмма рассмеялась, но благодарно приняла угощение.
— Несмотря на то, что такие банки можно увидеть только во Франции, — сказала она, — ты напомнил мне детство.
Она оживилась, рассказывая:
— Летом меня отправляли к бабушке. Там были животные, и я могла играть с козлятами — пушистыми, белоснежными, смешными. А в лесу мы собирали землянику: казалось, что я съедала целую тонну. А когда мы наконец возвращались домой, бабушка словно волшебница откуда-то вдруг вынимала пол-литровую банку ягод. Как чудесно пахло из такой банки! Ягоды пересыпались в тарелки, заливались коровьим молоком, крошился испечённый дома хлеб, и мы снова принимались за амброзию.
— Прекрасно, — мечтательно заметил я. — И чем ты ещё занималась у бабушки?
— Детей поблизости не было, я рисовала или играла с собакой. О, это был удивительный пёс: я давала ему понюхать какую-нибудь палку, говорила "сидеть", затем бежала в близлежащий лес и где-нибудь прятала её. Как я не пыталась путать следы, палка через считанные минуты оказывалась у моих ног… А однажды мы сделали качели: две верёвки, доска и молодая сосна. Я качалась, и небо мелькало сквозь ве узорчатые лапы ветвей… потом я украшала качели цветами, показывала их козлятам и собаке.
Мы рассмеялись.
— Ты удивительная, — сказал я.
Эмма вздохнула:
— Потом я приехала снова — и всё исчезло: ни качелей, ни собаки, ни козлят. Хотелось вновь испытать то счастье, но время всё переменило. Тогда я поняла: оно неумолимо, и приняла как данность то, что оно способно так неумолимо всё менять.
Позже я осознал: именно для того, чтобы не замечать власти времени, Эмма старалась жить одним днём.
Вдруг из за наших спин сорвались две птицы.
— Это знак, — улыбнулся я. — Знак того, что мы будем вместе.
— Джозеф, тебе ведь только что рассказали, как всё меняется, — грустно сказала она.
— Ты права, — кивнул я. — Но, может, всё же это знак.
Я рассказал ей о Паскале и его голубях.
— Вчера я позвонил ему и сказал, что еду на "Бархатную гору" с самой красивой девушкой на свете.
— Так и сказал? — прищурилась Эмма.
— Конечно. Попросил машину: автобусы ведь не ходят допоздна, а отсюда так хорошо видно закат. Просил, чтобы он подъехал к нам — вы бы подружились, но Паскаль, как всегда, сделает по своему.
— А если это не он? — улыбнулась она. — Пошли, посмотрим.
Мы продолжили прогулку.
— Завтра я уезжа… — начала Эмма, но споткнулась. Я успел подхватить её.
— Сильно ушиблась? — спросил я.
— Нет, — едва выдохнула она.
— Чёртовы камни! — возмутился я.
Эмма зажала ушибленный палец, в глазах блеснули слёзы. Я попытался шуткой развеять боль:
— Взять бы тебя на руки, да ты, наверное, тяжёлая.
— Благодарю! — ожила она. — Сама дойду.
После нескольких шагов я всё-таки поднял её на руки.
— Кто то говорил, что хочет вернуться пораньше, — сказал я решительно.
— Осторожнее, — шепнула она.
Впрочем, мы не стали передвигаться намного быстрее, ценный груз требовал внимательности.
— Небожительница, — сказал я. — Самое тонкое облако удержит такую лёгкую.
— Ага, — улыбнулась Эмма, — на меня даже весы почти не реагируют.
— Если положить на другую чашу пушинку, тебя подбросит, — ответил я.
Солнце начало клонится к закату. Его скрывала огромная взбитая туча: лучи пробивались сквозь неё, отражались и, усилившись, вырывались наружу.
— Похоже на бегемота, — заметила Эмма.
Луч сиял на теле тучи, словно живая рана неба. Постепенно он скользил по долине, приближаясь к нам. Мы стояли, затаив дыхание, пока свет не достиг нас. Солнце внимательно оглядело нас и "бархатную гору", затем на время скрылось и вскоре снова появилось на небе уже без какой бы то ни было вуали, радуясь тому, что больше нет препятствий на пути к горизонту.
Вскоре мы увидели машину Паскаля — открытая дверь, ключи в замке. Из еды остались припасы: мы устроили небольшой пикник прямо на длинном капоте. Закат одной звезды уступал небу место другим, и лишь редкие падающие звёзды на время превращали нашу оживлённую беседу в тихое, счастливое молчание.
IX
На следующий день я проснулся довольно рано — нужно было вернуть машину. Всё ещё окутанный эйфорией вчерашнего дня и вечера, я спустился вниз под покровом счастья. Но вдруг внимание отрезвило белое пятно на тёмном паркете.
«Это было чудесное лето, Джозеф! Если признаться, лучшее лето в моей жизни… Никто и никогда не чувствовал меня так, как это удавалось тебе (и это касается не только танцев). Но сегодня я уезжаю.»
Остаток записки я читал уже в такси: сесть за руль самому было невозможно.
«Мы жители разных городов и стран, но дело не в этом. Разве ты не понимаешь, что мы сделали друг с другом? Твоя школа опустела, а я ослепла — словно вовсе не была ни в одном из музеев. Тебе нельзя забывать свои цели, какими бы они ни были. А мне… Все ждут, что я чего то добьюсь, но я пока не знаю чего именно. Трудно сделать выбор, когда перед тобой весь мир. Париж великолепен, но ведь мир так велик, стоит ли себя ограничивать?
Быть может, наши чувства со временем станут приятными — как запах земляники — воспоминаниями?
Мой Джозеф, мой любимый Париж, прощай!»
По дороге в аэропорт сердце ныло от не только от негодования, но и от пустоты — крушение надежд словно заморазило всё моё естество. Тогда я вспомнил, как Эмма, обмолвившись перед падением, говорила, что уедет. «Почему я не придал этому значения? Только ли из за её ушиба? Или я не расслышал того, чего не хотел слышать?» — вспыхивали вопросы. «Неужели она действительно так бесчувственна?..»
На ватных ногах я метался по зданию огромного аэропорта, пока, наконец, не нашёл Эмму.
Когда я увидел её, остановился в немом вопросе. Её заплаканное лицо — как ни странно — стало доказательством того, что у нас всё ещё хорошо. Увидев меня, она отвернулась, наклонив голову, но её острый носик, словно непоседливый ребёнок, продолжал наблюдать из под волнистых волос. Я подошёл ближе.
— Эмма, — позвал я, — неужели принцессы прощаются так?
— А как они прощаются? — блеснули на меня её глаза из под тёмных бровей.
Я протянул руку, и она приняла её.
— Во первых, так, — я обнял её, — во вторых, так, — закружил в объятиях, — и, в третьих…
— Вид у меня тот ещё для принцессы, — тихо сказала Эмма. — Зачем ты приехал?
— Зная твою любовь к самокритике, — ответил я, — я привёз тебе записку, чтобы ты исправила одну ошибку.
— Какую? Не верю, там нет ошибок!
— Есть. — Я развернул листок. — Вот здесь, — карандаш указал на adieu [фр. прощай]. — Пишется, как слышится: au revoir [фр. до свидания]. Исправь, пожалуйста.
Эмма рассмеялась.
— Ты совсем не умеешь обращаться с девушками!
Я предложил ей не загадывать о будущем, каким бы трудным оно ни казалось. Зачем сжигать мосты? Кто знает, куда приведёт жизнь? Я пообещал не питать ложных надежд, если ей этого не хочется, но попросил остаться друзьями. Мне было необходимо сохранить хотя бы крохотную возможность, пусть даже мнимую.
Я добился от Эммы заветной правки — «au revoir» вместо «adieu» — и узнал её номер телефона: до этого мне был известен только номер парижского отеля.
Вскоре объявили посадку. Она с подругами направилась к выходу, а я стоял неподвижно, пока её фигура не растворилась в потоке людей. Мне показалось, что мой приезд немного облегчил нам обоим сердце.
Хотел бы я удержать Эмму? До боли. Но мог ли? У каждого из нас была своя дорога — словно рельсы с редкой развилкой. Меня ждала необходимость вернуться к школе, а рядом с Эммой было невозможно думать о работе. Всё чего мне хотелось рядом с ней: слушать её, смотреть в эти карие, бесконечно живые глаза, делить каждое мгновение.
Но разум, растревоженный её словами, требовал открыть глаза и увидеть пропасть. И всякий раз, когда я открывал глаза разума — я становился глух к напевам чувств.
X
С тех событий прошло около полугода. Я всё так же возился со своей школой, но осью всех мыслей по прежнему оставалась Эмма. Планеты воспоминаний и мечтаний кружились вокруг привычного солнца.
Поначалу маяком на горизонте будущего мерцала надежда: я ждал конца первого месяца разлуки, чтобы позвонить Эмме, и всё казалось почти радостным, почти светлым. Но когда дозвониться по заветному номеру не удалось, острое чувство утраты перевернуло мне сердце. Оно брыкалось в груди, как пойманный зверь. Я снова и снова набирал выученные наизусть цифры, но всё было тщетно. Тогда Париж показался серым и безрадостным; я невольно вспомнил Достоевского — его свинцовый Петербург был до боли похож на мой Париж. Я бродил по этим ненавистным улицам и повсюду чудилась Эмма: в блеске каштанов, на волнах Сены, в порывах ветра. Эмма, Эмма, Эмма… Каждая площадь и каждый мост напоминали о ней. Каких трудов стоило танцевать с ученицами, удерживая улыбку на лице! Я избегал тех, с кем мы общались на балу, перестал навещать Паскаля и чаще проводил время с Евой, Анджелой и другими друзьями.
«Почему я не взял её адрес?» — мучило сожаление.
«Но разве стала бы она отвечать? Обрадовал бы её мой внезапный приезд?»
Негодование и тоска были чужды моей натуре. Я понимал, что эта агония не вечна и рано или поздно рассосётся.
«Разве стоит себя ограничивать?» — повторял я её слова.
Мы прожили прекрасное лето — лето без условностей, которыми живёт общество. Но взгляды оторвались друг от друга, и мы увидели эти условности. Тогда я, как и Эмма, был слишком юн, чтобы понять: настоящим чувствам нет дела до рамок, они не видят и не боятся пропастей. Эмма решила, что каждому из нас пора заняться своим делом; ведь нельзя вечно смотреть друг другу в глаза. Я с ней согласился и был уверен: в Париж она не вернётся ближайшие годы. А если вернётся — всё уже будет иначе.
Поэтому ждать было бы глупо. Хотя в глубине души я чувствовал, что любимый образ не покинет моё сердце все же понимал: нужно жить дальше. Без предположений, замыслов и надежд. Нужно работать, действовать, жить по инерции, а там будь что будет.
Новых учеников становилось всё больше, школа снова обретала известность, и это немного подбадривало. Остервенение, с которым я поначалу бросался в работу, постепенно сошло на нет. Но даже тогда я не мог позволить себе сблизиться с ученицами — не из верности, а потому что сама мысль о мимолётных отношениях казалась пустой и горькой.
Настоящие знакомства — те, где соприкасаются души, — стали для меня невозможны.
Почти каждую пятницу я выбирался куда нибудь с Евой. После насыщенной недели я соглашался на любые её приглашения. Её общество по прежнему оставалось лёгким и приятным: у нас хватало тем для разговоров, мы смеялись, подшучивали, а временами она умела подбодрить и уверяла, что я «способен на большее». Впрочем, в последнее время Ева требовала внимания тоньше и настойчивее. В её разговорах начали появляться странные намёки. То она рассуждала, каким должен быть идеальный муж, между строк перечисляя мои качества, то намекала, что знает, как улучшить мои дела, но оставляла сказанное без объяснений.
Когда её уклончивость раздражала меня, я вспыхивал, но она не обижалась — просто переводила разговор, и во мне оставалась лёгкая тревога: чего она хочет на самом деле?
Тем временем самый неутомимый странник — время — заволок образ Эммы туманом. Птицы перестали петь её голосом, а бокал игристого вина больше не напоминал её смех. Но она не покидала сердца. Я всё так же верил: Эмма, как бы банально ни звучало, создана для меня. Раньше мне казалась нелепой сказка, где герою нужно узнать возлюбленную среди дюжины одинаковых копий. Но после встречи с Эммой я понял, что такое возможно — её взгляд невозможно спутать ни с каким другим, даже среди тысяч лиц. Эти глаза стали ключом ко всем тайнам моего мира.
Чувство, родившееся во мне тогда, оказалось неистребимым. Но его свет поблек, оно стало хронической болью, лекарство от которой — не замечать. Я не был астрономом, чтобы превратить Эмму в звезду, не был пиратом, чтобы сделать её сокровищем. Я был просто человеком, и, не осознавая, сделал её своей жизнью.
Сквозь привычку постепенно возвращалась прежняя бодрость; мне казалось, дни вновь обретают весёлость.
Как то вечером, в одном из баров, мы с Евой «вермутничали», как любили выражаться знакомые. Вино текло своим чередом, беседа — тоже. И вдруг, словно громом, прозвучал её прямой, тяжёлый, как корпус пехоты, вопрос:
— Джозеф, почему бы нам не жениться?
Я пожал плечами и попробовал отшутиться:
— Мой вариант брачного контракта тебе точно не подойдёт.
— Подойдёт! — парировала она. — Давай, пиши. — И, будто фокусник, достала из сумочки ручку и салфетку.
Я растерялся, но, поддавшись моменту, набросал пару пунктов, которые должны были сразу пресечь разговор, и вернул ей салфетку.
— Дакар [d'accord (фр.) - ладно, хорошо], я согласна, — сказала Ева.
— Но ты даже не прочла!
— Наверное, ты написал что то невозможное, — улыбнулась она. — Но люди женятся, чтобы вместе преодолевать невозможное. Впрочем, прочту — из уважения
Шутка перешла в странную серьёзность.
— Дакар, — спокойно повторила она, закончив чтение.
Ева вовсе не говорила о браке в обычном смысле. Она, как талантливый ученик, умела разглядеть перспективы не хуже учителя. Я вдруг увидел, какие пути открывает этот союз: новые вершины, новые возможности. Мы оба понимали, что это будет не любовь, а расчёт. Ева видела во мне инструмент для осуществления собственных дерзких планов, но и я ощутил азарт — как когда то, стоя на пороге очередной победы.
Она напоминала полководца, который, оказавшись на неудобной местности, всё же произносит: «Ладно» — и бросается в атаку, решив работать с тем, что есть.
И тогда я вдруг почувствовал тот давно забытый вкус стремления к вершине, вкус предстоящей борьбы и победы, от которого когда то началась вся моя жизнь.
XI
Предложения с кольцом не было — мне не хотелось играть роль Ромео, а для практичной Евы была важна суть, а не мишура. В тот вечер мы, словно заговорщики, много обсуждали: её слова — сладкий нектар описаний будущего — казались бальзамом для души.
Проснувшись под утро в её особняке, мы занялись планами. Не было ни пышной свадьбы (Ева согласилась бы на это лишь в случае моей славы), ни медового месяца, ни разговоров о детях.
Параллельно с перестройкой моей школы — после окончания аренды она переехала ближе к дому Евы и превратилась из студии в просторное помещение — жена стала активно знакомить меня со своими влиятельными друзьями. Мы решили, что вскоре я должен воспитать учеников, о которых заговорит мир. Я подал объявления о наборе, и через два месяца школа распрощалась со своей вывеской, превратившись в закрытое заведение для избранных.
Жизнь закружилась с новой скоростью. С тремя парами учеников — по числу мест на пьедестале — я проводил почти по четыре дня в неделю. Один день уходил на приёмы гостей, а два — на выезды и обучение. Каждый прожитый день обсуждался с Евой в спальне, которую я в шутку называл «ставкой».
— Тебе удалось назначить встречу с месье N? — спрашивала она.
— Да, он согласился показать мне на следующей неделе свой лучший отель, — отвечал я.
Этот «знаменательный день» заносился в календарь. Мы разбирали, чем живёт месье N, чего боится, чем гордится. Ева не терпела поверхностности. Она умела видеть людей насквозь — как самая настоящая ведьма.
Мы никогда не забывали о будущем. Я трудился над списками целей. Первое время Ева держала меня под своей властью, словно тренер, направляющий неопытного спортсмена; но делала это настолько искусно, что мои шаги казались мне независимыми. Я не был марионеткой — наоборот, она заставляла думать и действовать самому, лишь умело направляя энергию в нужное русло.
Я стал одеваться по деловому и производить впечатление уверенного во всём человека. Не менее восьмидесяти процентов наших расходов шло на представительские нужды. «Роскошь и безупречный костюм придают уверенности и настраивают на belle vie [фр. - красивая жизнь]», — любила говорить Ева.
За стенами дома и школы я постигал дела. Разбирался то в структуре гостиничного бизнеса, то в тонкостях ресторанного, то в строительных или туристических схемах.
Знакомые Евы охотно делились своими секретами успеха, зачастую не в силах скрыть гордость. Постепенно я научился различать «душу бизнеса» — ту невидимую силу, без которой любое дело превращается в груду оборудования и толпу сотрудников без воли.
Через год я владел основами множества сфер.
А за несколько дней до годовщины свадьбы мои ученики заняли весь пьедестал на международных соревнованиях. Новые победы и поддержка прессы вернули моему имени известность. Всего через два месяца после первых публикаций я сумел собрать средства на сеть из трёх школ, которые к концу года разрослись до семи.
— И это только начало! — с гордостью сказала Ева.
— Да, — ответил я, втайне вынашивая собственные амбиции.
Меня снова печатали в журналах: я писал о работе школ, методах подготовки, питании. Несколько интервью давал прямо у нас дома, и Ева охотно участвовала. Я всегда упоминал, что всем обязан жене.
Моё время ценилось всё выше. Я отказался от преподавания, иногда лишь проводил мастер классы для тренеров — эти вечера превращались в праздники. Штат школ состоял из старых знакомых и учеников чемпионов — людей надёжных и самостоятельных.
Внедрив в систему управления опыт индустрии гостеприимства, я сделал из своей сети успешное предприятие.
На Западе как раз набирало силу направление pro-am — соревнования профессионалов с любителями. Ещё в молодости, выступая в Америке, я понял, какое море возможностей открывает эта волна. Именно её я сделал краеугольным камнем своего проекта. Друзья Евы теперь становились и моими друзьями — а в деловом мире это означало, что «этот человек может помочь заработать». Я советовался с ними, мы вместе играли в гольф, охотились, устраивали обеды.
Именно им я рассказал о набирающем силу явлении в мире танцев. За полгода я рассчитал проект по всем правилам бухгалтерии, оценил рынок Франции и соседних стран и уверился: никто, кроме меня, не сможет выжать из этой возможности максимум.
Я обрёл не только капитал, но и внимание французской прессы.
В следующие три года я открыл свыше двадцати школ по всей Европе и создал организацию, проводящую соревнования. Вскоре мы с Евой переехали в просторный особняк: сад, беседка, качели, луга и лес. Ева, «маленькая хозяйка большого дома», была счастлива. Полгода она руководила ремонтом, а теперь могла устраивать настоящие балы.
Она не печалилась, что я стал самостоятельным. После первой годовщины наши «совещания» прекратились. Ева не жалела о потере влияния — ей был нужен рядом сильный мужчина, уверенный и уважаемый. Она хотела блистать в тени известного имени, слышать своё рядом с ним. С гордостью читала газетные заметки.
— Это же просто реклама, — посмеивался я.
— Ну и что? — отвечала она. — Зато реклама твоя.
Ева находила настоящее удовольствие в приёмах и поездках. Я по прежнему иногда просил её взглянуть на того или иного человека, и её суждения всегда удивляли точностью. Мы путешествовали — пусть недолго, но часто, и она радовалась каждому выезду.
Когда в доме всё устроилось, я подарил ей лошадь и собаку. В ответ Ева заказала костюм наездницы у известной портнихи и увлеклась верховой ездой. Иногда я сопровождал её; она то обгоняла нас с собакой, то возвращалась, смеясь, — как ребёнок, или скакала вокруг меня, как валькирия.
Теперь я мог позволить себе работать дома. Школы не требовали надзора, многие дела решались по телефону, а помощники брали на себя рутину. Но просторный кабинет не приносил радости. Вид из окна не вдохновлял, успехи перестали будоражить. Дела, дела, дела…
Иногда, в редкие минуты, я задавал себе самый опасный вопрос: «Зачем?» Мысли о погоне за достатком облепили голову, словно мухи. Планы множились, но их цель блекла. Отголоски пресыщения доносились издалека, как тёплый ветер весной, предсказывающий перемены.
И наш брак всё меньше удовлетворял меня. Он стал похож на удачный контракт: выгодный обеим сторонам, но без чувства. Мы объединились ради целей — и достигли их. Со временем необходимость в Еве стала меньше, но внешний порядок оставался безупречным. Спускался я к завтраку - прибранная и нарядная Ева, украшенная счастливой улыбкой, терпеливо ждала меня за столом; негодовал в сердцах на ту или иную неудачу - она подбадривала меня; отправлялся на званный обед - ехала со мной в ослепительном наряде. В обществе Ева всегда держала меня под руку, и это лишало меня лёгких флиртов, но я принимал это спокойно. Вечерами мы молчаливо расходились по своим комнатам.
Казалось, мы построили дом из тумана на песке. Между нами не было того самого чувства, что соединяет души. Может быть, его можно было заменить доверием и дружбой, если бы я, как раньше, делился планами и секретами, — но теперь это казалось пустой тратой времени. Ева обходилась и без моей откровенности.
Я гнал прочь тоскливые мысли и снова принимался за работу.
XII
В следующие два года я открыл фирму по работе с недвижимостью — покупка, продажа, риэлтерские, кадастровые и юридические услуги. Эта сфера давно манила меня: ясная структура, ощутимая прибыль. Ева была восхищена — не только моими способностями осваивать любую область, но и тем, что когда-то разглядела во мне эту гибкость.
Несколько месяцев спустя она начала направлять мой интерес к политике. За нашим столом стали появляться чиновники разных мастей.
— А что в этом плохого? — спросила Ева, поправляя мне бабочку. — Многие министры, между прочим, ездят с мигалками! — и лукаво блеснула глазами.
Она, конечно, знала все шаги наперёд — как мне, поочерёдно, занять кресла министра-делегата и министра. Министра, чёрт побери! Это действительно казалось внушительной целью. Настоящая власть, влияние, заголовки газет, борьба до изнеможения. Мы с Евой одинаково видели дорогу, ведущую к вершине. Денег хватало, инвесторы были не нужны. И всё же одна мысль не отпускала: «Действительно ли я хочу этого?»
Даже если представить, что я прошёл весь путь, стал премьер-министром, — «а дальше?»
Этот путь возвёл бы меня в глазах Евы и общества, но как далеко он отстоял от моих собственных желаний! У меня никогда не было тяги к политике. Да, можно воспитать в себе нужные качества, вылепить из себя кого угодно, но зачем ломать природу? Недавно Ева сказала, что не мешало бы поработать над речью — придать голосу большую «весомость». Что ж, возможно… но менять речь, чтобы каждое слово звучало как приговор?
Вечерами я мысленно заглядывал вперёд — на двадцать, тридцать лет. Если ничего не менять и идти туда, куда указывает её палец, не окажется ли мой брак самой нелепой ошибкой? Успех и богатство не приносили ощущения полноты жизни. Людям казалось, что мы с Евой счастливая пара — я и сам долго верил в это. Безусловно, радовало движение, новые сферы, уверенность, но радость оставалась без адресата. Еву впечатляли мои успехи, но в её глазах всё, что связано с танцами или недвижимостью, было лишь ступенью к большему. Эти миллионы не делали её равной с женщинами мира нефти, международных сетей и политики. Она смотрела на мои дела свысока и, кажется, ждала только одного — когда накопленный капитал откроет дорогу в «высшие сферы».
Меня же устраивало достигнутое. Результаты подарили финансовую свободу — при желании я мог больше не работать. Смешно было вспоминать годы, когда арендная плата висела дамокловым мечом, а короткий отдых дырявил бюджет. В хорошем предприятии я видел ту же гармонию, что и в танце: здесь победа имела длительный срок действия.
Теперь, обеспечив себя и Еву, я больше тянулся к семейному теплу, чем к новому золоту. Сидеть на золоте, есть с золота и спать на золоте — это напоминало мне ужасную комнату из детства.
Тем временем Ева стала чаще говорить о детях. Она мечтала, что маленькая дочка крепче свяжет меня с ней и вдохновит на карьеру в политике.
Мне же всё чаще хотелось, чтобы двери кабинета однажды распахнулись от усилия пухлых ручек девочки — очень похожей на Эмму.
Различие наших идеалов становилось всё очевиднее, хотя внешне мы казались прежними. Она хотела сделать из меня второго le petit caporal [фр. - маленький капрал] — не столь воинственного, но значимого; человека, который войдёт в историю. А мне всё больше хотелось простой домашней теплоты — не той, что рождается у огромных каминов, а той, что исходит от любящего сердца.
Однажды, раздумывая над выборами и собственной жизнью, я шёл пешком по центру Парижа — что теперь было редкостью — и неожиданно оказался у старой студии. Там, где впервые увидел Эмму.
«Где она теперь?» — прозвучало в мыслях, словно шум прибоя.
Ноги сами понесли меня по знакомому маршруту — тому самому, где когда-то ехали мы с Эммой на бал. Повернув на набережную, я вышел к мосту Неф. Эта каменная радуга, с её кармашками и фонарями, всегда была для меня местом покоя. Несмотря на зимнюю пору, Сена спокойно несла свои воды; я спрятался в одном из ниш и стал смотреть вниз. Пейзаж дышал грустью.
«Где сейчас Эмма?» — спрашивали волны.
Мне захотелось укрыться не только от прохожих, но и от самого себя, от размеренной жизни. Сена вытекала из-под моста — и вдруг показалось, что это моя жизнь уходит у меня из-под ног. Сердце разжимало пальцы, выпуская воспоминания: они возвращались, как морфий, сладкие и обжигающие.
Я редко позволял себе думать об Эмме, не вспоминал её, пожалуй, с первого дня свадьбы, но теперь вспомнил всё. Каждый день, каждый взгляд. Всё было далеко — в другой эпохе, в другой жизни, — и в то же время невыносимо близко. Сравнение пришло само: считанные дни с Эммой длились вечность, а пять лет успеха пролетели как одно мгновение. Первые наполняли сердце, вторые — лишь счёт в банке.
«Сколько желаний в моей жизни было действительно моими?»
Когда-то родители выбрали путь за меня — танцы. Потом обстоятельства и нужда держали на этом пути. Позже Ева убедила, что свадьба откроет новый успех, теперь толкала в политику. Неужели я всю жизнь исполнял чужие желания? Может, большинство людей живут именно так, подчиняясь навязанному?
«А чего хочу я сам?»
Думая обо всём этом, я понял: настоящее желание в моей жизни было лишь одно — Эмма. Это был первый выбор, первый сознательный зов души. Не безрассудная влюблённость мальчишки, а зрелое осознание красоты, которую невозможно назвать и забыть. Она была моей первой любовью и одновременно последней подлинной свободой.
«Почему же я тогда отпустил её?»
Мысли, как снежинки, превращались в лавину.
Я смотрел на прошлое и не узнавал себя. Радостные воспоминания обжигали, а груз утраты сжимал грудь. Проснувшийся эгоизм шептал одно: «её нужно найти.»
И я решил, во что бы то ни стало, разыскать Эмму.
XIII
Трудно описать, в какой ужас повергло Еву моё заявление о разводе.
— Джозеф! Боже мой, что ты говоришь? — воскликнула она. — Одумайся, прошу тебя! Нас ждёт прекрасная жизнь. Хочешь, заведём ребёнка? Ты ведь всегда хотел девочку. Вспомни, как здорово мы ладили... Ведь у нас всё только начинается.
Капризы и сцены были чужды Еве — жизнь попросту не научила её этому. И хотя негодование владело ею, в глазах уже рождался новый план. Через час она вполне успокоилась. Нельзя было не восхититься этой железной волей — способностью сносить любые лишения с внешней грацией.
— Жаль, что мы не успели завести детей, — тихо сказала Ева.
Она глубоко вздохнула, и мне показалось, что все воспоминания наших «ни светлых, ни печальных» лет на миг вспыхнули в её памяти и тут же угасли.
— Ты всё же собрался к ней, — произнесла она наконец. Потом, грустно улыбнувшись, добавила: — Иногда ты произносил её имя во сне.
Я воспользовался одним из условий, когда-то записанных на памятной салфетке, — правом в одностороннем порядке расторгнуть брак. Второе условие предпочёл забыть, так Еве остался дом с прилегающей территорией и всем имуществом; она могла продать его или свой прежний особняк. Свою долю в танцевальном бизнесе я разделил на три части: одну оставил Еве, вторую себе, третью продал партнёрам. Ева была обеспечена, а у меня появились средства для нового шага.
Через неделю после этого разговора я поселился в центре города. Нанятый мною лучший парижский детектив быстро установил настоящую фамилию Эммы и приступил к поискам. Информация из ведомств приходила невыносимо медленно; ещё больше времени ушло на розыски в России. Наконец, примерно через полгода, я получил точный адрес Эммы и сведения о её семейном положении.
Не желая терять ни дня, я отправился в Москву. Известно было, что она замужем, поэтому я решил сначала просто осмотреться. План был прост: пойти в одно из тех мест, где она бывала, и понаблюдать. Одним из них оказался роскошный ресторан в центре города.
Я отыскал его днём и пошёл гулять по окрестным улицам. Город поражал размахом; щедрое летнее солнце превращало фасады домов в ослепительные полотна. Спустя пару часов я вернулся и устроился в переулке за столиком на улице, заказал обед. Одна мысль крутилась в голове: «увижу ли я Эмму сегодня?» Я чувствовал — встреча неизбежна, но когда? В какой день? В какой час?
И вдруг в уши стремительно ворвались знакомые звуки. Слов я не разобрал, но мелодия голоса — этот тембр, эти интонации — отозвались во мне, как стук в родную дверь. Сердце подскочило, затрепетало, будто крылья огромной птицы готовились к взлёту.
На другой стороне улицы, спиной ко мне, стояла женщина. Рядом — мужчина, он качал головой, возражая; она слегка склонила голову, и, видно, убедительный взгляд сделал своё дело: спутник сдался и ушёл, а она спокойно скрылась в дверях ресторана.
Эмма. Не могло быть иначе.
Я замер, осажденный смесью радости и страха. Как чудовищно странно — встретить её так быстро, в таком огромном городе! И хотя походка казалась чуть степеннее, движения — мягче, чем у той, прежней девушки. Сердце моё не сомневалось.
Не помня себя, я поднялся и пошёл. Ватные ноги преодолели половину пути, и тут Эмма — настоящая, живая Эмма — вдруг сама вышла мне навстречу.
— Джозеф! — повторяла она в моих объятьях. — Джозеф… ты нашёл меня!
Я лишился дара речи. Мы сели за столик рядом. Эмма говорила без передышки, а я только смотрел и не мог отвести глаз. Она рассказала, что по возвращении из Парижа у неё в аэропорту украли телефон, а потом упрекнула меня, что я так быстро закрыл школу. Оказалось, что через год после нашего расставания Эмма приезжала в Париж.
И что же? Мне не хватило толики терпения? Какая глупая, злая насмешка судьбы! Я отдал бы всё, чтобы повернуть время — отказаться от всех своих «успехов», только бы снова оказаться на том перекрёстке, где выбрал не ту дорогу.
— Эмма… когда мы увидимся снова? — едва смог произнести я.
Я разорвал все свои оковы, но согласится ли она сделать то же? Была ли она счастлива с мужем? Или её радовало лишь само возвращение воспоминаний? Она ни слова не упомянула о муже — будто его не существовало. Может, просто не хотела мучить меня этими подробностями.
— На следующей неделе, в четверг, будет приём у одной знакомой, — сказала Эмма и мягко коснулась моей руки.
Я сжал её пальцы — те самые, тонкие, живые, когда-то послушные в танце. Хотелось вернуть этим прикосновением всё то, что потерял.
— Я что-нибудь придумаю с приглашением, — добавила она. — Где ты остановился?
Я назвал отель.
— Но до четверга почти неделя! — воскликнул я.
— Разве пять лет разлуки не научили тебя ждать?
Я лишь молча посмотрел ей в глаза.
— Мне пора, Джозеф, — тихо сказала она, пряча взгляд. — До четверга.
Я вскочил следом и схватил её за руку.
— Ты моя, слышишь? И всегда будешь моей!
Эмма вздрогнула, как пугливая птица, потом овладела собой, отвела взгляд. Волнистые волосы — те самые, прежние, каре без чёлки — скрыли половину лица.
— Мне пора, — повторила она едва слышно.
XIV
Оставаться без дела в отеле или бесцельно бродить по городу казалось невыносимо. Мысли давили, угрожая свести с ума. Мне нужно было хоть чем-то заняться, и я решил изучить дело моего единственного конкурента — мужа Эммы. Детектив сообщил, что тот занимался мебелью, — значит, оттуда и следовало начинать.
Через день я уже понимал, как действовать. Ещё сутки ушли на звонки парижским партнёрам: требовались фамилии и контакты московских дельцов. Я вызвал из Европы одного из поверенных, владевшего русским. До самого приёма дни прошли в деловых встречах. Часть здешних бизнесменов относилась ко мне с подозрением, других приходилось заманимавать словом «инвестиции» или намёками на выгодные тендеры. К четвергу я располагал всеми сведениями, чтобы развернуть полноценную партизанскую войну.
Конечно, где то в глубине понимал: виноват был я сам. Но разве человек способен охотно делать из себя врага? «Вот он, соперник, — настоящий противник», — постановил мой рассудок, и решение пришло с почти радостной ясностью. Годы с Евой приучили меня бороться, и теперь борьба обещала награду.
Я пока не думал, чтобы просто предложить Эмме сбежать; не знал, насколько она связана с мужем. Но привыкший побеждать я понимал: к любой партии нужно готовиться заранее.
Во вторник, накануне приёма, пришла записка от Эммы и приглашение от её подруги:
«Джозеф! Моя знакомая Мари с удовольствием приглашает тебя. Для неё мы старые друзья, поэтому приходи как друг.
Эмма.
P.S. Моя очередь издеваться над тобой! (Помнишь наш бал?)
Мари скучает в объятиях мужа, тебе придётся быть приятным гостем».
На приём я, разумеется, опоздал — почти нарочно. Когда слуги впустили меня, гости уже собрались, а Эмма, помогавшая хозяйке, стояла у входа. Наши взгляды встретились: лёгкий кивок, едва заметный блеск в глазах.
На звонок вышла сама Мари.
— Ах, это вы, гадкий мальчик? — шепнула она по английски, а вслух добавила: — Разве вы не знаете, что опаздывать невежливо? — и повела меня в зал.
Пока мы с хозяйкой обменивались игривыми фразами, Эмма незаметно исчезла.
Меня представили гостям как «друга знакомой». По прихоти Мари вечер объявили «английским» — все должны были говорить по английски. Les anciens temps sont pass;s [фр. - прошли былые времена], — шутливо произнесла хозяйка. Но уже через десять минут гости вернулись к привычному языку.
Моё имя было многим знакомо; газеты успели наговорить обо мне лестных слов. Когда внимание публики ослабло, я наконец смог наблюдать за Эммой. Её наряд был безупречен, движения — изящны, манеры безукоризненны. Я заметил и её мужа — спокойного, словно слепого к тому, что происходит рядом. Эмма улыбалась собеседникам, но его ни разу не удостоила взглядом.
Мари, оказавшаяся моей соседкой, оживлённо болтала обо всём на свете, а я лишь кивая, раз за разом спрашивал себя: «счастлива ли Эмма?»
Она смеялась громко и заразительно, но усталость таилась в самой линии улыбки. Её глаза, всегда сияющие, теперь будто поблёкли.
В соседнем зале начали танцы. Вальсы сменялись фокстротами и румбой. Я не спешил приглашать Эмму, танцевал с хозяйкой, с другими — лишь бы смотреть на неё со стороны. Она двигалась легко, плавно; казалось, сама музыка ищет под неё ритм. Мы оба знали: наш танец сегодня неизбежен.
Когда зазвучала знакомая мелодия, я подошёл. Эмма стояла в кругу подруг, и мне не пришлось спрашивать разрешения ни у кого, кроме неё. Мы встали в пару. Сердца колотились в унисон.
Снова — как тогда. Это дыхание рядом. Этот запах духов. Это ощущение абсолютной точности движений. Мне вспомнились слова Эммы, сказанные когда то после бала:
«Кроме тебя я танцевала ещё с двумя партнёрами. Они оба танцевали хорошо… но с ними было неудобно».
Только теперь я понял, что она имела в виду: мы подходили друг другу идеально, как костюмы, сшитые на заказ.
Я вкладывал в каждый шаг, каждый поворот всё, что накопилось за эти годы. Она отзывалась, едва я делал движение, будто угадывала мысли. Мы не заметили, как разговоры стихли — гости замерли, заворожённо наблюдая.
— Почему мы танцуем одни? — рассмеялась Эмма по французски.
— Разве здесь есть кто то ещё, кроме нас? — ответил я.
Я шептал ей на ухо слова, которые был не в силах более держать в сердце: о любви, о тоске, о желании вернуть её. Эмма рассмеялась тихо, чтобы общество ничего не заподозрило.
— Прекрати, — прошептала она, — ты выдашь нас.
Я замолчал. Мы условились, что я буду ждать звонка.
После вальса я проводил её место и вернулся к Мари, делая вид, что всё под полным контролем. Моё спокойствие и репутация опытного танцора развеяли последние тени сомнений у публики.
— Всё дело в мелодии, — сказал я хозяйке, когда та начала поддразнивать меня глазами.
Оставшийся вечер я посвятил формальностям: танцевал с другими дамами, шутил и пил шампанское. Эмма уехала раньше.
И вдруг в зале снова стало пусто. Прекратился её неподражаемый смех неподалёку. Тишина окутала меня ледяным воздухом.
Я вспомнил наш первый бал — тогда мы пришли и ушли вместе. Сейчас её увёз кто то другой. Тогда она держала меня под руку; теперь избегала взгляда. Тогда говорила со мной весь вечер; теперь едва улыбнулась. Разлука оставила на нас шрамы, и их боль царапала грудь металлическими когтями.
Хотелось перегрызть горло несносной хозяйке дома, продолжавшей беспечно болтать со мной, разом задушить все условности и броситься вслед за Эммой.
«Ты знаешь её адрес», — нашёптывало безумие. — «Зачем ждёшь? Беги, ворвись, укради!»
«Нет», — отвечал разум. — «Спешка нужна только при ловле блох.»
Ещё час я рассеянно любезничал с Мари, а в голове уже маршировали мысли: расчёт, стратегия, холодная логика.
И вскоре я решил: единственный способ вернуть Эмму — разрушить всё, что принадлежало её мужу.
XV
Следующие месяцы мои планы претворялись в жизнь с мучительной точностью. Я неистово тратил силы и капитал, мстя человеку, который, как мне казалось, украл мою судьбу.
Мебельная фирма мужа Эммы была прибыльна, но не могла похвастаться надёжными покровителями, а потому была уязвима. Я задирал цены поставщиков, скупал материалы, чтобы потом продавать конкурентам с огромными скидками. Тайно вмешивался в тендеры, перетаскивая заказы на другие предприятия. В его фирму я даже внедрил шпиона.
Но эта борьба не приносила удовлетворения. Мы редко виделись с Эммой — раз в две-три недели, и я замечал в её глазах беспокойство.
«Неужели я загоняю нас обоих в угол?» — спрашивал себя я. — «Разве путь к мечте может быть столь грязен и жесток?»
Нервы сдавали. Несколько людей начали шантажировать меня, угрожая открыть историю с тендерами. Пришлось заняться спортом, чтобы не дать телу и разуму распасться, и продумывать каждый шаг всё тщательнее.
Последняя встреча с Эммой лишила меня покоя. Она была сама не своя. Тогда я решил оставить свою безрассудную затею и, возможно, рассказать ей всё. Но чем ближе подходил момент правды, тем яснее понимал — таким признанием я сам перечеркну последний шанс. Мне хотелось выть. Я проклинал себя, соперника и ненавистный город.
Через несколько часов после того, как вернулся в отель я почувствовал странную слабость. Необычное оцепенение распространялось по телу. «Не отравился ли я?» — мелькнуло в голове. Встав, я попытался выпить воды, но ещё до того, как стакан коснулся губ, понял: яд. Последней мыслью перед тем, как потерять сознание, была уверенность, что вода тоже отравлена.
Потом начался сущий кошмар. Яд не убивал — он истязал. Я был жив, но прикован к кровати, без возможности пошевелиться. Сознание то гасло, то вспыхивало, как лампа перед смертью. Я знал, что смерть рядом, но не страшился её; боялся лишь, что Эмма увидит меня таким.
Часы тикали безжалостно, отсчитывая моё одиночество. Яд оказался идеальным орудием мести — он лишил движения, оставив мне память, зрение и слух. Я слышал, как молчит комната, и не видел никого, кроме собственного отражения в тёмном окне.
«Вот она — справедливая расплата», — говорил голос внутри. «Ты сам создал этот яд из зависти и расчёта. Ты выбрал не сердце, а рассудок.»
На пятый день дверь в номер распахнулась.
«Неужели персонал всё-таки проигнорировал табличку с просьбой не беспокоить?» — подумал я.
По коридору прозвучали быстрые шаги, и сердце сразу узнало их.
— Джозеф! — Эмма вбежала ко мне.
Я встретил её взгляд — взгляд, полный отчаяния и силы. Второй раз в жизни я видел Эмму такой. Её ресницы блестели слезами, и вся она излучала боль и любовь разом. Я хотел броситься к ней, но тело оставалось неподвижным кожаным мешком.
— Я не привела врача, — сказала она, стирая слёзы. — Это бессмысленно… новый яд… никто не знает, как помочь.
Эмма заплакала вновь, а я тщетно пытался сжать её ладонь. Потом она усилием воли овладела собой и тихо добавила:
— Я ушла от него, Джозеф. Теперь я твоя.
Каким-то чудом я совладал с параличом. Пальцы судорожно обхватили её руку. Губы едва прошептали имя… и ослепительная вспышка света взорвалась в сознании. Я забылся.
Мне приснился удивительный своей реалистичностью сон.
Мы с Эммой шли по берегу океана. Впереди бежала смеющаяся девочка, точь в точь как Эмма. Волны катились медленно и нежно.
— Знаешь, — сказал я, — как для плотины затапливают окрестные земли, так, может быть, и нам было нужно время — чтобы не только отыскать друг друга, но и для того, чтобы преодолеть условности?
Эмма вздохнула:
— Условности — неотъемлемая часть жизни. Они останавливают только глупца. Один ты виноват в том, что всё вышло так. Через несколько лет после нашей разлуки мне показалось, что я могла остаться тогда с тобой. Но ты не умел позвать.
Эти слова обожгли сердце.
— Когда ты приехал, — продолжала она, — я сразу узнала и обрадовалась тому огню в глазах. Казалось, годы сделали нас ближе. Меня тронуло, как выросли твои чувства, но всё же в тебе осталось что то чужое. Твой взгляд стал замыленным — будто ты не видел меня. Словно осталась лишь борьба ради борьбы.
Она отвела глаза, и этот жест вновь пронзил меня болью.
— Неужели ты думал, что можно обанкротить моего мужа, разломать нашу жизнь и таким образом сделать меня счастливой? Природой женщины движет не разрушение, а любовь. Почему ты не смог просто попросить моей руки? Ты совсем не умеешь обращаться с женщиной!
— Где то я уже это слышал, — рассмеялся я.
— Потому что это правда! — вскрикнула она, вырывая руку, и побежала за девочкой.
Я хотел остановить её, но не стал. Её слова, мудрые и горькие, глубоко пронзили душу… но думать о них не хотелось, как не хотелось упускать ни одного момента в обществе бесподобной любимой женщины, моей поэмы. Я бросился догонять её.
Август 2017
Свидетельство о публикации №117090100192
