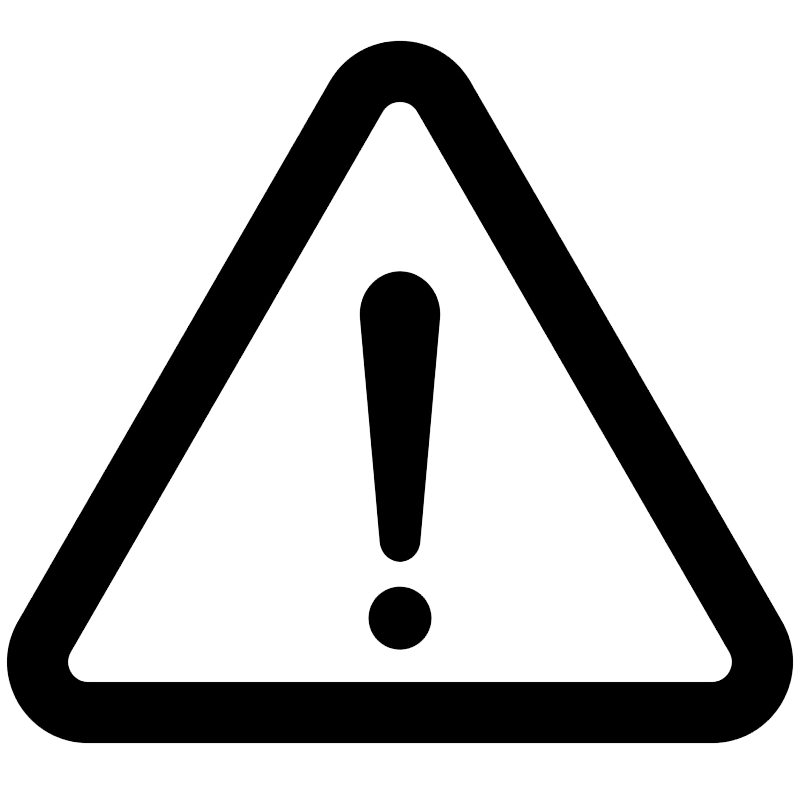
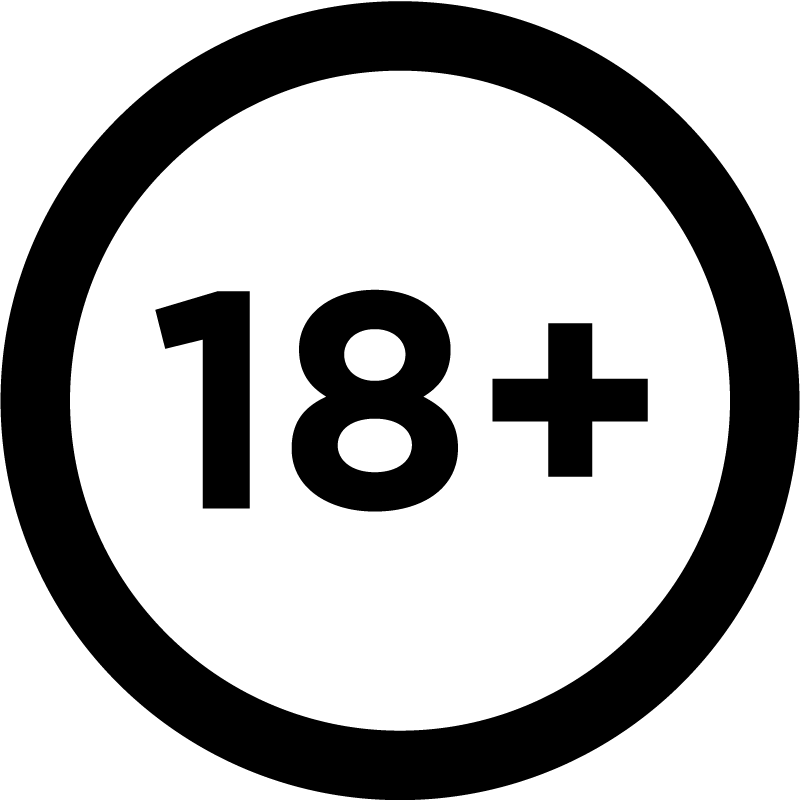 Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
дороги, которые нас выбирают
Дороги, которые нас выбирают (ЧЕРНОВИК)
Этот многотрудный труд,
прости за тавтологию,
я посвящаю тебе,
Гришуля,
поскольку ты на нем настаивал.
Думаю, что всем остальным
он будет неинтересен.
Вступление
Над своей родословной я впервые задумался, когда мне едва исполнилось 16 лет, при весьма драматических обстоятельствах, о которых я расскажу подробно чуть позже.
Прежде чем сесть за это бытописание, я мучительно долго размышлял о том, стоит ли вообще заниматься этой темой.
С одной стороны она очень занимала меня с тех самых 16 лет.
На протяжении долгих лет я постоянно думал об этом. Многажды хотел купить диктофон и самым подробным образом расспросить тогда еще жившую бабушку по маминой линии, отца, маму, порыться в архивах.
Но в достаточно бурных обстоятельствах тогдашней жизни все как-то не находилось на это времени.
Теперь нет ни бабушки, ни папы, ни мамы и расспросить некого.
По делам моей службы на протяжении многих лет мне
приходилось много скитаться практически по всему бывшему Советскому Союзу. И уже тогда я взял за правило, в каждом месте, где я бывал, покупать набор открыток с видами этого места и, обязательно, с номером главной местной газеты. Кроме того, у меня была многолетняя привычка вести «рабочую книжку», где я достаточно подробно, изо-дня в день помечал все, что хотел сделать и что сделал. Не могло быть лучшего материала для дальнейшего воспроизведения событий.
Это тоже было подсознательным собиранием материала для будущих воспоминаний.
Все, или практически все эти материалы я утратил также в
результате опять же весьма драматических событий.
Но и об этом тоже попозже.
С другой стороны, в последнее время, в результате уже трагических для меня обстоятельств, я остался один.
Практически один.
Нет, конечно, есть сын, который настоятельно просит меня написать историю нашей семьи. Наверно и другим моим родным и друзьям это будет интересно.
Но, по стечению все тех же драматических обстоятельств, я знаю, что за сыном никто не последует и фамилия, по крайней мере, в нашей ветви, прервется.
Труд предстоит большой. Жизнь пройти – не поле перейти.
А на мою долю достался и кусочек «сталинщины», и «хрущевская оттепель», и «брежневский застой», и предательский «горбачевский переворот», и новая, «с ельцинского бодуна» Россия, и «путинская путина», и долгая жизнь заграницей.
Опять же, долгое время я считал свою фамилию редкой.
Ну, встречал в «Переяславской Раде» эту фамилию у одного из сподвижников Богдана Хмельницкого. Ну, был такой шляхтецкий полковник и поэт Якоб Ясинский, о котором вспоминает польский писатель Мариан Брандис в своей повести об адъютанте Наполеона Сулковском. Ну, был писатель и художник в Санкт-Петербурге начала ХХ века Иннокентий (кажется) Ясинский.
Еще пару раз встречается в литературе эта фамилия.
Но какое отношение это имеет ко мне и к моей семье, я не имел понятия.
Лет, этак пять назад на интернетовской странице «одноклассники» возникло сообщество Ясинских.
Я тихо обалдел, когда в короткое время на ней зарегистрировалось более 400 человек. Я попытался пообщаться с этим сообществом Ясинских.
И быстро выяснилось, что все они, так же как и я, понятия не имеют о своих предках.
Как в старой сказке, «пойди туда – не знаю куда, найди то, не знаю что». Хотя статистика говорит, что каждый третий однофамилец – родственник.
Не виню себя, не виню этих людей. Жизни наших семей на протяжении веков столько раз и так круто перекраивались, что потеря своих корней стала нормальным явлением. Хорошо, что сейчас интерес к этому просыпается.
Вот обдумывая все это, я все думал, а кому это надо?
Уйду я, со временем уйдет мой сын, не оставив наследников.
И пойдет этот труд на растопку каминов.
Тем более что печальный опыт уже есть.
На протяжении своей жизни я издал три сборника стихов и документальную повесть о своей последней, и, наверное, единственной настоящей любви. И даже среди самых близких людей неоднократно замечал в ходе бесед, особенно за рюмкой, что они этих книжек не читали. Да, наверное, листали, да, наверное, картинки смотрели. Но читать, а тем более вчитываться, мало кто затруднялся.
Так стоит ли?
А с другой стороны, что я теряю. Пенсионер, подыхающий от безделья и скуки. Старик, подавленный скоропостижной потерей любимого человека и постепенно сходящий с ума от тоски. Что я теряю? Ничего.
А находить мне уже ничего и не надо.
Кому интересно – прочтут.
Кому нужно – пользу, какую никакую извлекут.
А так и камин растопят – опять же, польза.
Я же какое-то время при деле буду.
Решено. Буду писать. Без плана, без идеологических и прочих психологических наворотов. Год за годом, день за днем, что помню и храню в сердце. Так, кажется, обрисовывал свое творчество Андрей Печерский.
Очень может быть, что этот труд я не закончу никогда.
Уж больно долгой, замороченной и интенсивной была эта короткая жизнь.
Сразу и заранее прошу прощения у дотошных критиков за возможные неточности. Сознательно не привлекаю оставшихся еще в целости записок и документов.
Пусть для любопытных это будет еще одним экспериментом на надежность человеческой памяти.
Не зря ведь говорят, что нет ничего надежнее памяти ветеранов, потому что они помнят даже то, чего никогда не было.
Явление на свет
Так о чем это я. Ну, конечно, сначала о том, как я появился на свет.
Моя мама, урожденная Анна Савушкина, была дочерью (вос-сроизвожу по маминым рассказам) царского матроса Дементия Савушкина. Дед Дементий вернулся с русско-японской войны 1905 года покалеченным. Жили они в деревне Царево, под Тулой. Семья не была многодетной.
То есть, если верить преданиям, рожала моя бабушка Мария не мало. Но в живых, как это тогда часто бывало, осталось трое. Старший сын Василий, (у папы тоже старший брат – Василий) – магия имен будет сопровождать нас на протяжение все этой повести. Мама моя, средненькая, и младшая дочь Прасковья.
Покалеченный на войне дед Дементий до срока ушел в мир иной.
В поисках лучшей жизни старший брат Василий подался на поиски заработка. В конце 20-х годов прошлого века занесло его попутным ветром в Ленинград.
И устроился он там, (видно рукастый был) багетчиком, (то есть
мастером по производству багетных рам для картин) аж в самый Эрмитаж. В 1936 году сумел купить под Ленинградом, в деревне Ковалево, небольшой домишко.
Мама же где-то в 1934 году устроилась нянькой в московской семье толи самого композитора Дунаевского, толи его брата. Проработала у них три года, а в 1937 году перебралась к брату под Ленинград. Забавно, грустно, но мама всю жизнь вспоминала, как она однажды, вместе с Дунаевскими была в Большом театре на опере «Царская невеста». Это было ее первое и последнее посещение театра. Живя в Питере (шестьдесят восемь лет) и имея сына «театромана», она НИКОГДА за свои 86 лет жизни, практически, в Питере, больше в театре не была. Но с упоением и через сорок лет рассказывала о ТОМ посещении. Каким же надо было быть тупым «театроманом» чтобы ни разу не предложить маме хоть что-то из Маринки.
После работы у Дунаевских при деньгах была. И хоть и закончила лишь 4 класса церковно-приходской школы, была достаточно начитана, умом даровита, видом взяла. Вот с этим у нее было все в порядке. Она могла часами излагать события последней недели в их (нашей, моей) деревне.
В скором времени устроил ее брат Василий на завидную должность экспедитора на завод имени Калинина в Ленинграде. Завод военный, экспедитор – должность ответственная с соответствующей зарплатой. И зажили брат с сестрой душа в душу. Виделись только редко. Василий все на работе, Анна все в разъездах.
В 1938 году вызвали в Ленинград и младшую сестру вместе с бабушкой Марией.
Дом был на две комнаты метров по 10-12, да кухня метров 6, да сени, да сарай. Места на четверых хватало. А вот прокормить всех трудновато было. Младшая-то сестренка Прасковья еще учиться хотела, бабушка Мария, кроме домашней работы, ни к чему не пригодна была.
В 1939 году продали они пол дома. Теперь ютились вчетвером в комнате метров 12, да в общей кухне метров 6.
Но грянула тут финская война. Ушел на нее брат Василий, да так и не вернулся. Погиб в бою с белофиннами где-то под Сестрорецком.
А тут и Отечественная ждать не заставила.
В Питере – блокада. Блокадный паек. Ни бабушка, ни младшенькая Прасковья не работают. Иждивенцам – 150 грамм хлеба в сутки. Мама – экспедитор на военном заводе – особый паек – 250 грамм. Итого 550 грамм хлеба в сутки на троих. Но, в деревне ведь жили-то. Участок свой почти 15 соток. Картошка своя, огурцы, помидоры, капуста. Самую страшную зиму с 1941 на 1942 с сорокаградусными морозами ппережили.
Да и мамы-то с сентября в доме не было.
Всех трудоспособных отправили на рытье противотанковых рвов на лужский рубеж. Вот там-то, под Лугой, мама впервые и на немецких истребителей и на немецкие бомбардировщики сполна насмотрелась.
А в деревне Ковалево тем временем разворачивались поистине исторические события.
К началу войны немцы хорошо знали расположение всех аэродромов вокруг Ленинграда. И, естественно, с них и начали.
К сентябрю 1941 ни с одного аэродрома под Ленинградом, кроме полевых, взлететь было нельзя. Были разбиты Комендантский и Пулковский аэродромы, разбомблен и блокирован аэродром в Лисьем Носу.
Город срочно нуждался в воздушной связи с большой Землей. Причем это должен был быть аэродром для тяжелый самолетов, способных обеспечить воздушный мост для завоза продовольствия и оружия в Питер, и, одновременно для эвакуации наиболее ценного из Питера.
Подбором площадки занимался лично секретарь Ленинградского горкома партии Кузнецов. Окончательный вариант лично осмотрел первый секретарь горкома Андрей Жданов.
Место выбрали как нельзя более удачно. В промежутке между Всеволожском и Колтушами до самой окраины города, (до улицы Коммуны, сейчас, так называемый Охтинский лесопарк),
тянулась треугольником лесная коса. И с той, и с другой стороны лесной косы были достаточно пространные поля.
До города – рукой подать. Решено было, основной аэродром делать в Ковалево, а с другой стороны лесной косы, в Янино, устроить лже-аэродром.
Прямо по картофельному полю укатали взлетно-посадочную полосу. Всю войну немцы бомбили лже-аэродром с другой стороны лесной косы, в Янино. За всю войну ни одна немецкая бомба не упала на аэродром в Ковалево.
Правда, и меры военной маскировки были предприняты хитрые. Все аэродромные сооружения были замаскированы в лесу. На взлетную полосу, летом на телегах, зимой на санях, в отсутствие полетов, выкатывались посаженные в бочках деревья.
И меры защиты тоже. На этой стороне косы аэродром прикрывали полк истребительной авиации и серьезно оборудованная зенитная батарея. О роли этой батареи в моей судьбе чуть позже.
Этот аэродром сыграл важнейшую роль в обороне Питера.
Более 70 тяжелых самолетов ежедневно («Дугласы» и Ли-2,
в основном) на протяжении почти 4 лет образовывали воздушный мост Питера с большой Землей. Более 50 тысяч ленинградцев были эвакуированы по этому мосту. Оборудование таких гигантов, как Кировский завод, Электросила и других заводов было вывезено на большую Землю. Сокровища музеев, архивы.
А из Питера? Заводы то работали. И большая земля получала из блокированного, голодного Питера оружие, боеприпасы, медикаменты.
А в Питер шло продовольствие. ПРОДОВОЛЬСТВИЕ.
В штабе истребительного полка, охранявшего аэродром, служил полковым писарем Корней Архипович Ясинский.
Отец н и к о г д а и н и ч е г о не рассказывал о себе. Все, что я знаю о нем, особенного о его довоенной жизни, я знаю по рассказам мамы и его родственников, с которыми я познакомился значительно позже и уже не при драматических, а почти при трагических обстоятельствах.
Знаю, что он происходил из богатой, или, по крайней мере, очень зажиточной семьи. До начала 20-х годов ХХ века жили они под Харьковом, в городке Изюм. В начале 20-х годов, после гражданской войны, семья была «раскулачена» и выслана на Алтай. Семья была большая. У отца было шесть братьев и две сестры. Василий, Фёдор, Захарий, Евсентий, Пётр, Иван, Матрёна, Анна. Отец каким-то образом закончил полных 10 классов средней школы, что по тем временам в алтайской глухомани было явлением очень редким. Был он человеком очень начитанным. До последних дней жизни, где бы он ни был и что бы он не делал, подмышкой у него всегда была книга. Правда, всегда это были исторические документальные или беллетристические книги. Осведомленность его в истории вообще, а в новейшей истории России были поразительны. Он мог часами излагать предвоенную историю СССР, особенно в части борьбы с оппортунизмом, сталинских репрессий и т.д. Кроме того, он обладал поистине каллиграфическим подчерком, очень этим гордился, с удовольствием помогал соседям и знакомым в написании всяких официальных писем и документов. Делал это он с особым старанием, и было интересно смотреть, как выводит он завитушки у каждой буквы.
Мама рассказывала, очевидно, с его слов, что работал он на Алтае и учителем, и фельдшером, и комсомольским (!) функционером. Некоторые его рассказы я тоже помню. Как, например, притчу о том, что когда он работал фельдшером где-то там, на Алтае, то он болящим разламывал таблетку анальгина пополам и давал, одному от «горла», другому от « живота».
И помогало. Ведь дело не в снадобье, дело в вере.
Теперь я знаю, насколько сложной была судьба этого человека.
Но, об особенностях его судьбы чуть позже.
Сейчас речь о военных буднях. Пригород Ленинграда. Война. Аэродром.
Развлечений и радостей мало. Из гражданских – только барышни да старухи в деревне. Деревня же тоже особенная.
Местность, где размещалась деревня, делилась на две половины небольшой речушкой, протекавшей в широкой ложбине. Речушку эту кто называл Лубьёй, кто Зиньковкой (по фамилии командира авиаотряда, о чем чуть позже).
По одну сторону, прилегавшему к аэродрому поселению располагалась немецкая колония Смольная. Колонию обосновали немцы по еще Екатерининскому призыву в 60-х годах ХVIII века. И гнали те немцы смолу их близь лежащих лесов. Потому и колония Смольной прозывалась. И дома там стояли на немецкий лад. Мощные, на бетонных ленточных фундаментах, в 3-4 окна по фасаду, пятистенки с хорошими дворовыми постройками.
В 1941, перед войной и в самом ее начале всех немцев выселили в места не столь отдаленные. А добротные немецкие дома заняли под аэродромные нужды.
На другой же стороне располагался колхоз «Красный пахарь». Домишки были русские. Без фундаментов. С завалинками. Много на 2 окна. А деревня называлась – Ковалево. Позже пытался выяснить – почему. По имени ли бывшего владельца, или еще почему. Нет данных в архиве.
Мама жила на русской стороне.
На войне как на войне. Одно развлечение. Если нет полетов и нет авиационных налетов – в субботу танцы в клубе. Клуб тот тоже в одной из бывших немецких изб был оборудован. Танцевали чаще под патефон. Иногда под гармошку или гитару.
Там и познакомились экспедитор Анна и штабной писарь Корней. Если судить по маминым рассказам, штабной писарь Корней добивался ее минимум 3 года. Упорный был.
А младшенькая, Прасковья, в это время работала уже секретарем Красногорского сельсовета, в состав которого входила деревня Ковалево. После моего рождения, а произошло это в больнице имени Красина на Пороховых, отец Корней взял мамин паспорт, поехал к сестре Прасковии, и она, как секретарь сельсовета, разом выписала и свидетельство о браке, и свидетельство о рождении. Причем отец настаивал, чтобы меня назвать Виктором. Мама, по неизвестным мне причинам, была категорически против. Отец привез свидетельство на имя Анатолий. Тоже не все так просто. Почему – чуть позже.
Итак, отрок Анатолий Ясинский появился на свет.
А уж, коль появился – куда же денешь.
Хотя его самого об этом никто не спросил, а хочет ли он появляться.
Детство
О младенческих годах помню только по рассказам мамы и папы.
В детские ясли, а потом в детский сад ходил я при заводе «Красногвардеец», что на Ржевке. К этому времени мама там уже работала набивщицей. Так называлась профессия. Молодые девушки в три смены, в специально оборудованных кабинах, набивали порохом патроны и снаряды. Все цехи и мастерские завода располагались в подземных бункерах. Тому, кто не знает, и сейчас в голову не придет, что на участке между станциями Пискаревка и Ржевка, по правую сторону, если ехать из Питера, размещается один из самых крупных пороховых заводов.
Подземные бункера имели тройное назначение. Во-первых, в случае взрыва в одном из них, остальные не пострадали бы.
Во-вторых, это была отличная маскировка, и, в-третьих, это была неплохая защита от авиабомбежек.
Правда, в петровские времена, когда создавался завод, об этом вряд ли кто думал. Для обеспечения водой этого мощного военного комплекса, чуть ниже по течению реки Охта, была воздвигнута мощная платина, которая образовала довольно большое озеро, любимое место нашего летнего купания.
Вообще этот район Питера был сугубо военизированным со времен Петра I. Здесь, на огромном участке, расположил Петр I всю военную индустрию. Кто и что тут в точности производил по понятным соображениям секретности мы, цивильные, точно не знали. Но, поскольку практически все в округе работали на этих предприятиях, могли составить себе об этом некое представление. Охтинский химкомбинат производил селитру, спирт, серную кислоту и другие химические составляющие для военных нужд. Завод им. I Пятилетки готовил гильзы и капсули. Завод «Волокно» производил вискозу, ткани, бинты, парусные и другие ткани. Пороховой завод, в последствии «Красногвардеец», производил порох и набивал им патроны и снаряды. Остальная питерская промышленность везла свои изделия сюда, в район, который по имени завода, назывался Пороховые. Здесь же, на Ржевке, расположился главный до сих пор военный полигон России. Почти на 50 километров от Ржевки и до самой Ладоги протянулись стрелковые поля полигона. Здесь испытывались все рождавшиеся в России и СССР артеллерийские и ракетные вооружения.
А по другую сторону Ржевки, в так называемых «красных домиках», на огромной территории расположились казармы петровских полков. Все это были выстроенные по четкой геометрии одноэтажные казармы из красного кирпича, рассчитанные на одну роту. Поселок этот занимал территорию от Пороховых до Ржевки и клином уходил аж почти до самого Нового Ковалево, которого тогда еще не было. Здесь же, на берегу реки Охты, стоит и поныне Ильинская полковая церковь, в которой, по преданию, венчался Суворов.
Так о чем это я.
Ах, да, о детстве. Яслей не помню, а вот от детского сада до сих пор какие то нежные воспоминания. Помню нашу раздевалку.
У каждого свой шкафчик с намалеванными фруктами и овощами. (чтобы каждый знал свой). Помню каждое утро порцию рыбьего жира с корочкой соленого хлеба. Как же надо было любить детей, чтобы в те голодные, когда продукты по карточкам, послевоенные годы, умудряться каждое утро давать детям по чайной ложке рыбьего жира.
Помню, что, идя утром на станцию, (тогда еще паровозы ездили), я прогибался под шлагбаумом, как папа и мама.
На фотографиях тех лет смотрит на меня круглощекий, улыбающийся, довольный собой и миром, с футбольным мячом под мышкой, счастливый и здоровенький малыш.
В первый класс школы я пошел в ближайший поселок, который официально назывался Новое Ковалево, а в простонародье имел два названия. Первое – сталинские домики. Потому, что этот поселок построил завод имени Сталина, (сейчас Металлический завод).
А рабочих для этого завода свозили со всей страны. Естественно, кому дома было хорошо, тот от добра добра не искал. Поэтому поселились в поселке, в основном, так называемые люди со 101 километра. Закон был такой сталинский. Тунеядец, проститутка, мошенник, вор не осужденный, - запрет на проживание ближе 100 километров от столиц и крупных городов. Вот оттуда и набирали рабочую силу для передового производства.
Но, поселок для них отбамбахали на загляденье. «Финские» сборные домики. Для каждой семьи – отдельная квартира.
В поселке баня, парикмахерская, два магазина, (гастроном и овощной), пивной ларек, новая асфальтированная дорога, а по ней – автобус. А главное – кинотеатр. (может оттуда сейчас еще возникает в некоторых такая тоска по сталинизму) Правда кинотеатр тот размещался тоже в щитовом доме и вмещал в себя максимум 100 человек. Но зато в нем кроме кино, по пятницам и субботам были танцы. Лучшие фильмы тех лет, «Тарзан», «Чапаев». «Подвиг разведчика» и многие другие, я увидел в этом деревянном сарае. Очень скоро это новое Ковалево, или сталинские домики, иначе в округе и не называли как «Париж».
В полном соответствии с проживающей публикой проходили там еженедельно массовые драки с поножовщиной. Ну, это как бы, естественное приложение к тамошнему быту.
Первая школа
Ближайшая средняя школа находилась километрах в трех от «Парижа», на Ржевке. А значит от нашей деревни в пяти километрах. Да и автобус к нам тогда не ходил.
Какой же мудростью должны были обладать тогдашние власти, если они сообразили в этом самом «Париже» организовать двухлетнюю школу. Всего два класса. Первый и второй. И два учителя. Зато с малышами никаких проблем у родителей. Школа-то под боком.
И провожать не надо. Правда нам, ковалевским, надо было все-таки кому один, а кому и два километра протопать.
А летом-то, когда ходи-нехочу, каникулы. А зимой-то в школу по не чищеным дорогам надо. Но какая это была радость. Выходишь утром из дома, идешь вдоль деревни, а к тебе сотоварищи кучкуются. Знать бы тогда, как эти сотоварищи потом тебя подставят. Но об том позже.
Учительниц тех первых до сих пор помню и люблю.
Первую звали Нани Георгиевна Барамидзе.
Очаровательная грузинка, единственным недостатком которой являлся ее сынок, который учился в нашем же классе, и который регулярно устраивал истерики, не желая при всех подчиняться маме.
Директором школы и учителем второго класса была Елизавета Дмитриевна Калинина. Ее муж, авиатехник Калинин, всю войну и после нее работал авиатехником на нашем аэродроме.
Я, с детства, так или иначе, знал всех летчиков, всех техников, всех, работавших в аэропорту. Но сопоставить техника Калинина и мою учительницу тогда не мог. Много позже, во времена горбачевско-ельцинской наркотической ломки авиатехник Калинин, не общаясь со мной, стал самым ярым моим защитником. А авторитет таких ассов в авиации всегда ценился. И, когда американско-ельцинско-горбачевская камарилья изобрела убийственный для страны указ «О Советах трудовых коллективов» - они знали что делали. (ребята, неужели вы до сих пор думаете, что ельцин (с маленькой буквы), горбачев (простите, тоже с маленькой), Соерс (а тут с большой), плыли в разных лодках. Лодка была одна. Собаки были разные.
Я рекомендую вам почитать книжку моего друга, демократа, функционера, соратника Ельцина, бывшего главреда газеты «Смена», потом Генерального директора Петербургского телевидения, потом председателя комитета по средствам массовой информации в постсоветском Верховном Совете, потом «сидельца» в Белом доме, расстреляном ельцинской камарильей, Виктора Югина , «Переворот за 16 франков». Но все это потом, потом, позже. Разом, на «выборах» руководителей был выбит весь директорский корпус. Более грамотной шахматной партии в истории всех стран я не знаю. Господину Соерсу на острове Пасха надо новый памятник из гранита плохо обтесанного поставить.
И возить туда америкосов этим любоваться. (вот, обещал без политических уклонов, да не получается. Неужели история и народ простят этих уродов за то, что они со страной сотворили и сколько жизней и судеб угробили).
Судьба потом сведет еще меня с этой чудесной женщиной гораздо позже. Если забыли, речь идет о моей учительнице.
И ее поддержку тогда я ценю и помню до сих пор. Но об этом тоже позже.
Но, вернемся на круги своя. С этой поры, кроме обычных для этого возраста школьных приключений, до сих пор помню одно.
Сейчас это забыто. А тогда, чтобы не испортить по проселочным дорогам обувь, мы носили галоши. По пути из школы были у нас три «качалки». Это такое место на глиноземе, где под верхним слоем глины находиться очень водянистый слой. То есть, встаешь на такое место, и качаешься на нем. Потому, что оно под ногами как надутый матрац ходит. Вот я на одном таком месте в новых галошах и покачался. А оно возьми и проглоти мою новую галошу. Прихожу домой, плачу. Идем с отцом искать. Да где там. Засосало, так засосало. Трепку получил, без галош остался, В одном ведь не пойдешь. Вот и обходил потом все лужи кругалями.
В третий класс мы должны были ходить уже в городскую школу.
А это уже было в «красненьких домиках». И об этом позже.
Детские забавы
Какое-то теплое чувство возникает внутри, когда вспоминаю наши детские забавы.
В отличие от «Парижа», наша деревенская атмосфера отличалась дружелюбием, взаимопомощью и взаимным согласием.
Нет, конечно, были и нешуточные межсоседские «разборки», бывали по праздникам и пьяные потасовки, и все остальное, что может порождать общество сто-дворовой деревни. Но это не носило брутальный или разнузданный характер. При всех перипетиях общественное мнение деревенского сообщества всегда главенствовало.
На все важнейшие праздники деревня «кучковалась». Собирались множеством семей за одним столом, потом разные группки плавно перетекали от одного двора к другому.
В те, сугубо советско-сталинские времена, праздники в деревне состояли из поразительной смеси, казалось бы, несовместимого. Праздновали и Новый год, и Рождество, и старый новый год, и День Советской Армии, и 8 Марта, и 1 Мая, и Пасху, и Троицу, и 7 ноября, и много других церковных и светских праздников.
Особое какое-то значение имел день сельхозаготовителя.
Происходило это осенью. В деревню приезжал разукрашенный обоз для сбора натурального сельхозналога. И со всех дворов несли к месту его стоянки сдавать в пользу государства продукты сельского труда.
Казалось бы, грустным должен быть такой день. Свое ведь, кровное отдавали. Ан, нет, на деревне праздник.
Особым праздником всегда были и выборы в органы советской власти.
Власти эти самые старались, и в день выборов приезжал в деревню богатый буфет, в котором можно было купить даже (!) бутерброды с твердокопченой колбасой и красной или черной икрой. Аэродромное начальство устраивало катание детей на разукрашенных санях или повозке, в которую были запряжены лошади. На всю деревню целый день разносилась маршевая музыка и мощных репродукторов, установленных на аэропортовской стороне. Всю эту атрибутику позже, в годы моей партийной работы, использовал и я.
Политдонесение о выборах, где я всегда выступал представителем партии, было главным документом прошедших выборов. И там всегда была ПРАВДА.
Из взрослых развлечений во всех дворах были карты, домино, песни и танцы под гармошку. Дети играли, в основном, в лапту, пацаны постарше в волейбол и городки.
Свободные от школы в летние каникулы дети были заняты с утра до вечера. Гонки на велосипедах, купание в речке, где для купальни была сооружена запруда, походы по грибы и ягоды. Особое развлечение у мальчишек – игра в войну и раскопки на месте зенитной батареи, стоявшей здесь во время войны. Я обещал об этом напомнить. Мало у кого из мальчишек не было трофеев в виде заржавленных винтовок, наганов или пистолетов, штыков, разного фасона и размера гильз и прочего военного скарба.
Я тоже был обладателем мосинской винтовки, нагана и зенитных гильз. Много позже органы милиции не раз проводили изъятие этих «драгоценностей» до тех пор, пока не оставили нас с деревянным «оружием». Я свои трофеи прятал, где мог, как говориться, до последнего. Это – «последнее» настигло меня в виде мамы с ремнем в руках. Это была первая серьезная порка. Родителей, у детей которых обнаруживали эти «драгоценности» серьезно штрафовали.
Когда я подрос, отец купил мне «на барахолке» трофейный немецкий военный велосипед. По сравнению с появившимся тогда нашим юношеским велосипедом-красавцем «Орленок» это была тяжеленная колымага, с которой я едва справлялся. Зато счастливые обладатели «Орленков», после наших поездок «по лесам, по горам» днями занимались ремонтов своих колес.
Моей же «колымаге» никогда ничего не делалось.
На территории зенитной батареи было несколько подземных ходов, выложенных бетонными арками. Лучшего места для игры в «войнушку» придумать было невозможно. После знаменитых «маленковских» реформ 1956-57 годов деревня, и не только наша, а по всему СССР, начала отстраиваться. Выделялись участки и кредиты под индивидуальное строительство. Для этого «строительного бума» как нельзя кстати подошли бетонные арки подземных ходов, которые в считанные месяцы были растащены под фундаменты. Так закончилась история «зенитки».
А тут еще и громадное, по нашим меркам, строительство вдоль железной дороги. В 1956 году по нашей ветке в сторону станций Ладожское озеро и Невская Дубровка пошли электрички. Да бог с ними, но ведь в деревне появились ПЕРВЫЕ две АСФАЛЬТИРОВАННЫЕ платформы с ОСВЕЩЕНИЕМ. На вопрос куда идешь, мы отвечали – гулять на платформы. Потому, что по другим улицам деревни весной, осенью или в дожливую погоду «гулять» можно было только в резиновых сапогах.
Но это по вечерам, а днем…
Не проходило дня, чтобы мы не играли в лапту, реже в футбол. Юноши и мужики помоложе часами играли в волейбол и городки.
Зимой в пойме реки расчищалась и заливалась площадка для катания на коньках, игры в хоккей и катания на «кружалах». Для «кружал» в лед вмораживался короткий столб. К нему, на металлическом стержне, крепилась в свободной вращении, длинная жердь, а к ней приделывались салазки. Получалось нечто вроде карусели. Спуски к реке вдоль всей долины были прекрасным местом для катания на лыжах. Тут и там устраивались небольшие трамплины.
Мне тоже купили коньки «Снегурка». С такими завитыми концами. Крепились эти коньки прямо к валенкам при помощи кожаных ремешков. А первые лыжи у меня были из дощечек от большой бочки. Папа заострил эти доски с одного конца, в середине приделал ремешки и – поехали. Такие лыжи тогда были у многих.
После школы портфель сразу же отправлялся под кровать до позднего вечера. Мы же, перекусив чем придется, бежали на улицу, где всегда было чем заняться.
Не обходилось и без детских потасовок. Чаще других доставалось детям из семей немецких колонистов. После войны некоторые эти семьи вернулись в деревню. Но, после-то войны, они все были для нас «немцами». Поводом для трепки могла стать любая неосторожность парнишки из такой семьи. Помню, серьезно поколотили мы нескольких таких ребят после того, как в школе их приняли в пионеры. Нам это показалось жуткой несправедливостью. После школы галстуки были сорваны, мальчишки поколочены. «Справедливость» была восстановлена.
Частенько на велосипедах или пешком мы устраивали дальние вылазки по округе. Верст на двадцать в округе мы знали каждый ручеек, каждое озеро, все грибные и ягодные места.
Любили мальчишки посещать и ту часть леса, которая находилась за аэродромом. Несколько лет после войны там стояли всеми заброшенные два или три «Дугласа». Все они были, естественно, раскурочены. Но фюзеляжи и многое из приборов и оборудования были целы, и мы с удовольствием доламывали остальное.
Там же в лесу находилось и старое «немецкое» кладбище, на котором хоронили колонистов. После их высылки кладбище было заброшено. Несколько лет назад я полазил по этим местам.
От былого кладбища практически не осталось следов.
Еще раз. От кладбища следов не осталось!
Как будто помню, что между мною и сестрой Людмилой был еще братик Коля. Но, умер во младенчестве. И, вроде, мама проговаривалась, что похоронен он там, на этом «немецком» кладбище. Но. Никогда при нас мама туда не ходила. Сколько таких погостов исчезло с лица земли безвозвратно. А если бы они все сохранились? Остался бы хоть один клочок свободной земли?
Разве в этой жизни надо быть Петром I, чтобы память о тебе сохранил памятник. Утешает лишь то, (утешает ли?), что память хранят не памятники, память хранят сердца.
(Всегда ли? Какую память хранит сердце моего сына?)
Чаще надежнее бывает просто березовый крест.
Особое место в развлечениях и детей и взрослых была рыбная ловля. В нашей маленькой речушке водилось не мало рыбы и раков. В весенний разлив, когда в речушку на икрометание заходили щука и окунь, после отлива рыбу можно было найти даже в небольших лужах в пойме реки.
Способ ловли был старинный и варварский. Почти в каждом доме была «сетка». Что-то вроде большого сачка для ловли бабочек, но с прямой нижней стороной. Этой сеткой река перегораживалась в самых узких местах. Начиная метров с 30-50 от сетки, вверх по течению становились три человека с «боталами». Это жердь или рейка, метра 3 длиной, на один конец которой набита консервная банка. Неистово колотя этими боталами, загонщики медленно продвигались в сторону сетки. Когда они до нее доходили, сетка вытаскивалась. После каждого загона в сетке оказывались, как правило, несколько раков, десяток пескарей, пару окуней. При очень удачном заходе можно было порадоваться и щуке.
Деревенские бабы во время такой рыбной ловли неиствовали.
Пару часов после прохода «рыбаков» из речки нельзя было набрать воды для текущих нужд. А речка была единственным источником воды. Когда в середине семидесятых, из очень благоразумных «экономических» целей воду с осушенных выше торфяных болот спустили в нашу речку, там погибло все. И речка сама погибла. Теперь там течет безжизненный ручеек, заросший рогозой и камышом и которым никто не пользуется. А ведь деревня ЖИЛА речкой. Редко где, два-три на всю деревню, были плохонькие колодцы. Гораздо позже, в середине семидесятых, когда в Питер вели водопровод от Ладоги, мне удалось добиться установки одной водоразборной колонки в районе железнодорожных платформ. Потом я убедил наших аропортовских начальников установить такую же колонку в районе штаба аэропорта и одну колонку в районе конторы «Заготзерно». Это было уже кое что. И сам на эти колонки несколько лет за водой с двадцатилитровым молочным бидоном на тележке ездил. Потом эту тележку к мопеду, а позже к мотоциклу примастерил. Но это было потом. А пока была РЕЧКА,
Но было и еще одно важное занятие в летние каникулы. Практически все дети старше семи лет летом с удовольствием, даже с большим удовольствием работали.
Я очень любил ходить подпаском, то есть помощником пастуха с деревенским стадом. Обычно гоняли мы это стадо из двух десятков коров на пастбище на территории бывшего приютинского аэродрома. Он располагался в треугольнике между Ковалево, Бенгардовкой и Приютино, бывшей усадьбой графа Оленина. Архитектором всех построек в Приютино был знаменитый архитектор Львов. У Оленина в Приютино любил бывать Пушкин. Частыми гостями были Гнедич, Крылов и многие другие знаменитости того времени.
Часто многочисленные гости тогдашнего Президента Академии художеств плавно перекочевывали от Оленина к Всеволожскому, усадьба которого находилась километрах в двух дальше, на Румболовских горах. И горы Румболовские знаю, и домик двенадцати напротив (домик где жили в войну сразу 12 Героев Советского Союза), да и в округе знаю все.
Но врезалась в память ранняя весна 1968. На одной из возвышенностей Румболовских гор, прямо напротив районной больницы, мы с тем же приятелем, с которым вместе женились, пили на горе водку по поводу первого аборта, который имел место быть в этой больнице. Ну не хотела Муза тогда ребенка от меня.
Эту усадьбу в Приютино восстанавливают ровно столько, сколько я себя помню, но так, кажется, до сих пор и не восстановили.
Так вот на этом приютинском аэродроме во время войны стоял полк истребительной авиации Балтийского флота. Тот самый, история которого рассказывается в знаменитом фильме «Балтийское небо». В этом полку служили одновременно 12 Героев Советского Союза. С одним из них, Иваном Сергеевичем Банифатовым, мы в последствии долго работали вместе в аэропорту и были взаимно близки друг другу. Я еще не раз, даст бог, вспомню этого замечательного человека.
Уже в семидесятые годы прошлого, теперь уже прошлого века, работая замполитом, в рамках проекта серии памятников на дороге жизни, нам удалось поставить памятник летчикам этого полка. Это был стабилизатор от дальнего бомбардировщика, установленный «на попа» на бетонном фундаменте.
По распоряжению Всеволожского горкома партии я тогда отвечал за этот участок дороги жизни от «памятника цветка» на съезде в старое Ковалево до Приютина.
После войны аэродром зарос густой травой. Лучшего пастбища, кроме сенокосных угодий, поблизости не было.
Рано поутру собирали мы стадо, гнали на пастбище, и возвращались поздно вечером. Подпаску за эту работу полагалась кормежка и какие-то деньги.
Следующим любимым занятием было «ночное». В «ночное» гоняли мы колхозных лошадей. Весьма романтическое занятие, за которое тоже платили какие-то деньги.
Колхоз тогда преобразовали в подсобное хозяйство. Хозяйство было не маленькое. Была конюшня десятка на два лошадиных голов, был коровник коров на тридцать, был больной свинарник. Все это требовало корма. Поэтому в пору сенокоса и уборки других культур требовались рабочие руки. Деревенские дети умели многое. Уже лет с семи нам доверяли и конные грабли, и ворошилки, и волокуши. Ребята постарше работали и на конных сенокосилках и даже на пахоте. Все это приносило, пусть небольшие, но все же деньги в семью. Получая колоссальное удовольствие от этой работы, мы, одновременно, очень гордились своими крошечными заработками. Но дома вкалывать приходилось не по-шуточному.
В конце апреля начинались огородные работы. Надо было завести и распределить по огороду навоз, вскопать полосы и разбить грядки. В огороде было все, или почти все, что можно было выращивать в питерских условиях. Было несколько яблонь, кусты смородины красной, белой, черной, крыжовника, малины, черноплодной рябины. На грядках высаживались клубника, редиска, укроп, петрушка, морковь, лук, чеснок, капуста, горох, бобы, клубника.
В теплице росли огурцы, помидоры, кабачки. Остальное пространство занимала картошка. Все это надо было пропалывать, окучивать, ежедневно в сухую погоду поливать. Наш колодец во дворе имел «великолепное свойство». Когда шли дожди в нем была вода. Когда было сухо - и колодец был сухой. Поэтому воду для полива приходилось носить с речки, метров за сто. А для полива надо было принести ведер пятьдесят. В середине лета наступала пора заготовки дров на зиму. Найти, привезти, распилить, наколоть, сложить в поленицы. Купить – всегда дорого. «Воровали» в лесу. Вся деревня. Среди недели, под вечер шли с отцом в лес, находили или валили сухостой. Волокли домой. Потом, в «тайне» от соседей распиливали на дрова. Секрет полишинеля в деревне.
Потом начиналась пора заготовок. Сначала заготавливалась ранняя лесная ягода – черника и голубика. Ходили в лес и кучками ребят и семьями. Урожай мерили ведрами. Ближе к осени приходила пора заготовки грибов. Потом квасили капусту, солили и мариновали огурцы и помидоры. По первым похолоданиям приходила пора заготовки брусники и клюквы.
От Ковлево до Бендгардовки по железной дороге 4 километра.
Ну, и леса столько же. Эти 4 километра в лесу были отмеряны канавами. Ходить за 3-ю канаву считалось далеко. А та канава от Бенгардовки-то была лишь второй.
За клюквой ездили семьями на приладожские болота, которые тянулись от станции Рахья до самого Ладожского озера.
Короче, с весны до поздней осени у всех хлопот по хозяйству хватало. Зато зимой-то как хорошо было в подпол слазить, баночку того, другого, третьего достать.
Ощущение истинного счастья охватывает до сих пор, когда вспоминаю это время. Особенно по утрам в выходные. Мы еще спим вповалку поперек нашего дивана, а за дверью, на кухне слышится позвякивание посуды и ползут от туда ароматные запахи. Это мама блинков напекла да варения из подпола достала.
Вторая школа.
В третий класс нам уже пришлось ходить в 37 городскую школу в «красные домики». Школа располагалась в бывшем штабном здании суворовских полков, тоже одноэтажном, тоже из красного кирпича, но гораздо более просторном. Школа была семилетняя,
с множеством классов. Я, помниться, начал учиться в этой школе в 3 «г» классе. То есть только третьих классов в школе было четыре. Свою вторую учительницу в этой школе, Инну Васильевну, помню очень хорошо.
Ее материнская забота о каждом из нас, теперь, на расстоянии времени, просто поражает.
Для меня это было очень трудное время.
В семье нашей было уже четверо детей, мал-мала меньше.
Следом за мной появилась на свет сестренка Людмила, затем братик Александр и сестренка Татьяна.
Жили мы очень дружно. Всегда делились чем-нибудь вкусненьким. Никто в одиночку ни крошки не съест, если ему что-то где-то перепало. В спорах и потасовках стояли друг за друга горой. Если кто-то в чем-нибудь провинился, друг дружку выгораживали до последнего.
Судьбы наши сложились по-разному. Впрочем, так и должно быть. Людмила выросла спортсменкой, имела 1 разряд по лыжам. Закончила десятилетку. Вышла замуж. Стала Красотиной. Родила сына – Сергея. Пошла работать на завод «Электросила» в цех пайки. Да так на всю жизнь там и осталась. Работала пайщицей, бригадиром, мастером, старшим мастером цеха. Оттуда же и ушла на пенсию. Но прожила на пенсии всего года два. Более чем тридцатилетняя работа с оловом, серной кислотой и канифолью сделали свое дело. Умерла она от цирроза печени. Она давно жаловалась на печень. Но, когда мы останавливались у нее во время одного из посещений Питера, мы и подумать не могли, что через полгода ее не станет.
Александр был любимцем семьи. Общим любимцем. Годам к семнадцати это был парень-красавец. Музе Григорьевне особенно нравилось, как он по-гусарски держит корпус.
Саша закончил Ленинградский кинотехникум с отличием и, как отличник, был направлен на работу в самый престижный питерский кинотеатр тех лет «Колизей» на Невском проспекте. Потом отслужил армию в милицейских войсках, вновь вернулся в кинотеатр. Женился. Но, пока он был в армии, появился, якобы, его сын. Но, почему-то фамилию ему дали даже не его матери. Лосев – стала его фамилия. Хотя нас убеждали, что это Сашин сын. Так ведь жена попалась взбалмошная. Где бы она не появлялась, обязательно возникал скандал. Саша начал попивать. Потом поменял множество работ. Одним из последних мест работы была должность начальника цеха на заводе детской игрушки в Павловске.
В это время мы с Гришей очень серьезно занимались производством оловянных солдатиков. Сами делали формы. Сами отливали. Сами раскрашивали. В Эрмитаже купили альбом военных мундиров ХVIII и XIX веков. Гриша строго следил, чтобы отлито было верно и, особенно, раскрашено. Олово поставляла Людмила (на пайке ведь работала), а краски Саша, (на детской же игрушке сидел).
Годам к сорока Саша окончательно спился. Развилась астма.
Во время одной из попоек начался приступ астмы. Лекарств под рукой не было. Жили они в поселке Коммунар километрах в 70 от Ленинграда. Со скорой помощью в этом захолустье тоже что-то не получилось. Так и скончался в 47, по-моему, лет.
Танюшка закончила техникум общественного питания. Всю жизнь проработала в сфере общественного питания. Рано вышла замуж за моего коллегу по электрослужбе и стала Кузнецовой. Так ветвь фамилии осталась тяжким бременем на плечах Гриши.
Танечка родила двух дочек-красавиц. Светлану и Юлию. Потом ее дочери первыми сделали нашу маму сначала бабушкой, а потом и прабабушкой. После смерти мамы Танюшка заняла наш дом. Семья-то у нее разрослась прилично.
Но, я не об этом.
Сразу после войны отец устроился работать главным бухгалтером на «Райпромкомбинат» во Всеволожске. Этот промкомбинат входил в состав существовавших тогда «Райпо», районного потребительского общества. Производил комбинат всякую всячину: хлебобулочные изделия, «кондитерку», пиво и лимонады, дешевые колбасы и прочее. Место у отца было заметное, неплохо оплачиваемое, работал он там главным бухгалтером. Да и возможности поддержать семью продовольствием имели важное значение.
Мама же, в перерывах между декретными отпусками, работала ночным сторожем на аэродроме. Это было рядом с домом, давало возможность постоянно заниматься детьми. Утром, после ночного дежурства, пока мы были в школе, мама могла соснуть несколько часов, а к нашему приходу она уже успевала и еду сготовить и по хозяйству что-то сделать. Жили не богато, но вполне ухожено и обеспечено.
Но в 1950 (или 1951), точно не знаю, разразилась беда. Отец был осужден. Его приговорили к одному году условно без права занимать материально-ответсвенные должности в течение трех лет. Как рассказывала мама, причиной этого несчастья стало то, что отец задержал выдачу заработной платы работникам комбината на три дня. На счете «Райпо» не было денег. Что-то там не сработало во взаиморасчетах. Конечно, виноватым был главный бухгалтер.
Устроиться на какую-то более-менее приличную работу после такого скандала в те времена было невозможно.
Пришлось отцу заняться отхожими промыслами.
Он освоил профессию печника и зарабатывал устройством печей. Народ тогда все еще отстраивался после войны, и заказов у отца было много. Правда, классного специалиста из него не получилось. Делал он это не очень умело и не очень качественно. Но беда была не в этом. На устройство печи, плиты, камина уходило обычно 3-4-5 дней. Каждую вновь отстроенную печь нужно было обмыть. Ох уж эти русские обычаи. Отец начал спиваться. Из тех денег, что он зарабатывал, до семьи стало доходить все меньше и меньше. Мы начали бедствовать.
Дело дошло до того, что в классе 3 или 4 школьный педсовет выделил мне школьную форму за счет школы.
Как сейчас помню торжественную пионерскую линейку, на которой мне этот костюм вручали. Для школьного начальства это было актом социально значимым. Для меня это было несмываемым позором. На линейке я проваливался от стыда. Потом я не пошел домой и ночевал в школьной кочегарке у бабы Маши, матери школьного товарища. Когда меня извлекли из этой кочегарки на свет божий, я около недели не ходил в школу. Уходил из дома, но в школу не ходил. Стыдно было.
Подобный «позор» пришлось мне пережить еще раз. Но об этом чуть позже.
Дорогу в школу и обратно преодолевали мы по-разному.
Чаще всего шли пешком до «Парижа», а там садились на автобус. Иногда, в хорошую погоду и, как правило, из школы, шли пешком. Это давало возможность сэкономить пять копеек и на следующий день купить в школьном буфете пирожок с повидлом или 2 пончика.
Когда учились во вторую смену, то дорогу из школы чаще проделывали через станцию Ржевка на поезде. Правда, до станции от школы тоже был приличный кусок, но темными вечерами было гораздо приятнее и безопаснее дойти до станции по освещенным улицам поселка.
От этих поездок через станцию Ржевка сохранилось два сильных впечатления. На железнодорожном вокзале допоздна работал буфет, и в нем, на сэкономленные от автобуса деньги, можно было купить пирожок или котлету или стакан кофе с молоком. Ничего более вкусного, чем эти залежалые, остывшие общепитовские «вкусности», я, кажется, не едал. Билет на поезд мы, конечно, никогда не покупали и ездили «зайцами». Всего-то две остановки. Да и контролеры, если попадались, нас прощали. Пару раз, после длинного дня и прогулки от школы до станции, устроившись в теплом и светлом вагоне, я мгновенно засыпал.
И тогда просыпался только на Ладожском Озере или Невской Дубровке. Приходилось проделывать обратный путь. А это почти полтора часа езды. Возвращался я тогда домой часам к 10-11 вечера. Дом в панике, мама в слезах. Но наказан за это я не был ни разу.
В зале же ожидания вокзала на стене висел огромный портрет Сталина. В кителе, с трубкой в руках он стоял на Красной площади. Я всегда подолгу разглядывал этот портрет.
Очень хорошо помню траурные дни после его смерти. Газеты этих дней до сих пор стоят перед глазами. Помню, как искренне плакали взрослые, с каким страхом задавали друг другу вопрос: «что же теперь будет?».
И очень хорошо помню, какое удивление и трепет возникли во мне, когда однажды я не обнаружил привычного портрета в зале ожидания. Пустая стена зала стала символом пустоты, которая, как казалось, оказалась перед нами.
Учился я средне, хотя все учителя признавали мои способности. Мне легко давались гуманитарные предметы. Но я никогда не относился серьезно к домашним заданиям и почти никогда ничего не учил. Обычно родители вечером усаживали нас в кружок вокруг небольшого стола, и мы делали уроки. Большую часть этого времени, наспех сделав свои задания, я посвящал помощи младшим.
Да и условий-то не было. Одна комнатка метров 12 на шестерых. Кухня общая с соседями. Там могла находиться только мама. Спали поперек кровати, подставляя к ней специально изготовленную отцом скамью.
Незабываемое впечатление оставила у меня учительница литературы Мира Львовна Родина. Забавное сочетание – Мира Родина. Маленькая, вся какая-то кругленькая, в огромных очках, из-за которых по лисьи смотрели зоркие и хитрые глазки, она всегда была по отношению к нам само ехидство. Но любили мы ее и уважали как-то по-особенному. За начитанность, за увлекательные уроки, за удивительное умение «втянуть» нас в свой предмет.
Наша учительница географии часто устраивала нам поездки в пригороды Ленинграда. Самое сильное впечатление тех лет осталось у меня от поездки на «речном трамвайчике» в Петродворец. Тогда не было еще, кажется, ни «Ракет», ни «Метеоров», а «морской трамвайчик» тащился до Петергофа почти два часа. Но это было впервые увиденное МОРЕ.
В эту поездку я впервые надел сшитую мамой «москвичку». Очень модная тогда и у детей, и у взрослых курточка на молнии. Как я гордился этой обновой – не описать. Да еще кепка и парусиновые ботинки – тоже новые. Ну, франт, да и только.
А все дело было в том, что к этому времени кончился срок запрета для отца и он смог устроиться снабженцем в строительный цех завода «Краснознаменец». Мы тоже подросли, и мама устроилась вновь в свой старый цех на том же «Красногвардейце» «набойщицей». Папа попал под жесткий контроль, пьянствовать стал значительно меньше, и материальные дела семьи начали поправляться. Во дворе появилась коза, пяток кур, кролики, хрюшка. Жизнь налаживалась.
Третья школа
Беда всегда приходит неожиданно и не вовремя.
В ночь с 28 на 29 декабря 1957 года наш дом сгорел. Зима была холодная и в сарае, где находилась наша домашняя скотина, всегда горела лампочка. Возле нее рассаживались на шестке куры, так было «потеплее» и кроликам, да и коза с поросенком тоже частичку своего тепла получали. От этой-то электропроводки и произошел пожар. Среди ночи повыскакивали мы из горящего дома, кто в чем был.
Не удалось спасти ни денег, ни документов. Моя попытка проникнуть в горящий дом закончилась плачевно. Добыть я там ничего не смог, но на обратном пути, выпрыгивая из окна, я сильно порезал ноги о разбитые стекла. Да, кроме того, на меня съехал кусок горящего рубероида с крыши. Начались мытарства по чужим домам, квартирам, сараям. На второй, или третий день в нашем сарае у соседки появился дядя Миша. Муж маминой младшей сестры, Прасковии. И забрал нас всех к себе. Жили они в коммуналке на Малодетскосельском проспекте в Питере. Почти в центре. Но, это была коммуналка. Да, дядя Миша работал главным инженером на заводе «Ильич». Тетя Паня работала там же уже председателем профкома. И эта комната в коммуналке была метров под 50. Но, у них трое детей плюс баба Маня, да нас шестеро. Через два или три дня папа поздно вечером собрал нас в кучку, и мы поехали в наш сарай в Ковалево. Ни разборок, ни скандалов не было. Просто собрались и уехали. В Ночь. На трамвае № 30, который и по сей день ходит по тому же маршруту.
Наконец, через какое-то время, нам предоставили летнюю дачу на Мельничном ручье.
Правда, сразу после пожара, меня, как пострадавшего, немного подлечили и отправили на зимние каникулы в дом отдыха в Репино. Собирали меня как моги. На мне были валенки на три размера больше, мамины чулки, чья-то ношеная фуфайка и т.д. Валенки, кстати, были очень кстати. Ноги были еще забинтованы после порезов.
В первый же вечер «сотоварищи» по отдыху подняли меня на смех и издевались надо мной как могли.
Это был тот самый второй случай «позора», который мне пришлось пережить. Поздним вечером, после отбоя, я сбежал из дома отдыха и на последней электричке уехал в город.
Но, приехав на Финляндский вокзал, я обнаружил, что электричек в сторону Ковалево сегодня больше не будет. Пришлось «кантоваться» на вокзале. Патрульные милиционеры долго пытали беспризорного оборванца, но, в конце концов, оставили в покое.
С первой электричкой я добрался до Ковалево. Жили мы тогда в сарае у соседки. Расстройству мамы не было предела. Она-то думала, что хоть меня-то, на какое-то время, пристроила. А тут явился, не запылился.
Четвертая школа
Второе полугодие пришлось начинать в новой школе на Торговом проспекте на Мельничных ручьях. По убогости одежды, конечно, тоже некоторые издевались. Но я, к этому времени был настолько обозлен, что давал решительный, часто кулачный отпор всем издевателям. Этим отпором очень скоро я завоевал уважение у соклассников и меня оставили в покое.
Тем временем ускоренными темпами шло строительство времянки на месте пожарища. Эта времянка стоит и поныне.
Надо отдать должное, помощь шла ото всюду. Строительный цех завода «Краснознаменец», где работали и папа и мама, выделил кое-какие строительные материалы. Какие-то деньги выделил Красный крест, какие-то деньги получила мама по страховке, что-то собрали соседи и знакомые.
Но в мае месяце, когда дачники должны были занять свои дачи, нас из временной дачи выселили. Происходило это торжественно. Поскольку выехать нам было решительно некуда, отец выезжать отказался. Тогда появился лично председатель исполкома некто Леонтьев c нарядом милиции и грузчиками. Под плач и вой погрузили наши нехитрые пожитки на грузовик, а дачу заперли на замок.
Долгие годы работал этот Леонтьев председателем исполкома. Было время, когда Томушка, волею судеб, работала у него секретарем и до конца жизни очень хорошо о нем отзывалась. Много позже и мне пришлось решать с ним не мало разных житейских проблем. Он и вправду был неплохим руководителем. Но детская неприязнь к нему сохранилась у меня навсегда.
Теперь, какое-то время, мне пришлось из Ковалево ездить в школу на Мельничный ручей.
К осени времянка была готова. Участок пришлось разделить, бывшие соседи отстроились рядом. Но это уже был наш дом, а в нем было уже три небольших комнаты. Опять появился поросенок, кролики, куры. Запас овощей, варенья и солений давал участок. Потихоньку семья начала выправляться.
На новый учебный год я вернулся в свою старую школу. Правда, не в свой класс, а в параллельный. И тут меня дважды в течением года исключали из школы. На неделю. Было такое наказание. Пока родителей в школу не приведешь.
Я в это время занимался в кружке киномехаников дома пионеров Выборгского района. Мы осваивали киноаппарат «Украина», потом «КТ-20», «КТ-40» и что-то там еще. По пионерской сообразительности мы быстро научились делать из триацетатной пленки «дымовухи». Но, маленькие. Однажды, мой деревенский друг, (как же этот друг «подставил» меня позже., но об этом потом) там же учившийся, «спер» целую бобину. Это, примерно, 1200 метров пленки. Как сейчас помню фильм назывался «Георгий Саакадзе», о герое Грузии. И вот мы с ним, из целой бобины смастерили «дымовуху», и на перемене зажгли ее в «мужском» туалете. Все… Через полчаса занятия в школе были прерваны. Все «эвакуированы». А, через пару дней стало ясно, кто это мог натворить. Исключили из школы.
На неделю.
Чуть позже, через полгода, наш любимый директор Константин Константинович, такой высокий, совсем лысый, открывал строительство новой школы. Прямо напротив существующей.
А стройка уже шла. И сварщики там при газовой сварке применяли простейшие аппараты для получения ацетилена. С помощью карбитовых установок. А мы у них карбит научились тырить.
И, как все просто. Берешь бутылку, лучше из-под шампанского, наливаешь воды, затыкаешь все это соломой, сверху кладешь кусочек карбида. Плотная пробка. Бросаешь. Через 3-5 минут это взрывается. Вот на торжественном митинге мы и бросили. Директора, кажется, даже поцарапало. Расследование привело к нам. Опять исключили. На неделю. Пока родители не придут.
Училище
По окончании седьмого класса встал вопрос, что делать дальше.
В те времена только зажиточные семьи могли позволить себе учить детей до десятого класса. Основная масса детей подавалась в ремесленные училища. Избежать этой участи не мог и я. Долго перебирали мы с отцом различные варианты. Наконец, в одной из газет, мы нашли объявление о наборе в Ленинградское энерготехническое училище. Это был прообраз будущих ПТУ. Располагалось оно на 13 линии Васильевского острова. И пошел Толечка каждый день кататься из Ковалево аж на Васильевский остров. Минимум полтора часа дороги в один конец. Но там кормили завтраком и обедом, выдавали форменную одежду, включая нижнее белье и обувь. А, если в теплое время поехать этот путь «на колбасе», т.е. на прицепном устройстве второго вагона, то и 3 копейки можно было сэкономить и удовольствие получить.
И форменная одежда отличалась от «ремесленников» цветом и фурнитурой. Какая-никакая, а гордость. Правда, среднего образования училище не давало. Пришлось идти в школу рабочей молодежи. Сначала я оформился в ШРМ там же, на Васильевском острове. Между окончанием занятий в училище и началом занятий в ШРМ было где-то 2-3 часа, которые я не знал куда деть и слонялся по улицам. А потом, поздно вечером, ехал с Васильевского в Ковалево. Позже сообразил и перевелся в ШРМ на Ржевку в школу на Ковалевской улице. Таким образом, промежуток между училищем и школой заполнялся переездом, а я возвращался домой больше чем на час раньше.
Вечерние занятия в этой школе стали своеобразным трамплином в другую жизнь. Директором школы был тогда Владимир Арро. Позже, после перестройки уже, он долгие годы был председателем Союза писателей Санкт-Петербурга. А тогда это был молодой «шестидесятник», как говорим мы теперь. Преподавательский коллектив подобрался под стать директору. Особенно выделялась учительница физики Лариса Александровна Гущина. В школе без конца устраивались какие-то музыкальные и литературные вечера, на которые приглашались известные питерские музыканты, поэты, писатели, художники. На вечерах этих царила праздничная и одновременно какая-то одухотворенная атмосфера. Я уже «пописывал» стихи. Каждое новое стихотворение непременно показывал соседке по парте, в которую, кажется, был влюблен.
Часто после школы провожал ее до дома. Разрешалось даже, как у Риммы Козаковой, «за варежку подержать». Возвращала она мне эти листочки с обязательными письменными комментариями, часто ехидными.
Когда я как-то лежал с ангиной, она навестила меня в нашем убогом жилище. Мне было так стыдно, что после этого я избегал наших встреч.
Зато по вечерам после школы мы возвращались в нашу деревню с другой девчонкой. Ее звали Светлана. Появилась она в деревне из ниоткуда. Тоже училась в ПТУ на наборщицу в типографии. Плотная телом, пышногрудая, голубоглазая, вечно улыбающаяся – казалась она воплощением весны. К весне, прощаясь с ней у калитки, я признался ей в любви. Как сейчас помню, как в сладострастной улыбке растянулись ее губы. Проронив слова признания, я убежал, и потом избегал встреч.
Чуть позже, с соседским мальчишкой я получил от нее записку, в которой она писала, что «уже не девушка», что ей очень плохо и ей нужна дружеская поддержка. Я ответил, отослав с тем же пацаном, чем-то из «Воскресения» Льва Толстого. Потом всей нашей деревенской компанией с интересом наблюдали мы, как переходит Светлана из рук в руки от одного деревенского парня к другому. Потом она как-то неожиданно вышла замуж за моряка Амурской флотилии и уехала в Комсомольск на Амуре.
Через 25 лет в моем кабинете раздался телефонный звонок. Это была она. И ей опять нужна была срочная помощь. Этим же вечером мы встретились на квартире ее тетки где-то в Апраксином дворе. Предусмотрительно в квартире никого не было. Посидели. Выпили. Поели несметное количество черной и красной икры.
Она была такая же. Весенняя, звенящая. И наезд на меня был такой же безудержный. Но меня интересовал тогда один вопрос. Кто? Да Боря Смирнов. Боря Смирнов был моим попутчиком с 1 по 7 класс в школе. Это с ним мы устроили «дымовуху» в школе. Нас было четверо. Я, Боря Елисеев, сын советского майора, дошедшего до Берлина и притаранившего от туда много всего, включая «Опель». Потом Толя Ягненков, сын аэродромного бухгалтера, и этот, Боря Смирнов. Выходец из самой, пожалуй, «крутой» семьи в деревне. Папа – главбух в заготконторе. (описывал уже). Мама – модная швея. Старший брат – Владимир Смирнов, уже в то время известный поэт. Позже, в издательстве «Карелия», один за другим, выйдет почти десяток его поэтических сборников. Правда, никто этого имени в поэтических антологиях так и не находит. Но, тем не менее.
Но в то время к нашему «обществу» ни Борис, ни его друг, в последствии известный русский художник Андрей Уваров, никакого отношения не имели. И то, что именно он, стал первым мужчиной в жизни Светланы, было для меня убийственной новостью. Наезды были бесплодны. Но Боря вырос. В годы нашего расцвета он был директором какой-то из питерских помоек.
А просьба Светланы была проста. Ее дочь уже года два, приехав куда-то там поступать, толкалась в Питере. И толкалась, в основном, в «Сайгоне». Было тогда такое кафе на углу Невского и Владимирского. Наркоту можно было получить там вместе с чашкой кофе. Кстати, в то время, я часто пил там кофе. Видел несколько необычную атмосферу этого кафе. Но как-то ни разу не возникало каких-то «других» восприятий.
Короче, восемьнадцителетняя наркоманка из Комсомольска на Амуре мечтала стать стюардессой.
Директором ПТУ, где учили стюардесс, к этому времени, был мой хороший друг Володя Зайцев. До этого он работал в нашем авиаотряде заместителем командира отряда по движению (диспетчерская, и крайне важная служба), потом, по моей рекомендации, поработал какое-то время председателем профкома авиаотряда. И потом перешел на эту директорскую должность. Одним звонком Володе я решил проблему. То есть не решил. Потому что, через несколько месяцев, и дочка Светланы, и сама Светлана, исчезли из моей жизни навсегда.
Но это было 25 лет спустя.
А до этого я мчался по жизни с недопустимой для нормального дорожного движения скоростью.
Наши «дополнительные» занятия в вечерней школе представляли этот мир в другом свете.
И это давало возможность заглянуть в щелочку в другой мир, мир питерского искусства того времени. И казался он мне огромным и непостижимым. Но об этом чуть позже.
Училище за тридевять вёрст, ШРМ по вечерам, поэтические потуги. Всё это было через чур для молодого пацана. Опять на помощь пришел дядя Миша. Он предложил мне пожить у них на Малодетскосельском. Я согласился. Один ведь. Не шестеро. Но, через пару недель я от них «свалил» никого не предупредив. Потому, что, прихожу «домой» в 11 вечера, усталый и измотанный. А тут тетя Паня. Зубы чистить, ноги мыть, потом ужин. Ну, помыл я эти ноги две недели, зубы утром и вечером почистил. И «свалил». Пусть они, встав в 7-00 и промыкавшись до 23-00 ноги моют и зубы чистят.
До сих пор я очень благодарен и училищу.
Кроме профессиональных знаний в области электротехники нас научили там РАБОТАТЬ. На практике мы работали на самых различных предприятиях. Я работал и на стройке нового тогда микрорайона Малая Охта, и на заводе «Дизель» у моста Свободы, и на заводе «Звезда» на Пряжке и еще где-то.
Эта практика приделала руки к месту. Всю жизнь горжусь тем, что могу, практически, все. И по плотницкому и столярному ремеслу, и по слесарному, токарному, сварочному, сапожному, фрезерному, не говоря уже об электрической части.
Но «учили» там и другому. Большая часть нашей группы состояла из уже отъявленных «отморозков» из центральных районов города, особенно с Васильевского острова. А там морской порт, гостиницы и прочая и прочая. Вся эта «шантрапа» уже вовсю «фарцевала». Естественно, была уже привычна к куреву, дешевому вину, доступным девочкам. «Валенков» вроде меня к их «цивилизации» приучали насильно. Не покуришь с ними на перемене – побьют, не пригубишь глоток после занятий – опять «коробочка».
К вину не приучили, а вот курить начал. Так еще же, как раз в это время появились на прилавках табачных киосков соблазнительные заграничные (болгарские) дешевые сигареты в красивых пачках. «солнце», «стюардесса», «ту-104» и еще какие-то. И первые красивые газовые зажигалки. Ну, как тут не закуришь.
Когда мама обнаружила в уголках карманов брюк крошки табака, отец отпорол меня по серьезному. Но было уже поздно. С тех пор курю я безостановочно, вот уж 50 лет.
Позже, в авиаотряде, когда я был уже «шишкой», секретарем у меня работала Нина Андреевна Егорова. Действующий капитан КГБ, партизанская радистка, многажды бывавшая в немецком тылу. Более четко исполнительного сотрудника, очень умного и внимательного, я не знал никогда. Надо не забывать, что жили мы-то тут же, в деревне. И знали обо всех практически все. И Нина Андреевна знала меня то от рождения.
Но я не об этом. По партизанской ли, по фронтовой ли, привычке, она прикуривала одну папиросу «Север» от другой. Прожила она до 96 лет. Это не реклама табака. Это констатация действительности.
В один из самых сложных периодов моей жизни она без тени сомнения встала за меня горой. А в чине капитана КГБ, ветерана войны, где груди не хватало, чтобы разместить награды, это чего-нибудь, да стоило. Но об этом позже. Потому, что это было потом.
Ну, так к крошкам табака в карманах.
Вообще-то нас никогда не наказывали, а тем более не пороли.
Со мной, за все мое детство это произошло лишь три раза. Первый раз за оружие из «зенитки». Второй раз мама выпорола меня за то, что я грязью закидал соседку, ее подругу.
А зачем она нашу запруду на купальне разрушила?
А тут был третий.
Из памятных событий того времени в самых ярких красках помню несколько.
В 1960, по-моему, году перед мостом лейтенанта Шмидта, прямо напротив 13 линии, где стояло наше училище, поставили на якорь для всеобщего обозрения первый в мире атомный ледокол «Ленин». Толпы народа, оркестры, флаги, марширующие отряды военных моряков. Почти каждую перемену бегали мы на набережную еще раз посмотреть на это чудо света.
И 12 апреля 1961 года. Полет Юрия Гагарина. Казалось, весь город высыпал на улицы. Занятия были прерваны. Снова оркестры, флаги, марширующие батальоны. Город ликовал. Мне же запомнился абсолютно солнечный, до звона в ушах, день.
Это общественные, так сказать, явления.
Из частных, личностных, было два.
После первого курса училища, за примерную учебу мне вручили путевку на путешествие по Волге от Ярославля до Астрахани и обратно. Первый мой выход в большой свет.
Пароход назывался «Ильич». Был еще теплоход «Ленин», флагман Волжской флотилии. Мы встречались с ним дважды по пути туда и обратно. Это был могучий, по тем временам, многопалубный красавец. Наше же «суденышко», вместе с трюмом, насчитывало всего 3 палубы. Ход имело колесный. То есть, с обоих бортов лохматили воду два лопастных колеса.
И это придавало плаванию особую прелесть.
В каждом городе или городке мы делали остановку. Ярославль, Кинешма, Вольск, Рыбинск, Казань, Саратов, Куйбышев, Сталинград, Астрахань. И это не считая других стоянок в городах поменьше. В каждом городе экскурсия. История огромной страны капала на молодые мозги, как тягучая сосновая смола капает по огненному скату отшелушившейся сосновой коры. В Саратове посещение местного, весьма заслуженного и знаменитого театра. Давали «Веселую вдову». До того в театре я не бывал. Не до того было.
В Астрахани на экскурсии по дельте Волги местные «рыбаки» продавали черную икру в пластмассовых пакетиках по 9 рублей за кило. Как не купить такую прелесть. Что до дому ее не довести, в ум не входило. На обратном пути из Астрахани до Сталинграда весь пароход был загружен арбузами. В Астрахани они стоили 5 копеек за килограмм, в Сталинграде уже 25 копеек. Кстати, эти же 25 копеек в это время стоили арбузы и в Питере. Чудеса тогдашнего социо-капитализма. Астраханские помидоры, на мой вкус, лучшие в мире, в самой Астрахани стоили 40 копеек, в Питере «всего» 60 копеек.
Окна кабин нашего второго класса наполовину выходили на верхнюю палубу. Пацаны – народ сообразительный. Там, на верхнее палубе – мешки с арбузами. Выберись в форточку, вспори мешок, и катай арбузы в каюту. Так и сделали. Есть арбузы было уже не вмоготу. А, вот покидаться – за милую душу. И летели эти «мячи» от стенки к стенке.
Позже, познавая науку современного бизнеса, я так и не смог понять таинств этого ценообразования.
Перечитывая романы Андрея Печерского, особенно «на горах», я всем своим существом до сих пор чувствую эту «волжскую атмосферу».
Путешествие это начало приоткрывать для меня иной мир.
Без Ковалево, без Васильевского острова, без станции Ржевка.
Дипломную работу в училище писал я на тему «Вторичная коммуникация на станциях, подстанциях, сетях и линиях передачи». Дипломные работы по вторичной коммуникации доверили лишь двоим, из всей группы. Учился я в училище хорошо и работу выполнил на «отлично».
И направили мня, по распределению, в Центральную электротехническую мастерскую всесоюзного треста «Гидроэлектромонтаж». Находилась эта мастерская в деревне Яблоновка на Малой Охте. Это примерно там, где сейчас метро «Ладожская».
Алтайская драма
Беды, они являются неизбывной частью нашего земного пребывания.
В какой-то летний день 1963 года я вернулся домой чуть раньше, чем обычно. Уже у порога понял я, что в доме происходит что-то необычное.
За столом на кухне сидел дородный, лысый, гладко выбритый мужик. Чувствовал он себя здесь явно хозяином. Папа сидел в уголке напротив весь какой-то скукуреженный. Мама стояла у плиты, прижав к губам кончик передника. Мелкотня толкалась здесь же. Ждали меня. Почему? Я ведь еще маленький. Я ведь паспорт только что получил. И ни за что не в ответе.
Скоро все прояснилось. Мужик этот был старшим братом отца.
И больше двадцати лет, после войны, он его искал. И нашел. Счастье-то какое!!!
Ага. Тут дядя Вася и рассказывает, что у отца на Алтае до войны семья была. И в той семье пятеро, ПЯТЕРО, детей.
Мама в шоке, отец при смерти, мы плохо врубаемся, о чем это.
Дядя погостил два-три дня, и уехал.
Мама с папой, нет, мама, решает. Мне и Людмиле надо ехать на Алтай и там все как следует разузнать.
И поехали. Мне шестнадцать. Люде тринадцать. Трое суток на поезде до станции Бурла. В поезде ведь люди быстро сходятся. Вот и я «сошелся» с отроком постарше меня. Тоже стихоплет был.
И соревновались мы до одури. Звали его Илья. А фамилия была – Фоняков. Через 50 лет мы встретились вновь. Но это уже был ИЛЬЯ ФОНЯКОВ. На встречу с ним мы с Томушкой пришли в Лавку писателей на Невском. Попили кофе. Повспоминали. (было бы чего). Вручили ему мой первый сборник.
Чуть позже, в этот же приезд в Питер, пошли мы с Томушкой на творческий вечер Гаврилова, Кушнера и Фонякова. В конце вечера я поднялся на сцену и представился, в первую очередь, Льву Гаврилову. Напомнил о шестидесятых. Эмоций – ноль. Но, об этом потом.
Дак, о чем это я. Ах, да, об Алтае. Усадьба дяди Васи. Василия Корнеевича Ясинского, главного бухгалтера огромного алтайского совхоза. Жена его, тетя Маша, к ужину приготовила огромное блюдо жареных «цыплят». Удивился !!! Откуда столько. Потом узнал, на чердаке было маленькое окошко, а на чердачном полу немного пшеницы. Голуби, огромными стаями питавшиеся на безграничных алтайских полях, на ночь залетали на такие вот чердаки. А там – ловушки. И питались люди этими «цыплятами» все лето от полной нам с вами души. Нет, мы тоже, в нашей деревне, ловили голубей. И жарили их на кострах. И ели с удовольствием. Но зачем же их за «цыплят» выдавать. Потом были длинные поездки по родственникам.
Первого сына отца на той земле звали Виктор. Неужели поэтому он и меня так назвать хотел?
Старшая сестра, сестра ли??? По имени Лида (а нашу, следующую за мной, которая тут же была, звали Люда, опять игра имен?), была замужем за комбайнером. 25 гектар алтайских площадей он обрабатывал один. Огромный дом, сараи, овчины, комбайны и прочая техника во дворе. Неисчислимое количество кур, уток, гусей. Коровы, свиньи. А что комбайнеру при таких угодьях. Один контейнер комбайна, и почти пять тонн пшеницы в закромах. Корми скотину – не хочу. И жизнь такая же. Хлеб – свой, овощи свои, мяса во дворе – девать некуда. А самогон на пшенице – песня.
Потом была первая жена – Евгения. Уже за шестьдесят. Маленькая, сгорбленная, (а ну-ка пятерых во время войны без мужа на ноги поднять). Бубнила что-то про себя. Кажется, и не поняла, кто к ней приехал.
Обратный путь показался одним днем, так много было впечатлений, так много было чего передумать. Приехали. Маму успокоили. Потом годами родственники из Алтая к нам в гости ездили.
И первого папиного сына из той жизни мама в этой жизни принимала как своего. Правда, он до этого из тюрем не вылезал.
И из этой жизни так же исчез. Навсегда. И как-то никто от этого не пострадал.
И мама ездила, правда не на Алтай, а в Молдавию, где жил средний брат Федор. Сошлись они душами. А сына, старшего, звали у него Анатолий. Анатолий Федорович Ясинский. Закончил Анатолий юридический факультет Новосибирского университета и на ту пору работал прокурором в Виннице.
То есть, вроде бы, как бы все и ничего. Но отца эта история, нет, не подкосила, она его просто срубила. Еще 5 лет сопротивлялся он этой жизни. А потом умер у меня на руках в возрасте 61 года. Помню, как встретился с ним первый раз после прихода из армии. Он был уже на пенсии и работал сторожем в «парашютном домике». Была при аэропорте бригада парашютистов пожарников, а у них свой домик. Начальник парашютной команды после ее расформирования стал начальником электрослужбы. Звали его Анатолий Пытков. Долго, очень долго потом мы были с ним не только коллегами по электрослужбе, но и людьми, понимающими друг друга. Это некое десятое состояние. Когда не друг, не приятель, и за пределами службы контактов никаких. Но всегда знаешь, как поступит этот человек в той или иной житейской ситуации, особенно связанной с тобой лично. Это то, что называется – в разведку пойду.
Так я о папе. Я встретил сгорбленного старика в ватнике, валенках (летом), небритого, с поникшей головой и потухшими глазами.
И только вечный толстый том очередного исторического романа под мышкой говорил о том, что эта душа еще теплится.
До сих пор не понимаю, как жил он с этой глыбой-виной все эти годы. Что это было. Такая беда-любовь? Или бегство-предательство?
До сих пор помню этот вечер, как вчера. Со смертью ему повезло. Она застала его в магазине, в очереди в кассу. Взяла и пришла нежданно(?), непрошено(?). Я потом много видел смертей. Смертей людей светлых, чистых. Все они погибали в муках. А отцу, грешнику, повезло.
А жизнь продолжалась. Казалось бы, тут и должно все оборваться.
Ан, нет. Она продолжается.
В промежутках
А зачем, вообще, я это пытаюсь писать. Рассказать потомкам о муках своей жизни. Так психологического анализа движущих побуждений по Достоевскому все равно не достичь. Для этого надо стать психом. Одолеть бытописание по Толстому не получится.
Как же не будучи графом жизнь-то «крестьянскую» описать. Обхохотать свою жизнь по Чехову – юмора не хватит. Разбросать росой по траве свои любовные романы по Мопассану – трава повянет. Ведь до конца честно – это как на плаху. А на плаху по собственной воле кто же пойдет. Изрыдаться на эту тяжкую жизнь по иудиному Солженицину – тягостей недобрал. Прикинуться деревенщиной под Шукшина или, уж, на крайний случай, под загубленного губернатора-юмориста – «Аншлаг» не поймет. Так зачем же?
Мастерская
Сначала я не понял юмора. Почему успешного учащегося закинули в такую дыру. Монтировали мы там простецкие электрощиты.
И монтировали их серьезные ребята, которые в текущих буднях, держали себя как родовитые бояре.
Первая же командировка расставила все по местам. Трест «Гидроэлектромонтаж» был мудр. Со всего Советского Союза собирали сюда, в мастерскую в Яблоновке, самых классных мастеров своего дела.
И, когда, скажем, местные мастера не успевали сдать, скажем, первый блок такой-то станции к 7 ноября, годовщине революции, тогда формировалась «волчья бригада» из этих самых мастеров.
И я попал в одну из них.
Первый, авральный, выезд на Братскую ГЭС. Кто не знает ее по песням Пахмутовой и Добронравого. Московский вокзал. Купе поезда дальнего следования. Мои старшие коллеги в ватниках, валенках, ушанках. На дворе декабрь. Но в Питере + 6, дождь.
Я являюсь в купе в модном пальтишке, берете и в лодочках. Лодочки, это такие легкие туфли.
Я тогда носил только берет. Как Че Гевара.
Через трое суток выгружаемся. За окном минус 30.
До гостиницы 5 километров пешком. Пол ночи бегал я туда и назад. Сначала брал чемоданы и бегом относил их вперед метров на 500. Потом бежал назад, брал остальные и пер их туда же. И по цепочке. Мои шефы, в валенках, треухах, фуфайках и прочем зимнем, общественно хохотали, и потягивали из горла запасенную «Московскую». Мне было не положено. Во всех этих командировках мне было положено пить кефир и закусывать шоколадкой. Строго было.
Утром общий пейзаж просто снес с ног. Такой красоты, такого величия, я еще не видел. Стоишь на правом берегу, смотришь на все это, и хочется чайкой в небо. Чехов был неправ. Втюхав нам образ чайки, как образ чего-то романтического, он, врач и биолог, не знал что ли, что более грязной и крикливой птицы нет на свете. Поэтому самыми первыми постоянными жителями любых свалок являются чайки, а потом уж люди.
Но, первое, что пришло на ум, ведь есть же люди, которые не только это видят, но и знают, как это покорить и использовать.
И есть люди, которые понимают величие происходящего.
Отчего бы иначе песням Пахмутовой не суждено пережить даже это титаническое сооружение. Оно ведь когда-то рухнет. Песни останутся. Но наше дело – наше маленькоедело - дело делать.
А мои шефы это дело знали. И они на 15 -16 часов ныряли каждый в свою ячейку. У меня тоже была своя. Но, около 12 я должен был в судках принести обед, потом, около 19 часов я должен был принести ужин. А к возвращению в гостиницу около 22 часов на столе должна была стоять бутылка водки для них и бутылка кефира для меня.
Как меня угораздило – не знаю, но там, в мастерской, я стал вдруг комсомольским активистом. То есть не то чтобы активистом. Просто по комсомольской обязанности там периодически выпускали стенную газету «Комсомольский прожектор». Что-то такое сатирическое. Но выполнялось это так беззубо, так безвкусно, что меня разобрало. Я взялся редактировать эту газету, но первый же мой выпуск стал предметом рассмотрения на комсомольском бюро. Слишком уж круто что-то я там намалевал. Спас бригадир. Потом, лет через надцать, наши дороги вновь пересеклись. Он уже был не тот.
Я уже был «да». Мы очень хорошо поняли друг друга. Коротков была его фамилия, Григорий Григорьевич. Позже в моей жизни еще один Коротков появиться (ох уж эти имена). Но, того я сам выбрал. От этого и пострадал. Никогда и ничего не понимал в людях. Всегда думал, что человек открыт, и так с ним и общаться надо. Томушка потом долго учила, что не все так. Видно до сих пор не научился.
Итак, чем это я. О первом добровольно выполненном комсомольском поручении. Попал. Первый же выпуск моего «Комсомольского прожектора» взорвал начальство. Спасали командировки. Я срочно опять уехал.
Потом, уже на Волжской ГЭС, я ходил за «провизией» для бригады на правый берег по уже натянутым проводам первой в мире ЛЭП-500. Там, на очередном переходе, я вывернул ногу. Технология была простая. Сталинград на правом берегу. Перед ним, на середине Волги – остров, а там и левый берег. Как у Твардовского в Васе Теркине – «берег левый, берег правый». А провода располагались как бы ромбом. Сверху – тонкий, нулевой. А слева, справа и снизу – фазовые. Цепляешься карабином спасательного пояса за правый. Одеваешь рукавицы и держась за левый и правый – вперед. Но, провода провисают. Поэтому, в начале пути, важно не соскользнуть, потому, что он резко идет вниз. А в конце пути надо забраться наверх. На обратном пути однажды я соскользнул и вывихнул ногу. Приехал домой хромой. Потом, живя в своей хибаре в Ковалево, я натянул проволоку между двумя тополями и ходил по ней, изображая канатоходца. Никто мои номера повторить на проволоке не мог.
Потом были: Куйбышевская ГЭС, Кировская (крупнейшая в мире Вятская) ТЭЦ, Сясьская ГЭС под Питером.
В Куйбышеве помню только городской пляж и девочек и женщин, загорающих без лифчиков. Это в нашем том Союзе, в расцвет загнивания. Лежал на пляже (по воскресениям) и балдел.
На Кировской, крупнейшей тогда в Союзе (а где еще) ТЭЦ (тепло-электроцентрали), опять попал. Коммуникатируем систему управления выключателем 220 киловольт. Выключатель, (башня в пятиэтажный дом), обкладывается утеплителем. Естественно, стекловата. Дамы, что обкладывают, в прорезиненных костюмах, в масках и т.д. и т.п. А я, наверху, монтирую себе свои провода. Предупреждали. Не послушал. Вечером, в общаге, о, боже, все чешется, сквирбит, жалит. Из носопатки клочьями слизь. Пол ночи в ванной не спасли. Мужики гогочут.
Под Сясью еще смешнее. Надо было запустить Сясьскую подстанцию к 1 января. Сказано – партия наш рулевой. Пару недель отработали, подстанция готова к запуску, осталось систему управления выключателем запустить. На пульте управления все готово. Наверху, на крышке выключателя, надо смонтировать один кабель. На дворе минус 25, ветер ладожский. Кого послать. Толечку. Пуск в 12-00 по Москве. Телекамеры, корреспонденты, начальство – все готовятся к выпивке.
Наверху надо было всего 36 концов, то есть проводов, закрепить. Залез. Два развода. На одном маркировка от 1 до 35 с пометкой «л», на другом маркировка от 2 до 36 с пометкой «п».
За полчаса разобрался. Спускаюсь. Торжественный пуск. Защита «вылетает», выключатель не срабатывает. Полез бригадир. Проверил. Все правильно. Еще пуск, еще защита, еще выключатель не идет. Начались разборки. Послали того, кто кабель выводил. Кричит сверху, ты как монтировал. Да как отмаркировано было, «л» - слева, «п» - справа. «Козел» говорит, «л» - это линия, а «п» это – подстанция. То есть все наоборот. Перемонтировали. Виноватых, кроме бригадира, не нашли. Часов в 17-00 запустили. Отрапортовали в новостях. А нам домой бы надо. 31 число кончается. Мы и чудных елок из Сяського леса припасли, и судаков ладожских. Чтобы было понятно, подстанцию специально строили для крупнейшего тогда в Европе Сясьского деревоперерабатывающего комбината. Сясь давал стране примерно 30% лучшей в Европе писчей и туалетной бумаги, школьные тетради, картон и т.д. т.п.
В ночь тронулись домой. Чтобы сократить путь, поехали не по трассе, а напрямик. Ну, как в России положено. Там от подстанции до Сясьстроя, очень крупного поселка, всего то лесом километров пять. Вот на середине-то, в лесу, и застряли.
Кто не знает северные, приладожские леса, тот этого не поймет.
Но решение могло быть только одно. Идти в Сясьстрой и просить трактор. Кто – конечно, самый молодой. Километра полтора – два до поселка я отмахал, как делать нечего. Но 31 декабря в восемь часов вечера найти трезвого тракториста ???.
С трудом убедил начальника МТС (Машино-тракторная станция), доверить трактор мне. Когда-то, в колхозе, мальчишкой, на Т-40, маленьком, колесном – да, ездил. Но, на гусеничном танке…
Но в кино видел, как управляют. В «дело было в Пенькове». Уподобился Тихонову и поехал. И доехал!!! И машину вытащил.
И трактор вернул. Помчались дальше. Надо знать дороги в дремучих российских лесах. И летом и зимой, отутюженные грейдерами, они не уступали теперешним европейским бундесштрассе.
Где-то между Подпорожьем и Лодейным полем мы поняли, что никуда не успеваем. Остановились в лесу на перекрестке двух дорог. Зажгли костер. На соседнюю ель, а лес – перестоявшийся ельник - повесили пару консервных банок. И встретили новый год.
1 января 1962 года я приехал домой с елкой (которая уже была не нужна), с парой замерзших ладожских судаков, с отмороженными носом и щеками.
Так я начал осваивать просторы Союза. Через 20-30 лет не осталось на карте европейской части Союза городов, где я бы не побывал.
Но об этом позже.
В тресте «Гидроэлектромонтаж» я, молодой специалист, вместе с командировочными, зарабатывал около 170 рублей в месяц. По тем временам – мечта поэта. В сумме больше, чем мама с отцом зарабатывали вместе.
В лето года, как кажется, 1962, нас, как всех тогда, послали на уборку картошки в деревню Суммы в Волосовском районе. Мастерская наша шефствовала, а как же иначе, над могущественным совхозом «Гомонтово». В деревне Суммы мы должны были подбирать картофель на полях, по которым до этого прошел комбайн.
По уши в грязи, под дождем, мы по сантиметру осваивали пространство. По вечерам в местном клубе состоялись танцы, сопровождавшиеся ежедневными драками между «городскими» и «местными». Почти каждый вечер это заканчивалось поножовщиной. Но ко мне это уже не имело никакого отношения.
Я был опять влюблен. Я не помню, как звали эту девочку. Там много работало, рядом с нами, учениц из ПТУ.
У нас с ней ничего, кроме ахов, не было. Но первый поцелуй «взасос» и «с язычком» был. Потом мы продолжили знакомство в Питере. Я принарядился, купил цветов и конфет. У нее дома, где-то на Фонтанке, она показала мне шкатулку с наклеенными бумажными звездочками. Это были знаки ее «побед».
Я позорно дезертировал. Не потому, что побед у нее оказалось слишком много, а потому, что я не хотел быть еще одной звездочкой. Или, учитывая те, первые, прошлые уже, влюбленности, просто влюбчив был парнишка?
Зато поэтический процесс ускорился. Они были беспомощны, эти первые стихи, как только что вылупившиеся цыплята.
Но процесс пошел.
Проблеме была в том, что ни из одной командировки я не возвращался без увечий, это во-первых. То ноги, то руки отморожу, то глаза электросваркой сожгу, то ногу или руку на высоте портала подверну. И т.д. и т.п.
А, во-вторых, мне пришлось бросить школу. Частые командировки не давали возможности учиться. Через 1,5 года мама сказала: «Хватит».
Если бы она знала, что она сделала.
Аэропорт 1
По маминому настоянию я уволился из ЦЭТМ и устроился электротехником в аэропорт. Мой оклад составил тогда 92,50 рубля. Ровно в два раза меньше, чем я зарабатывал в ЦЭТМ.
Но, не было командировок, не было, до поры до времени, увечий.
К этому времени я был достаточно «продвинут» в области электротехники. Электрическое хозяйство аэропорта находилось на уровне «довоенного времени». Единственным электриком там был некто Михаил Алексеевич Чирков. Бывший командир разведвзвода 2 ударной армии. Помеченный множеством бронзовых и медных висюлек во всю грудь. Его рассказы о войне будоражили сознание. Он рассказывал, как в Берлине взвод наших солдат, досыта наиздевавшись над молоденькой немкой, забивали ей в понятное место зонтик.
Или, когда по Берлину гнали полоненных немецких солдат, охрана этой колоны была обеспечена не только с земли, но и с крыш близлежащих домов. Наши «снайперы» забавлялись. Вот тот слишком высок – убрать, а этот, с краю, маловат и ковыляет – убрать.
Много позже осознал я, о чем это.
И этот заслуженный «вояка» был депутатом райсовета и командиром местной народной дружины. На какое-то время я тоже во все это окунулся. Рейд «народной дружины» по деревне во главе с вечно пьяненьким командиром заключался в следующем. Имея право носить мелкокалиберное оружие, молодцы из этой «народной» дружины расстреливали домашних, на привязи у своих будок, собак. Резвясь, стреляли по воронам и голубям.
Этакая опритчина новых времен.
Очень скоро я восстал против всего этого.
Результатом восстания стало то, что старшим электротехником стал я. А Михаила Алексеевича «выдавили» без шума (фронтовик же) и из депутатов, и из командиров дружины, и из старших электротехников. Так в жизни у меня появился первый серьезный враг.
Но Михаил Алексеевич скатывался дальше. Меня «убило» мое последнее посещение его дома. Я уже был секретарем парткома и мне рассказали, в каком нищенском положении находиться Михаил Алексеевич. Я знал нищенские семьи в деревне. Но, то что я увидел, сразило меня на повал. В застланной рваньем кровати, посреди помойки, в которую был превращен дом, лежал живой труп и по нему ТОЛПАМИ СКАКАЛИ БЛОХИ.
Неужели мое восстание стало такой трагедией для этого героя войны и нашей деревни? Но это было гораздо позже. А пока…
Убожество электрохозяйства аэропорта меня никак не устраивало. Я решительно взялся за модернизацию. Тогдашний начальник аэропорта по фамилии Смирнов (кто бы еще вспомнил множество таких сподвижников процветания своей Родины) решительно поддержал меня. И ввел должность начальника электрослужбы, на которую я так никогда назначен и не был. Она была вакантна до моего ухода в армию.
До этого тренировочные ночные полеты обеспечивались так.
Я выволакивал на себе на середину посадочной полосы зашитые в брезент, в виде креста, лампочки. Они подключались к аккумулятору. Во время полетов я сидел на этом кресте с ракетницей в руках. Как только самолет проходил над моей головой, я должен был «подсветить» ему посадку выстрелом из ракетницы.
В партизанские времена это было здорово. Но, шли 60-е годы ХХ века. Я уже видел атомоход «Ленин», помнил полет Гагарина, потрудился на многих «стройках века».
Убожество аэропорта меня казнило. Как оказалось, времени у меня для переустройства почти не оставалось.
Но, кое-что я сделать успел. Появились новые кабельные линии, новые распределительные щиты, новое ночное световое обеспечение.
Но и тут не обошлось без судьбы
Однажды висел я на столбе. То есть на опоре какой-то местной электропередачи. На когтях и с поясом. Опора эта стояла прямо напротив окна нового здания штаба отряда. Когда я спустился со своей высоты, ко мне подошла очень симпатичная девушка и спросила, не мог бы я ей помочь.
Жила она в одном из тех самых «немецких» домов, которые стояли еще с екатерининских времен.
Ей надо было привести в порядок нехитрое электрохозяйство в комнатухе, которую ей, как молодому специалисту, выделил аэропорт.
Какие проблемы, я тогда брался за любые «халтуры», лишь бы что-то заработать для семьи.
Если бы я знал, во что я ввязываюсь.
И тут опять случилась беда. По навсегда установленному порядку, я как дежурный электрик, каждое утро должен был быть на «линейке». «Линейка» - это там где в линейку стоят самолеты. Там их и готовят к вылету. Без электрика, на всякий случай, тут не обойтись. Эти дежурства познакомили меня со всем летным составом отряда. Долгие годы потом ветераны отряда, да и я вместе с ними, вспоминали эти времена. Однажды, обслуживая очередной, а их было штук двадцать, самолетный подогреватель тех времен, я «попал». Самолетный подогреватель тех времен представлял их себя металлическую бочку. С одной стороны там подсоединялись два асбестовых рукава, куда нагнетался горячий воздух. С другой стороны был вмонтирован вентилятор. Снизу стояла бензиновая форсунка. Сверху две трубы для вытяжки. Каждая такая бочка была снабжена электроподжегом.
Эти самые электроподжеги никогда не работали. Весь фокус был в том, чтобы, открыв кран бензопровода, пустить туда ровно столько бензина, чтобы потом его можно было поджечь с помощью факела, а потом запустить вентилятор.
Мало бензина – не горит. Много бензина – взрывается.
У меня взорвался. Один из сотен, обслуживаемых за это время.
От моего чегеваровского берета и свитера до подбородка не осталось и следа. Произошло это в 50-ти метрах от медпункта, где властвовал доктор Георгий Борисович Крайсберг.
Бывший флагманский врач 10 воздушной армии. Полковник в авиации в отставке. Теперешний начальник медсанчасти аэропорта. Его парадный мундир был подобен иконостасу. Он знал меня с пеленок.
Это потом он будет моим заместителем секретаря парткома по идеологии и лучшим пропагандистом района. Это потом его дочь эмигрирует в США. Это потом его зам. кандидат наук доктор Каплун, член парткома, зубной врач, многие годы лечивший меня, эмигрирует в Израиль.
Все это будет потом.
Сегодня же, доктор Крайсберг, прибежав на место происшествия, сначала перевернул меня на живот и воткнул меня «мордой» глубоко в снег. Потом перевернул на спину и вылил на сожженное лицо один литр чистейшего спирта.
Потом меня на машине аэропортовской скорой помощи отвезли в областную больницу на ул. Комсомола.
Там меня, обработав, забинтовали как куколку, оставив лишь щели для глаз, носа и рта, и – отправили домой. Поздним вечером, как в американских ужастиках, весь забинтованный, я вернулся домой.
Утром доктор был уже у меня. Обругав нехорошими словами врачей из областной больницы, он содрал, под мои вопли, все бинты. Так и будешь жить дальше, чтоб ты знал, сказал он.
Это его «чтоб ты знал» я буду слышать потом на протяжение двух десятков лет.
Никаких лекарств, мазей и прочего. Жить и ждать.
Что может быть труднее в этой жизни. Жить и ждать.
Спать не могу. Корка от сожженной кожи не дает закрыться глазам. Есть не могу – та же корка мешает.
Однажды, недели через две, лежу я это себе в своей комнате, а в соседней комнате семья смотрит концерт с участием Аркадия Райкина. Хохочут. Поднялся. Пошел. Прислонился к притолоке. От очередного пассажа Райкина захохотал. Лопнула корка во всех местах, кровища рекой. А мама не дает ничего трогать. Пусть течет, говорит.
Утром пришел Георгий Борисович. Посмотрел на мое изуродованное лицо и сказал, что большей радости в этой жизни он не имел.
Гад, урод, враг, - много других ругательств втихомолку произнес я тогда.
Но, через месяц, на моем лице не осталось ни следа от ожога.
Отрасли брови и ресницы. А кожа на лице избавилась от бесконечных угрей.
Ну что тут скажешь – военная медицина.
Скольких таких спас этот доктор.
Впрочем, за более чем двадцать лет совместной работы чуть позже я НИКОГДА не пожалел, что был с ним близок.
Вернувшись к «нормальной» жизни я вернулся и в вечернюю школу.
Ну, я же ведь не об этом.
Я же ведь о девушке, которая «халтуру» предложила.
А жила она в «немецком» доме прямо напротив нашего дома. Только через впадину и речку. Ну, метров 200, пожалуй. Пришла она в аэропорт на должность инженера планово-экономического отдела сразу после окончания Ленинградского Финансово-экономического факультета по распределению.
То есть насильно. Закон такой тогда был. Окончил институт и на пять лет по распределению. Вот и пришлось ей из общежития на набережной канала Грибоедова перебраться в развалюху екатерининских времен. Но другого жилья у аэропорта не было. А обеспечить были обязаны. Вот и «обеспечили».
Звали девушку Муза Григорьевна Быкова. Помню, хохотнул. Была уже у меня знакомая – Мира Родина, а теперь Муза Быкова.
Прихожу, смотрю. Все сгнило, старье. Надо все менять, говорю.
Меняйте, говорит она. А провод, розетки, выключатели, предохранители.
О чем это я.
О предохранителях тогда надо было думать больше всего.
Не сообразил.
Это потом уж Гриша мне все говорил – надо было предохранятся. Но Гриша наивен.
Был еще один эпизод в моей работе в аэропорту в этот период. Однажды нагрянули на аэродром киношники. Толпа народа, несколько машин, шум, гам, тарарам. Оказывается они приехали снимать эпизод теперь уже легендарного фильма «Два капитана». Это тот эпизод, когда Татаринов находит Катю в северной избушке. Зима была снежная. Избушкой послужил домик нашей метеослужбы. День был солнечный, а нужна пурга. Подогнали самолет Ан-2. Запустили двигатель. Под воздушную струю кидали снег лопатами. Пурга получилась. Мне же надо было подключить к электричеству всю их осветительную и прочую аппаратуру. Провозились целый день. В фильме этот эпизод длится секунд тридцать. Сняли. Уехали. Сижу в конторке усталый. И тут появляется начальник штаба отряда Фомин. Входит и начинает обыскивать коморку. Не оставили ли мне киношники спирта. На самом деле с Алексеем Николаевичем Фоминым мы потом проработали вместе многие годы, и это был очень порядочный и героический человек. Но о нем позже и не один раз.
Поэтический старт
Чтобы понять такое уникальное явление в общественной жизни как поэтика шестидесятников, надо погрузиться в ту атмосферу. Казалось, воздух России наполнен стихами. Возникла масса литературных объединений. Литературные журналы «Юность», «Нева», «Новый мир», «Аврора» и многие другие выходили миллионными тиражами и их все равно не хватало. Я был счастливым подписчиком «Юности» и «Нового мира». Зачитанные до дыр, эти журналы кочевали по рукам. Впервые вышли из печати трехтомник Сергея Есенина и однотомник Анны Ахматовой. Свежевзошедших поэтических «звезд», таких как Высоцкий, Акуджава, Вознесенский, Рождественский, Евтушенко, Казакова, Мориц и еще целую плеяду – боготворили. Песни под гитару у костра стали повальным увлечением. Не минула эта поэтическая лихорадка и меня. Правда, начал я с другого. Впервые прочитав «Горе от ума» я так был поражен силой грибоедовского стиха, что выучил ее наизусть. Понравилось удивлять чтением монологов своих друзей и коллег по работе. Взялся за «Евгения Онегина» и тоже выучил наизусть всю поэму, чем «убил» учительницу по литературе в вечерней школе, когда на одном из уроков читал ее весь урок без перерыва. Когда же «достал» трехтомник Есенина, набросился на него. Заразная это болезнь какая-то.
Но, удивительное дело, чем больше учишь стихов наизусть, тем легче они запоминаются. Часто бывало, что свежие стихи, опубликованные в газете, запоминались после трех – четырех прочтений. Дело дошло до того, что я однажды понял, что без списка стихов, которые я знаю наизусть, я иногда и вспомнить не мог, что же я еще знаю. Отношение к поэтам складывалось у меня по-разному. Как-то не помню, чтобы я кого-то признавал безоговорочно. Безумно любил и люблю Маяковского. Я мог часами бродить по берегу Финского залива от Репино до Комарово и читать «Облако в штанах». Но Маяковского «орлана-главаря» не терпел. Очень люблю Есенина. Но не всего. Халтуры у него тоже много. Хотя я это теперь понимаю. Нахлынет, напишешь, а потом самому стыдно. А выбрасывать жалко. К молодым современникам отношение тоже было двойственное. Очевидно, по той же причине.
Как-то, по пути в очередную командировку, мы с бригадой застряли на пересадке в Москве и я умудрился попасть на поэтический вечер в Политехнический. О выступавших не говорю. Меня поразила аудитория. Это не теперешняя полупьяная многотысячная «тусовка» на рокен-рольных стадионах. Это не одуревшая современная дискотека. Таких глаз, такого трепетного внимания, такого объединенного стука сердец я больше не встречал.
Спроворился я попасть и на знаменитый «тайный» и единственный концерт Высоцкого в Лосево. Ночевали там же. Не по пьяни. Разойтись не могли под впечатлением магии этих песен. (И как это я тогда все это успевал, ума не приложу).
Так вот, работаю я, это, по вечерам у молодой коллеги по аэропорту. Проводку и прочие дела по хозяйству ремонтирую.
А у нее публика в комнатушке собирается. Спектакли обсуждают, стихи читают, о культуре калякают. С театрами происходила почти та же история, что и с поэзией. Чтобы попасть в БДТ, надо было ночь простоять за билетами. Театры ломились от публики, публика балдела от театров. Я, правда в то время театралом еще не был.
А они о «Лисе и винограде» в БДТ, о других спектаклях и театрах толкуют.
Аж, еж твою, думаю. И помчался по театрам. В месяц основной репертуар всех театров пересмотрел.
А когда еще с мордой лица своего больной лежал, послал на конкурс на лучшее стихотворение о Ленинграде десяток своих «творений». Только в тетрадке на 98 листов сохранились они. Нигде, никогда больше я это не публиковал.
И вдруг, занял я последнее, десятое место в этом конкурсе.
И пригласили меня в секцию поэзии телевизионного клуба молодежи Ленинградского телевидения как постоянного члена.
Сначала я просто не понял, о чем это. Но поехал.
Чапыгина 6. Третья студия. Раз в неделю – секция под руководством Льва Гаврилова. Гости – Кушнир, Ахматдулина, Рождественский, Вознесенский, Евтушенко, Фоняков, Козакова и прочая, и прочая и прочая. Тогда они все уже наделали шума.
Раз в неделю – выход в эфир. Сидим перед камерой все. Читает кто-то один. Потом как-то, после очередного выпуска, в котором я первый и последний раз читал свои стихи, а читал я «Ты судьба меня не испытывай» Женя (тогда еще Женя) Евтушенко провожал меня от студии аж до Ильинской церкви на Пороховых. Пешком надо было домой. Транспорт уже не ходил. Два-то часа пешком в ночь. На такси обратно у него деньги были. На такси туда у меня – нет. Евгений все пытался понять, как такие стихи мог написать семнадцатилетний паренек. О чем-то еще говорили, что-то читали. Он тогда уже почти идол, а я никто. Гордыня обуяла меня на долгое время.
После прямого эфира мы часто засиживались в студии до глубокой ночи. Спорили до изнеможения и читали, читали, читали.
В этой поэтической «самураистости» наиболее активным был один рыженький. Особенно в гостях у Анны Андреевны.
Я наблюдал эти сцены лишь однажды, потому что лишь однажды был в гостях у Анны Андреевны в Комарово вместе со всей нашей секцией. Это потом уже он стал Иосифом Бродским. А тогда мы звали его «рыжим». И уж очень он суетлив был. Как мышка перед мышеловкой. Оказывается таким мышкам, как раз, нобелевские премии дают. И стихи его всегда требовали расшифровки армейским кодировщиком.
Впрочем, такое же ощущение всегда, и до и после, вызывали у меня тягучие стихи Беллы.
Мир праху ее. Без таких, вылетающих за границы нормального человеческого восприятия мира, этот мир погибнет.
Впрочем, он в любом случае погибнет.
Так, как он функционирует, жить нельзя.
Все это понимают. Оттого и мечутся. Поздно, господа, история этой неудачной планеты уже сделана.
К Анне Андреевне я тоже относился неоднозначно.
Перечитал все, что тогда можно было достать из ее произведений. Да классно и классически. Но учить наизусть не захотелось ничего.
Среди «серебряников» были и получше. Всеобщий пиетет за ее страдания тоже меня как-то не вдохновлял. Ну да, мужа злодеи большевики расстреляли. Так таких вдов по России были миллионы. Да, сын за решетку попал. Но, тогда (как и сейчас) миллионы за решеткой сидели. И очередь та перед «Крестами» и до сих пор стоит. Но ведь и чтили же. А миллионы других русских женщин??? Кто их почтит???
Да и с Бродским та же история. Кто мне прочтет, или хотя бы назовет, какое-нибудь произведение этого нобелевского лауреата, которое было бы известно не только агентам КГБ и ЦРУ, не только узкой кучке фанатов (а фанаты есть даже у Бори Моисеева), но более широкому русскому читателю.
Там же – только перебеги – обслюнявят как доберман.
А то, что нобелевские премии, особенно по литературе, всегда были идеологической дубинкой, теперь известно даже в первом классе средней школы. А в первом классе плохому не учат.
Я уж не говорю о «нобелях» для Горбачева и Обамы.
Но, я жил этим, я жил в этом. Жадно следил и сразу проглатывал все новинки литературы, носился по премьерам, прикасался к будующим классикам.
И впереди была жизнь без горизонта, жизнь, уходящая в бесконечность.
Первая женитьба
Так о чем это я.
Ах да, о «предохранителях».
К этому же времени увлекся я «культуризмом».
Сейчас это называется, кажется, «боди-бильдингом», что ли.
Короче, еще до армии нашел два чугунных колеса, приделал их к батькиному лому, и начал «качаться». Уже через полгода моя фигура приобрела очертание древних греческих героев.
Дак, о чем это я. Ах, да, о девушке и стихах.
Розетку пришел я чинить где-то в ноябре. К новому году я уже был в этом во всем. И когда настал мой час, я поразил их всех и неисчерпаемостью стихов, и знанием современного театра, и секцией, и своими «знакомствами» и тыр, пыр.
То есть интеллигенты рядом не стояли. Нет, не так. Из тех, кто присутствовал на этих вечерах – сразу очередь. Ведь не электромонтер здесь – почти звезда телевидения. Хоть я и появился на экране на 3 минуты и потом исчез лет на двадцать, но деревня и аэропорт были «на коленях». А я ходил только грудью вперед.
И фигура-то как потом у Шварцнегера. Шварцнегер, кстати, переводится как «черный негр».
А что, негры бывают не черными?...
Потом, позже. Гриша все у меня спрашивал, а что, они белье не пачкают?...
В комнатке девять метров много не поместиться. Начали собираться по очереди. И шли эти поэтические соревнования до полуночи. Но им всем по домам. А мне торопиться не надо, я ведь тут напротив живу.
Ну, и….
В общем, через три месяца, мне сказали, если не женишься, то ни-ни.
А если да – то иди сюда.
Как должен был повести себя настоящий мужчина.
Конечно, сказать да, и сдержать свое слово. Так я и сделал.
8 марта 1964 года я перешел Рубикон.
Да, знал я, что невеста была уже в гражданском браке и имеет ребенка. Да, знал я, что старше на 4 года (в таком возрасте – это разница!). Да, знал я, что скоро в армию. А вы знаете, что такое, когда крышу сносит? Не знаете? Мне Вас жаль.
К этому времени я опять пошел в вечернюю школу. Опять на Ржевке, только теперь на улице Челюскинцев.
Замызганный донельзя работой, учебой, секцией поэзии и прочей белибердой, я успевал следить и за политической ситуацией и в стране и в мире. В стране становилось все понятнее, что горячо любимый пятижды (а как сказать иначе?) герой Никита Сергеевич доживает на престоле последние дни. Настороженно следили, высчитывали, кто следующий.
А до этого был Карибский кризис, разгром художественной выставки в Манеже, речь Ильичева на пленуме ЦК КПСС.
Кто знает тот период, тот знает, о чем это. А самым острым вопросом в международных делах тогда был вопрос о судьбе конголезского лидера Патриса Лумумбы. Я взял обет, не стричься, пока Лумумбу не освободят. (ладно хоть на старости лет не взял обет не есть, пока Усламу не достанут). История длилась года полтора. Волосы мои немного курчавились. Скоро я стал похож на Анжелу Дэвис. Лумумбу американцы расстреляли. А что делать мне с прической не сказали.
Вечером 23 мая 1964 года я предстал перед моей будущей женой с прической новобранца. Шок от моей причуды продолжался до следующего утра. 24 мая 1964 года мы были первой брачной парой, которая торжественно регистрировалась в новом Доме Культуры города Всеволожска. Администрация постаралась. Для первой брачной пары было то да се.
Правда, были два НО.
Сначала потерялся жених.
Нет, я не потерялся, просто мне показалось, что цветов маловато, и я побежал прикупить.
Потом свидетель потерялся.
Нет, он не потерялся, просто, пока буфет работал, решил пару бутылок пива прикупить. Да свадьба у него была тоже. Следом за нами. То есть он был свидетелем у меня, а я у него. Женя Давыдов. В детский сад вместе ходили. Жил напротив.
А невесту схватил – дочь директора завода «Русские самоцветы» с квартирой в Апраксином двору метров на 200. Но, не выдержал Женька богатства. Сначала из Красной Армии «свалил» пососав полгода сахара с лимонной кислотой, а потом погиб в пьяной драке.
Но, тогда-то две свадьбы в одной деревне.
Мама сказала – я на это все не пойду. И не пришла.
Папа сказал – нальют выпить – зайду. Зашел – выпил – ушел.
Деревня и аэропорт захлебнулись в пересудах, сплетнях, домыслах. Самые любопытные пытались навестить нас.
Но с 25 мая мы оба взяли отпуск. И, не выходя, практически, из дома, из нашей комнатухи размером в девять квадратных метров, круглыми сутками не вылезали из …. постели. Мы не существовали в этом мире. Мы утонули в своем, лишь нам двоим принадлежащем.
Чуть больше чем через месяц, 4 июля 1964 года рядовой Ясинский начал отдавать своей Родине долг.
Когда задолжал – не понял.
Но раз требуют – надо отдать.
Родина ведь же.
Правда, 10 класс, то есть среднюю школу закончить не дали, хотя был закон – дать закончить. Ну, взяли бы в осенний призыв, и нет вопросов.
Гораздо позже, когда я был уже членом Всеволожского горкома партии, другой член горкома, бывший военный комиссар района полковник Малиновский (опять игра имен), потому что служил я во времена министра обороны маршала Малиновского, рассказал мне, что «забрил» он меня тогда по просьбе моей мамы. Мама пыталась таким образом предотвратить мою свадьбу. Не успела.
Думал ли я тогда, что, уходя из семьи, я забираю с собой мою зарплату, которая лишь одна могла тогда обеспечить благосостояние семьи. Нет, не думал. В голову не пришло. Тут как-то теперешний младший внук по Томушкиной линии, встав утром, попросил сока. Достал последний стакан с полки для посуды. Остальные были в моечной машине. Парню 21 год. Он взял этот стакан, посмотрел на просвет. Не очень чистым он ему показался. Вопрос его поверг меня в шок. «А из чего мне соку попить?», спросил он, стоя со стаканом в руке возле посудомоечной раковины. Мне бы тогда их теперешние заботы.
В промежутках
Забыл рассказать. Кроме всех прочих животин в нашем доме всегда были собаки. Ну, как в деревне без собаки. Рассказ о них может оказаться самым занимательным из всего, что я тут понапишу. Первую собаку, которую я помню, звали Чича. Чича, потому, что тогда шел на экранах какой-то итальянский фильм про Чичино. Нет, не мультик, а какой-то мелодраматический фильм. И вот и у нас появилась (ага, женского рода) собака по имени Чича. Это была помесь чего угодно. Черная, как смоль, от носа до кончика хвоста, среднего (а можно так?) роста. Ее никогда не держали на цепи. Самыми уморительными были ее три привязанности. Первое – вечерами она «беседовала» с папой. Он садился на крыльце, она – напротив. Он ей что-то рассказывал, а она моргала глазами, кивала головой, склоняла голову то направо, то налево. Беседа явно доставляла ей удовольствие.
Второе – она никогда не пропускала ни одной лужи. Если на прогулке ей попадалась вода, даже если это была маленькая лужа – она с разбегу, растопырив лапы, животом вниз, кидалась в эту лужу. Ну, уж, а если, попадется «коровья лепешка», уж тут она вываляется до усладу.
В шестнадцать лет, как счас помню, получил я в подарок щенка. Чистопородная восточно-немецкая овчарка. Назвал я этого члена семьи Дозор. К году Дозор спокойно ставил мне передние лапы на плечи и лизал все, что попадалось – нос, щеки, глаза.
Зная, когда я должен вернуться домой, он рвался с цепи и встречал меня у платформы электрички. Папа был от него без ума.
Но, сводили папу с ума и соседские куры, которые проникали в огород и перепахивали наши грядки. Папа спускал Дозора. Пара таких кур имели неосторожность попасть Дозору в пасть. Сосед застрелил Дозора. Похороны были почти человеческие.
Ну, уж коли зашло о собаках, то после Дозора, уже после моего возвращения из армии, у нас появился Малыш. Во взрослом возрасте этот Малыш походил на медведя. Около метра в холке, с могучей шерстью, добряк к своим и гроза чужим, он был общим любимцем. Тогда мы часто, зимой, ходили на лыжах.
Было уморительно, когда этот щенок, устав, забегал вперед и ложился нам поперек лыж. Мол, не могу больше по снегу, везите дальше. После Малыша мама забрала у Людмилы Рекса. Людмила жила на Пороховых. Там начали строить новый район Ржевка-Пороховые. Людин дом попал под снос. Люда получила взамен трехкомнатную квартиру. А пса отдали маме. Ничем не примечательный пес. Злой, цепной, нелюдимый. Прошло время. Рекс отжил свое. И мы с Гришей (помнишь) привезли маме щенка из Авиагородка, где мы тогда жили. (до этого мы еще добредем). Там была у нас дворовая собака Альма. Жила себе среди нас.
Но регулярно щенилась. Вот щенка от Альмы в корзинке мы и привезли маме. Долго прожила у нее эта собака. Года за два до маминой смерти умерла. Но таких «чудных» собак даже я не встречал. Всех, Всех, ВСЕХ она встречала как единственного гостя. Радовалась каждому новому человеку. Лаять не умела. Только попискивала и визжала. Зато только она могла без разгону, с места, подпрыгивать на метр – полтора. До десяти лет не гуляла. Потом ощенилась тремя щенками, которых тут же цепью, на которой была привязана, и «укатала». Муза Григорьевна была без ума от Альмы (эта ненавистница собак!). подкармливала ее как могла и часто приглашала в дом. Однажды ночью мы услышали выстрелы во дворе. Напротив окна, под деревом, спала Альма. Мы бросились во двор. Со лба Альмы текла кровь. А вдали, с ружьем на перевес, удалялся человек. Мы с Музой гнались за ним до самого метро Дачное. Но не догнали. Альма долго болела, а потом и отошла. Трагедия была семейная.
Не бойтесь собак, бойтесь человека с ружьем.
(как бы это американцам и нашим добродеятелям от оружия поделикатнее объяснить).
Красная армия
Ну, так я же уже ушел долг отдавать. Родине.
Собрали толпу новобранцев на сборном пункте в Лисьем Носу.
Провожать меня никто не пришел.
Трое суток паровоз вез нас до станции Ловозеро на Кольском полуострове. При высадке в первую очередь поразило обилие комаров. Они оказались страшнее офицеров, которые нами пытались командовать. Потом помывка. То есть, все сняли, все отобрали, сказали, что отошлют на Родину.
Хи, хи.
Кому на «родине» нужны мои дырявые штаны.
Потом были казармы. Казармы располагались прямо на берегу реки Кола, в месте ее впадения в Пулозеро. Удобное место для рыбалки. Ловили мы там форель нательными рубашками. Завязывали рукава и вставали цепочкой поперек реки. Воды по колено. Дно все в каменьях. Течение мощное. Форель из озера в верховья реки стремиться. Перебирается, иногда подпрыгивая даже над камнями. А тут наши рубашечки ее ждут.
И белые ночи здесь уже не питерские, а полярные.
Три часа ночи, а солнце светит и в казарме можно книжку читать. Не спал.
А утром опять подъем, и военная наука. Носок тяни, подбородок выше, шире шаг и т.д.
А потом…
Потом ракетные позиции.
Страшно сказать, старший сержант со значком специалиста 1 класса на груди. Ну, бог, Аполлон, по меньшей мере.
Месяц стандартной муштры, когда раздеться и лечь, уложив пожитки в строгий порядок – пока спичка горит.
А горит она, как оказалось, 35-40 секунд.
Игра такая. Подъем… Отбой… Подъем… Отбой.
Это у сержантов игра такая. А нам не до игры. Уже где нога, где рука не понять. Как в той шутке «кто в армии служил, тот в цирке не смеётся».
Через месяц – в часть.
Часть расположена вдоль шоссе. В России все вдоль дорог. Это в Европе дороги к дому. А у нас дом к дороге. Но дорога одним концом, что на запад, упиралась в некий поселок «Золотой». Проникнуть туда никто не мог. База стратегический ракет. На восток сорок верст до Оленегорска. А верстах в 15 аэродром «Высокий». Это там, где был наш совместный командный пункт. Это там, где принимали в 1963 самолет с первым визитом Фиделя Кастро, это там, откуда в 1956 взлетел Ту-96 с первой водородной бомбой. Вправо и влево от дороги – тундра на десятки километров.
В части сразу к делу, караул, дневальство, работы на позиции, политические и технические занятия. Без перекура.
Каждый день писал я длинные письма - теперь уже жене.
Правда, понять, что это такое как-то не успел. Ни ума, ни времени не хватило.
Поразительной поэзией были наполненыи эти письма. Это были такие маленькие, на несколько страниц, эссе.
О местной природе, о впечатлениях и внутренних переживаниях.
О службе солдатской. Каждый день. Сейчас думаю, какая интересная могла бы книга получится из этих почти 500 писем. Одни описания северных, заполярных красот чего стоили. О судьбе этих писем потом, позже.
А красоты эти много стоили. Кто хоть раз видел северное сияние в натуре, или, кто ходил от дома к дому по натянутым веревкам, а иначе с пути собъешся, то поймет о чем это. Но об этом позже.
Наш ракетный дивизион как раз переходил с 75-го на 125-й комплексы ЗРВ. (а сейчас уже комплекс 400 на службе и комплекс 500 на подходе). Время. Кому сейчас приходится комплекс 500 осваивать – чем он от нас, тогдашних, отличается?
Не комплекс – солдатик.
И начальству было до лампочки, переучивать ли солдат, которые через год-полтора уволятся, или учить новобранцев, которые послужат еще 3 года.
Мне понравилось это оружие. Особенно ракеты 125 комплекса. Небольшие, элегантные, грозные. Я в них влюбился. И уже через полгода получил второй класс. Третий давали, когда ты первый раз через КПП на позицию проходил.
Да и служба была настоящей, боевой. Дивизион охранял реальную воздушную границу, вдоль которой над Баренцевым морем летали реальные американские бомбардировщики. Их тактико-технические данные, особенности полета и маскировки мы зубрили ежедневно, чтобы знать противника в лицо.
И боевой курс, который брали они иногда в сторону нашей границы, был реальным, и боевая тревога реальная, и готовность к пуску ракеты – тоже. Во время боевого дежурства, а дежурили дивизионы по очереди в течение месяца, было до 12 боевых тревог в сутки. Тут уж не расслабишься. Особенно строго стало в дивизионах после знаменитой истории с полетом Пауэрса. Детали этого инцидента мы изучали самым тщательным образом.
Но, об ошибках командования, об обстреле собственного истребителя, нам, понятно, не докладывали.
А уже через год, в лето 1965, я уехал с дивизионом на стрельбы в Капустин Яр. Первое пребывание в пустыне ошарашило.
Во-первых, на ночь, надо было окопать палатку небольшим рвом, на дно которого уложить шерстяной канат. Это от скорпионов. Воды на день – одна фляжка. Пить нельзя – только полоскать рот. Отстрелялись мы на отлично.
В дивизион я вернулся в чине полного сержанта.
Как-то по бригаде пошли разговорчики – сгорел инструктор по комсомолу политотдела бригады на жене одного майора. И это на четвертом году в чине старшины-срочника, которому все завидовали (подробности чуть позже).
И сразу меня назначили инструктором политотдела бригады по комсомолу. Как это получилось, чуть позже. Комсомолом в нашей бригаде управляли два человека. Офицер на майорской должности и срочник на старшинской. Моему шефу, старшему лейтенанту на майорской должности приспичило поступать в военно-политическую академию имени Ленина.
А тут обмен комсомольских билетов, ХV съезд ВЛКСМ.
А его нет. Старшого-то. Он экзамены сдает. А я один.
Весь политотдел бригады (6 человек) включился в ситуацию.
А я на взлете. Лекции про китайскую культурную революцию по дивизионам читаю, делегатом на 15 съезд ВЛКСМ избран.
Наверное, тогда во мне проснулось влечение к аудитории.
Это потом, позже, я буду осваивать ораторское мастерство, корпеть над лекциями и балдеть от владения аудиторией.
А пока я билеты новые с утра до вечера комсомольцам вручаю, аж рука болит. И опять командировки. Дивизионы разбросаны по всему Кольскому полуострову, а штаб армии в Архангельске. Мотаюсь туда-сюда.
Но вот поехали в Архангельск на сборы делегатов комсомольского съезда. А майор, старший инструктор политуправления армии говорит. Ну, что это за делегация, ни одного музыканта. Нашли музыканта. Из моих же. Потом говорит, музыкант есть, мандата нет. А из всех делегатов от армии я один – функционер. То есть штатный комсомольский работник. Вывод был понятен. А я и не сопротивлялся. А как сопротивляться-то?
Ну, а чтобы кто-то там не так думал чего, на меня посыпались звания.
Все годы службы ежедневно занимался спортом. Особенно любил штангу. На перекладине «солнце» три раза выдерживал.
На кольцах «крест» секунды три держал.
К концу второго года я был уже «старшой» сержант. А к началу третьего – уже старшиной. Это на срочной-то службе.
Когда я приходил в казарму, а ночевать то я должен был там, у старшины дивизиона, прослужившего пару десятков лет, рожа лица уже не поддавалась описанию.
Правда, в промежутках, я успел еще два раза съездить на стрельбы в Капустин Яр, о котором старшина Мясоедов только ненароком слышал от старших офицеров.
Эти поездки были цепью приключений. На стрельбы бригада ехала со всем своим. Свои пусковые установки, свои кабины управления, свои радары, свои тягачи, свои дизельные, и т.д. и т.п.
Все свое вплоть до полевых кухонь. А там – пустыня.
И генерал тянется в струнку перед ефрейтором. Генерал приехал с бригадой экзамены сдавать, а ефрейтор – инструктор полигона!!!
Сначала шли устные зачеты. Потом четыре стрельбы. По конусу (алюминиевый такой конус), потом по движущейся мишени. Это когда макет или списанный самолет или планер на тросе в воздух поднимали. Потом ракетой по ракете. Потом по радио-импульсу.
И после каждой стрельбы раком по пустыне, чтобы ни крошки от ракеты не убранной не осталось. Это чтобы враги не рассекретили.
Так я, между делом, успел освоить 125 комплекс на 1 класс,
о чем старшина Мясоедов даже не мечтал.
Тем лютее была его ненависть ко мне.
А за что.
Дорогу я ему не переходил, жену не портил, в долг не брал.
Зависть ограниченного человека может быть страшней любого другого биологического оружия. Особенно, если она применяется без понятия, почему и зачем.
Итак, я получал уже свои сержантские, а потом старшинские 25 рублей, плюс курительные 3,60. Да на заметках и статьях в местной и областной печати от 25 до 50 рублей.
И я, солдат срочной службы, виданное ли дело, стал посылать жене деньги (немного), посылки с северной рыбой (палтус, треска), и даже пимы. Это обувь такая из оленьей кожи, очень тогда модная.
В промежутках были два коротких отпуска.
В первый, законный десятидневный отпуск, я приехал под новый 1965 год. До этого, по переписке, я усыновил Димочку, сына жены, которого в глаза ни разу не видел. Просто по списку собрал и заверил где нужно нужные документы.
И вот, впервые, я обнимал трехлетнего сына, которого до этого в глаза не видел. В первую очередь Дима снял с меня медаль и потом ходил с ней даже в детский сад.
А потом была длинная ночь объяснений. Как я на это поддался, я не знаю, но мы сидели у печки, пили рябину на коньяке и бросали в огонь мои письма. Не пачкой, не все сразу. А по одному. Мучительно и долго. И мне мучительно и долго объясняли, почему меня не дождались. Рана эта болит и по сей день. Хотя уже тогда понимал, одно дело «ждать» в тундре, среди оленей и солдат, где изменить можно только что разве с оленихой. И другое – ждать в Питере.
Утром я вышел на двенадцатиградусный мороз до пояса раздетый и долго растирался снегом. Это привычка такая на севере выработалась. А соседи подумали, что это я с перепою. Но, через несколько дней, соседи привыкли и только головами мотали.
Семья встретила настороженно. Что-то будет. Знали ведь.
В деревне ничего не скроешь. А ничего не будет. Из тундры я приехал. Полтора года людей живых не видел. Только солдатню и офицерье. Не до семейных разборок было.
Но, уехал подавленный. После этого стал писать реже и только по существу. Но для себя решил – разводиться не буду. После, после службы все решим.
Второй раз приехал через год, тоже под новый 1966 год. Надо было забрать в часть новобранцев. Вот, пользуясь служебным положением, я и упросил командира бригады послать меня. Результаты командировки в семейном плане были те же. Опять измена, опять объяснения, опять оправдания. Странно, но меня это уже не задевало. Ну, жила Муза эти годы в этой же комнате со своим первым, гражданским мужем Николаем Злобиным (игра имен?). Ну, жила… ну, жила с каким-то экскуссоводом. Ну, жила…
ну жила с каким-то электриком из «парижа» нашего, ну жила…
Ни ревности, ни обиды, ни жажды отомстить не было. Пришло понимание собственной глупости и того, что иначе и быть не могло.
Сам виноват.
Так вот, как-то, вызывают меня в политотдел и после долгой улыбчивой беседы предлагают должность. Прикидываю себе. Мои плюсы – такой как все – раз, пара заметок в армейской газете – два, пара красивых выступлений на комсомольских собраниях. Все. Мои минусы. Такой же как все, строгий выговор по комсомольской линии за сон на посту (было), ненависть Мясоедова. Ну, думаю, держись Мясоедов.
А строгий выговор без занесения в учетную карточку заработал я черз пол года службы за сон на посту. Чуть позже расскажу.
И с должностью согласился. Москва – Венера – далее везде…
Как старший инструктор политотдела бригады я был введен в состав Мончегорского горкома комсомола. По той же причине, но в шефском плане, я был назначен заместителем директора Оленегорской школы-интернат по военно-патриотической работе.
Побывал я уже на общесоюзных комсомольских грандиозных стройках электростанций, поработал на Питерских заводах-гигантах. Но зрелище Мончегорского металлургического комбината с его домнами, мартенами, прокатными станами до сих пор приводит в возбуждение. Такое же впечатление оставил и Оленегорский горно-обогатительный комбинат с его карьерами и обрабатывающими цехами. Только когда знаешь, что это такое, можно понять иудейство перестройки с гайдаровской приватизацией. Поиметь ТАКОЕ на чубайсовские ваучеры – Остап Бендер рановато ушел на другой континент. Только в связи это можно понять. Можно очаровываться гениальностью этих ребят, которые с такой ответственностью отработали программу ЦРУ (да нет, там покруче были) по развалу такой страны. Мы еще поговорим об этом, но восхищение этими гениальными предателями (нет, не СССР, они тогда ЧЕЛОВЕЧЕСТВО предали) не покидает меня до сих пор. Если бы они знали и понимали – что они натворили. До сих пор осознание этого не пришло и чубайсы теперь взялись за модернизацию и нано… Страшно представить, что они наномондезируют. Нет, я не о сотнях тысяч погибших в этой «перестройке». Хотя и о них тоже… Я о последствиях этого иудства для всего человечества. Вот боюсь только, что осудить их скоро будет уже некому. Планетка обречена. И в немалой степени благодаря их «старанию».
Но, до сих пор, где-то внутри сидит огромное преклонение перед теми, кто это, то что чубайсы приватизировали, мог задумать и создать. Недаром в самых отдаленных стоянках самоедов на Кольском полуострове даже тогда свято чтили имя академика Ферсмана.
Я стал часто выезжать в эти два города, Мончегорск и Оленегорск. Все чаще приходилось ездить в штаб армии в Архангельск и посещать Североморск, согласовывая свои комсомольские дела с Северным флотом. Кроме того, мне надо было более-менее регулярно посещать 16 дивизионов бригады, раскиданных по всему Кольскому полуострову. Благо в моем распоряжении появился Уазик – моя первая персональная служебная машина. Соблазнов было море. Но, я был, все-таки, диковат. То есть неплохо воспитан папой и мамой. Опять же - женат. А, кроме того, передо мной был пример моего предшественника, который так же «круто» поднялся, и так же круто сгорел на вольных возможностях.
Я был сдержан, строг и дружелюбен.
В Мончегорск я ездил только на пленумы горкома комсомола,
и всегда брал с собой либо бригадный духовой оркестр, либо наш ВИА – «вокально-инструментальный ансамбль». Надо сказать, что оба коллектива подчинялись, естественно, политотделу.
С их непосредственным начальником, начальником клуба, старшим лейтенантом Владимиром Скрипка (опять игра имен) мы были в лучших отношениях. А куда ему, старлею, деться. Только со мной мог он выбраться в город и себя, и своих ребят показать. А ребята того стоили. Недаром армейские ансамбли всегда и везде ценились высоко.
В Оленегорск же я вывозил уже целые подразделения.
«Бздик» тогда был на пионерские военизированные игры типа
«Орленок» и «Зарница». Ну, я на эту школьную «Зарницу», в Оленегорск, и реальные пулеметы, пушки, холостые патроны и снаряды, пару взводов солдат на армейских БТР, и пр. и пр.
Расплатой были Почетная Грамота и Почетный Диплом ЦК ВЛКСМ за успехи в военно-патриотическом воспитании. Мало кто тогда имел все это разом. По крайней мере, потом, после увольнения из армии, мой комсомольский значок на лавровой ветке производил впечатление даже на комсомольских боссов в Смольном. У Вали Матвиенко такого значка нет и уже не будет.
Летом 1967 года бригада снова выезжала в Капустин Яр на стрельбы. А мне в июне увольняться.
Как-то поздно вечером я сидел в политотделе и писал очередную корреспонденцию в какую-то газету. Писал и печатался я тогда много. В «Часовом севера», в «Мурманской правде», пару раз в «Красной звезде», пару раз в «Комсомольской правде». Все это были небольшие зарисовки из армейской жизни. И это были деньги. Ну, кто из срочников тогда мог «зарабатывать» до 75 рублей в месяц и отсылать деньги семье. Сказка какая-то.
И тут входят два полковника. Комбриг полковник Белов (любил я этого комбрига за его человечность) и начальник политотдела полковник Морозов (любил я этого начпо за его энциклопедичность). И говорят, мол, так и так, надо ехать. Ты был два раза, стрелял два раза. Опыт. Первый класс. Комсомольцы твои едут. Ну, поедешь домой чуть позже. А мы тебе – проводы, рекомендации, подарки.
Ага, конечно, встал тут старшина и послал полковников…
Поехал. Отстрелялись на отлично. Вернулись в августе.
А служба идет.
В конце сентября, нагулявшись в отпусках, заходит как-то начпо в политотдел, опять поздно вечером (а что мне в казарме-то делать) и с деланным удивлением спрашивает: а что это вы, старшина Ясинский, тут делаете. Служу, товарищ полковник – отвечаю. Речёт тут полковник – чтобы завтра же твоего духу тут не было. Есть – говорю.
Утром, на утреннем разводе, перед всем управлением бригады (два технических дивизиона, инженерный батальон, рота управления, штаб, всего примерно 400 человек) мне вручили отпускные документы, погоны младшего лейтенанта, наручные часы и транзисторный приемник. Это в 1967-то году. Я уж не говорю об офицерских погонах срочнику.
Под оркестровый марш подошел Уазик комбрига и увез меня на железнодорожную станцию Оленегорск. Ну, прям, как в кино про Чапаева.
А там я должен был распрощаться с педагогическим коллективом школы-интерната. Сюда же подтянулся мончегорский и оленегорский комсомольский актив.
В общем, на поезд в Питер в это день я не попал. Моя абсолютная трезвость на протяжении многих лет была подорвана незатейливой, но очень коварной, болгарской «Тракия». Другого спиртного в Оленегорске тогда не было.
Утром проснулся я в общежитии Оленегорского горно-обогатительного комбината, в комнате завуча школы. Как звали завуча – не помню. Но то, что это была очень красивая женщина лет тридцати – это точно. Что было ночью, вспоминаю с трудом.
Вечерним поездом я выехал-таки в Питер. Ни угрызений совести, ни головокружения от успехов не было. Было ясное представление о том, что впереди другая, совсем незнакомая жизнь.
Ну, это так, почти четыре года жизни в одной строке.
В промежутках
Были и особенности всей этой истории с армией. Наши тогдашние доктора считали, что чтобы снизить потенцию молодых новобранцев, их надо кормить рыбой. На каждый ужин получали мы РЫБУ. Сначала экзотический для нас палтус. Белый, жирный. Сначала ели – за ушами трещало. Потом – кожу отдельно, плавники отдельно, потом тошнота уже при построении на ужин. Ели только гарнир. А ведь голодно. Воровали хлеб в столовой. Но – вечером досмотр. В карманах, под подушкой, в тумбочке, в голенищах сапог. Нигде не спрятать.
А в Питере – палтус – царская рыба. На «заработанные» покупал копченого палтуса, отборного, по 3-4 кило штука, и отсылал посылками. Возьмешь такого за голову, а с хвоста жир течет.
Скоро и в Питере «наелись». Просили больше не присылать.
Потом в Питере мода пошла на пимы. Это обувь такая из оленьей шкуры. В Ловозере выбрал самые разукрашенные.
70 рублей (пол зарплаты главного инженера) заплатил. Отослал.
Потом узнал. Не носили. Потому, что жили в это время со своим первым мужем. Как же тут подарок от «действующего» надеть.
Но это другая тема.
Все эти почти четыре года (три весны) принимали мы участие в празднике встречи Солнца. Есть такой праздник у самоедов, суоми, и прочих тамошних народностей. Гонки на оленях, костры, экзотические танцы, поимка оленей при помощи лассо.
И, главное угощение, строганина из трески. Это надо попробовать из первых рук. Даже нам, «отравленным» рыбой, это казалось ленинградским эскимо.
Кто не знает, чтобы знали, скажу, лучше ленинградского мороженного тогда в мире ничего не было. Позже, после армии, к чему еще вернусь, работая на заводе «Арсенал» я получал от жены рубль в день. Расклад простой. На электричку – проездной. До завода трамвай туда, трамвай сюда – 10 копеек, (две остановки могу и пешком), «Беломор» - 22 копейки, обед от 50 до 60 копеек. Но так, чтобы на обратном пути 15 копеек на сахарную трубочку всегда оставалось. Сядешь зимней ночью в теплый вагон электрички, развернешь обертку сахарной трубочки и, вот они, твои 25 минут отдохновения до станции Пост Ковалево.
Красная Армия 2
Экзотика службы заканчивалась, когда надо было заступать в караул.
Не было НИ ОДНОЙ НОЧИ чтобы на постах не стреляли часовые. На шестом посту, на окраине ракетных бункеров, стреляли каждую ночь. И я стрелял. Ну, стоишь ты это на посту среди тундры в четырех верстах от базы. Ночь, мороз под 30°, а вокруг стрель, да бах, да хрусть, да уууугггуууу.
Если бы нашу радиотехническую батарею на Западном Кильдине за немного до этого не вырезали, оно бы и ничего.
А так, в воздухе враги, на Кильдине враги. И тут все шербуршит. Ну и крикнешь, «стой, кто идет», да и пальнешь в воздух. Тут и свои минут через 15 подъедут. Никогда, никому никаких замечаний за эту стрельбу не было. Или летом, стоишь в маске, иначе гнус сожрет, а он, это гнус, на маску слоем налипает. Ничего не видишь. А тут опять стрель, да бах, да хрусть, да уууугггуууу. Попробуйте представить себе как по тундре непроглядной ночью бредет стадо диких оленей. Мечта звукооператора. Вот, и строгий выговор с занесением в учетную карточку за сон на посту я в карауле заработал. Стоял тогда во вторую смену, то есть с 23 часов. Мороз был под 40 градусов. Но с постом повезло. У нефтехранилища на вышке. А это в центре военного городка. Караульное помещение метрах в 300-х видно. Упакован как положено. Ватная куртка, ватные штаны, валенки. Шапка с намордником. Это на лицо прикрышка такая, чтобы нос и щеки не отморозить. А на вышке уже передает тебе сменщик тулуп с воротником до неба и полами до земли и валенки, которые ты обуваешь поверх своих валенок. Но, после 35 мороза – смена через один час, а не через два. Заступил. Облокотился на ограждение вышки. Обозреваю окрестности.
А на ресницах иней нарастает. Живой ведь, дышишь под маской. А дыхание-то вверх идет, на ресницы. Ресницами хлоп. А разжать никак – прихватило верхние к нижним. Ну, сколько так бороться можно в полночь. Хлопнул, закрыл. Открыть поленился. А тут пол под ногами задергался. Это смена пришла. А я и не заметил. Комсомольское собрание. Строгий. Арест на гауптвахте. (не сидел, заменили тремя нарядами вне очереди в туалете). Туалет – это сарай такой на 20 очков с выгребной ямой. И, после того как в нем побывает примерно 300 солдат, после завтрака, обеда и ужина его надо помыть. Неделю потом всем этим пахнешь.
И стреляли ребята, и стрелялись. Кто по неосторожности при перезарядке оружия, кто, когда крыша съехала, по своим же.
Было, лежал под пулями. Два раза.
Сначала земляк, (фамилию знаю, но не назову) съехал. Вроде и дедовщины у нас не было. И земляков более сорока в одном дивизионе. А он возьми ночью, на посту дневального, да
и выкради у дежурного, которому с 12-00 до 3-00 спать было можно, ключи от «пирамиды». Взял автомат, 32 рожка, вышел в спальное помещение и выпустил по нам, землякам, друзьям, однополчанам, по спящим, полный рожек. И сбег, пока неразбериха. Кого-то ранило. К счастью никого не убил.
А бежать-то куда. На минимум 50 верст вокруг зимняя тундра.
В одну сторону, до «поселка «Высокий», то есть до стратегического аэродрома «Высокий», с которого и первую в мире водородную бомбу в дальний бомбардировщик погрузили, и на котором впервые в Союз тайно Фиделя Кастро принимали, верст двадцать. До «поселка» «Царь Городок», где стратегический дивизион межконтинентальных ракет базировался всего 3 километра, но туда не проникнуть.
А дальше, на пятьдесят верст – тундра. Но, очухались, бросились в погоню. Верстах в трех от базы парень окопался на сопке. Окружили. Выдали нам боевые патроны. А в кого стрелять???
В Толю? А Толя постреливает, чуть высунешься. Так вот и «постреливались» суток двое, пока Толя последний рожок в себя не пустил.
Второй случай был копией первого, разве что убежать успел аж до Кеми в товарном вагоне.
А я, меж тем, продолжал «качаться». Восьмое место в первенстве шестой воздушной армии – мое высшее достижение в тяжелой атлетике. Горжусь, но спина и суставы болят до сих пор. Каждый вечер – 20 тонн железа в спортзале – закон. Десяток подемов переворотом и три вращения «солнцем» на перекладине – закон.
В целом же день предыдущий был похож на день грядущий. В 7-00 подъем 45 секунд. Ниже 0 градусов по Цельсию – на зарядку в гимнастерке, ниже 15 градусов, в полной амуниции без зарядки 30 минут строем с песней. Выше нуля, без гимнастерок, выше плюс десяти – до пояса голый. 15 минут зарядка, 15 минут бег по кругу вокруг плаца. Потом личная гигиена и строем на завтрак. После завтрака 2 часа теоретических занятий и на позицию. До обеда облизываем наши ракеты. На обед с песней. После обеда опять теория и политзанятия. Потом два часа свободного времени. Постираться, письмо написать, воротнички перешить. С песней на ужин. После ужина опять часок теории. Потом прогулка строем с песней. Подготовка ко сну. К 22-00 падаем с ног. А через каждые двое суток в караул. Тогда дневной график ломается и до того и после. О забавных историях в армейском карауле не писал или не снимал кино только ленивый. Но у нас были и свои «забавные» истории. Наша бригада имела единый командный пункт управления с Сафоновским истребительным полком. Полком имени Бориса Сафонова. Ну, вот как-то поспорили наш комбриг и командир «сафоновцев» усечем ли мы пролет ихнего Су-11. Во время очередных общих учений решили попробовать. А 125 комплекс цели ниже 50 метров засекал, но уничтожить не мог, так, как радиовзрыватель (моя епархия), срабатывал автоматом ниже высоты в 50 метров.
И полетел их асс между сопками. Наши засекли. Так, что эта история про посадку на Красной площади «незамеченного» Руста – история нашей «перестройки». И не больше. Если бы не бардак – сбили бы.
Ну, вернемся к нашим баранам.
Еще в Питере мы с Музой договорились, что вступим в партию к 50-летию Октября. Ну что это за начальник отдела на серьезном заводе и не член партии. А Муза Григорьевна уже работала начальником планово-производственного отдела на заводе «Электромаш», что на Охте.
Я вступил. Муза – кинула. И меня и партию.
Многотемье какое то – но и жизнь не однообразна. Одно дело в тундре и в армии, а другое в Питере и в начальстве.
Однако, полковники не подвели. Я ехал в Питер с направлением политуправления шестой воздушной армии в Ленинградский обком комсомола, с рекомендациями редакций газет «Часовой Севера», «Мурманская Правда», и, главное, « Комсомольская Правда».
С удостоверением военного корреспондента в кармане.
Ну, думал, держись Питер, держись журфак университета.
Я иду.
Послеармейский Питер
Приехал парень в родную деревню. Семья при нем. Жена, сын.
А у него только парадная армейская форма. Купила Муза мне кое-что из одежонки. Поехал в обком комсомола. Первый секретарь Николаев прогибался как мог и послал инструктором в Выборгский райком комсомола. Эх, стартовать бы оттуда, из колыбели Октября. Но там ставка ЦК – 92 рубля. Муза в шоке. Иду опять. Посылают секретарем комитета комсомола в первое, экспериментальное ПТУ № 25, что на площади Мужества
А там, та же ставка ЦК плюс 20% от директора. А на Питерских заводах электромонтеры 2 разряда получают 160-180 рублей.
С подачи Музиной подруги устроился на завод «Арсенал» в цех
№ 1, где изготовляли стволы корабельных орудий. Зарплату положили аж 180 рублей. Все довольны. Забрали Диму из дома ребенка. Мебелишку кое-какую купили. Пианино Диме. Диму на музыку отдали, на фигурное катание. Зажили… И Муза вроде довольна. На лето уволился с завода и поехал пионервожатым в пионерский лагерь Сталепрокатного завода «Спутник» в поселок Молодежный под Питером. Дима, естественно со мной.
А у Музы в институте два месяца каникулы. Ну, и она с нами. До сих про вспоминаю это лето как сказку. Лагерь не большой. Всего
9 отрядов. Вожатые, многие, прошли школу Артека и Орленка. Инициатива не ограничена. Об этом лете можно отдельную повесть в стиле Аркадия Гайдара написать.
Осенью опять в школу вечернюю пошел. Но уже в шестую по счету. Десятый-то класс ведь не закончил. Но в этой школе уже были некоторые учителя, которые меня знали. Их перевели сюда из той школы, которую закрыли. Но, в школе на меня документов никаких, и у меня никаких. Притворились все «умными» и пошел я в 11 класс.
Поскольку среднюю школу за эти годы перевели на 11 лет.
Как сдавал, как окончил – не понимаю. Ведь четыре года ничего не учил. Но – аттестат получил. Муза уже опять перебралась. На этот раз на в промышленно-экономический техникум, что на улице Герцена. То есть с зарплаты в 180-200 рублей на преподавательские ассистентские 125. То есть наоборот можно было, оказывается.
В аспирантуру поступила. А я, что хуже. Бегу на журфак ЛГУ.
С моими-то рекомендациями. Иду на студию телевидения, к Гале Поздняковой. Она все еще руководит молодежным отделом.
Да куда там. Передачи ТКМ уже нет. Теперь это передача «Горизонт». И секции поэзии нет.
Толи четыре года из жизни выпали, толи за четыре этих года круче стал? Если бы спросили сегодня, хочешь ли армейскую эпопею повторить – отвечу однозначно – да!
Свою поэтическую остановку, между тем, я уже проехал.
Но, все же иду сдавать экзамены. И режусь на заочное отделение на первом же экзамене. Сочинение написал на тройку. А когда в юности «дружинником» был – кодексы изучал. Уголовный, гражданский, процессуальный. Ну, думаю – рвану на юрфак.
И опять провал на сочинении. На третий год, вместе с сестрой Людмилой идем на подготовительные курсы в Политехнический. Полгода походил – бросил. Какая тут математика с таким образованием в шести школах с многолетними перерывами.
Да и семейные дела не пускают.
В Чувашии, в поселке Ибреси, на родине Музы Григорьевны, умерла вторая жена ее отца, Григория Васильевича. А там брат Володя, один на старческих плечах. Забрали к себе. Семья…
Двое детей. Комната 9 метров. Устроили Володю в ПТУ, а там и в общежитие. Но, тем не менее – семья.
А тут в партком завода вызывают. «Арсенал» - это заводище с петровских времен. Иду в партком, коленки дрожат. Секретарь парткома в приемной выдержал какое-то время. А как же без этого. А потом «наехал». Как это я не по направлению обкома на работу устроился, партию обманул.
А потом предлагает на лето в пионерский лагерь вожатым поехать. С радостью. Опять на два месяца Муза с нами. Но, это лагерь «Арсенала». 16 отрядов в пионерлагере, через забор летняя база детских садов завода, через другой забор база отдыха для взрослых. Сумасшедший дом. С одной стороны младшие братья и сестренки, с другой папы с мамами. Управляемости никакой, порядок палочный (а как в такой ситуации иначе). Для нас – мука. Для детей – казарма. На следующий год я туда же уже старшим вожатым поехал. Это что-то вроде первого заместителя начальника лагеря. Попытался «наши», артековские и орленковские методы работы ввести. Опять вызвали в партком, послушали и сказали – не умничай.
А к этому времени в бригаде «зуб» на меня вырос. Ну, кому нужен коллега, который в разгар отпусков на все лето срывается из бригады в пионерлагерь. В промежутках пытаюсь (чтобы зарплату увеличить) сдать экзамены на разряд. На 3 сдал. На четвертый сдавал раза три, и не сдал. Председатель комиссии, старший мастер цеха, как закусил. Нет, и все. Ко всем пустякам придирался.
А бригада его поддерживала. Я же еще и капризный был.
То в дневную смену не могу, то в вечернюю, то в ночную.
Все зависило от расписания Музы в институте. Хотя таких мужиков – истинных питерских пролетариев, я никогда бы и ни на что бы не променял. Мы тогда много «халтур» брали. По программе научно-технического прогресса должны мы были все электрощиты в цехе в стены убрать. Это в петровские-то. Они никаким отбойным молоткам не поддаются. Мы грызли их, в облаках пыли и обломках кирпича сутками. Потом мы мыли цеховый крышный фонарь, который не мыли, вероятно, с петровских времен. Но, эта «халтура» давала возможность догнать свой заработок почти до 300 рублей. Но и на «халтурах» я то мог быть, то не мог. Короче – чужой я в бригаде.
Да и жить в нашей «халабуде» стало невыносимо. Главной задачей стало жилье. Получить его в городе было нереально. Пошел искать по свету. Во Всеволожских сетях, у Манав-Заде, это фамилия директора, с которым мы потом очень близко подружились, была служебная квартира для дежурного электрика в Щеглово. Съездили, посмотрели. Тем более, что Щеглово знали по клубнике. Летом, на поля этого плодово-ягодного совхоза ехало пол Ленинграда на уборку. И квартира – класс, и дом кирпичный. Но, от станции до дома километра два по полю. Электрички раз в час. И таких, примерно, вариантов мы рассмотрели не один. Понятно, при той катастрофической ситуации с жильем, которая тогда была в Питере, бесплатный сыр мог быть только в мышеловке.
«Потыркался» я и по кабинетам во Всеволожске. Везде – «отлуп». При одном таком посещении жилищно-коммунального управления Всеволожского исполкома я и познакомился с Тамарой Ивановной Поповой. Правда, она до сих пор в этом не признается, хотя близко дружим три десятка лет. Было это, наверное, в 1968 – 1970 году. Она мне отказала, я устроил истерику. Она подала мне стакан воды из графина, а я этот графин в нее (конечно, мимо) запустил. Вот уже лет тридцать мы лучшие друзья. Через Томушку, конечно.
Поразмыслив я понял, что «дожать» квартирный вопрос смогу только в аэропорту. Дом, в котором мы живем – «аварийный», принадлежит аэропорту, они (аэропорт), хоть и мало, но получают жилье. От малого немножко – все, что нам надо. А тут и случай подоспел. Пришел ко мне их главный электрик с предложением перейти к ним на работу. Опять на 92,50. Как в доармейское время. Правда, сказал, что модернизируются, и поэтому у них много «халтуры». Я предложение принял. Помните, я рассказывал уже.
Этого «главного электрика» я знал давно. Он был командиром отряда парашютистов в нашем аэропорту. Потом, отлетав и отпрыгав свое, перешел на работу в электрослужбу. В смысле электрическом – умелец. В смысле человеческом – один из крайне редких порядочных людей. Его открытость, честность, добросовестность покорили меня с первых дней совместной работы. Звали его Толя Пытков.
Муза в вопли…
Никакие доводы ее не успокаивали.
Я тут о совпадении имен иногда заикался. Но, и совпадение дат иногда завораживает. Я перешел на работу в аэропорт в тот же день, когда пришел в него первый раз. Но, через семь лет.
Уходил я «голомордым» щенком. Вернулся офицером запаса, кавалером Грамоты и Диплома ЦК ВЛКСМ, членом партии, электромонтером 4 разряда (при увольнении в отделе кадров, где подруга Музы работала, мне записали 4 разряд). И уволился я из Аэрофлота через двадцать лет в этот же день.
Аэропорт 2
(Эта глава продолжительность в 20 лет будет разбита на последующие главы)
За эти четыре года в аэропорту многое изменилось. Исчезли самолеты ПО-2 и ЯК-12. Стоянку заполнили более тридцати
Ан-2, тогда еще вполне продвинутые машины. На смену вертолетам Ми-1 подтянулись Ми-2, а Ми-4 уже подменяли Ми-8. Бетонированная полоса «доросла» почти до километра.
По левому берегу речки были снесены около двадцати деревенских домов, а в километре от штаба вырос двухэтажный пассажирский аэровокзал с вместительным перроном.
До аэровокзала пошел городской автобус. С развитием пассажирских перевозок подтянулись к аэровокзалу таксисты, автобусники, торгаши. Жизнь закипала.
Добрались перемены и до электрохозяйства. Устанавливалась новая, чешская светосистема. По тем временам это был прорыв. Система посадки «луч-2» чешского производства, тогда, в конце шестидесятых, начале семидесятых была прорывом. Там электроники было как в космическом «Союзе». Но сети, воздушные и кабельные, оборудование, щитовое и осветительное, оставалось довоенное. За исключением того, что я успел поменять до ухода в армию. Конечно, 92-50, не зарплата. Но, с учетом всех работ по модернизации электрохозяйства, которые финансировались по отдельной смете, можно было заработать. Правда, при «грамотной смете». (ах, как научились этим пользоваться сейчас). А, учитывая, что от дома до рабочего места было пешком 10 минут, мы работали сутками. Опять Толечка деньги научился зарабатывать. Кроме того, в этих условиях был рай для рационализаторских предложений. Правительство заботилось о развитии рабочей инициативы и платило за рационализаторские предложения в процентах от экономического эффекта. Я «выдавал на гора» минимум одно в месяц. И деньги за это получал. Иногда по десятке, иногда и поболее.
Менялось многое. Но неизменным (почти) оставался личный состав. После войны на этот аэродром перебазировался 74 летный отряд гражданской авиации, который до этого базировался на аэродроме «Сосновка» в Сосновском лесопарке на северо-западной окраине Ленинграда. Это там, где Гриша сейчас живет, и где мы с ним иногда прогуливаемся. Но, неизменно, я с перебоями в сердцебиении подхожу к памятнику неизвестным авиаторам, который в этом парке установлен.
С обновлением самолетного парка менялся летный состав.
Там «стариков» вымывала молодёжь. Но в технических и наземных службах главенствовали «старики», прошедшие войну.
И командирские и руководящие должности занимали те, кто эту войну прошел в этом же отряде. И, поэтому, внутриколлективные отношения сохранялись. Это создавало поразительный контраст с обновлением внешним и консерватизмом внутренним. Имея электротехническое образование и уже приличный опыт работы в электроэнергетике, я быстро занял лидирующее положение в электрослужбе. Но, я ведь был еще и членом партии. Уже в первом приближении мне стало понятно, что в партийном строительстве здесь тоже «глубокий застой». Может быть, это меня и никак не тронуло бы. Но, был в авиаотряде комиссар, замполит, Алексей Исаакович Аронов. Человек, который человека за человека не воспринимал. Мне приходилось с ним общаться и по делам службы и по партийным делам. Его надменность, неуважительное отношение к «нижестоящим» возмутили меня с первых же опытов общения.
И, однажды, на партийном собрании, я на него наехал со всей пролетарской ненавистью. На собрании присутствовал работник политотдела Северного управления гражданской авиации. Это был не менее «сталинистский» политработник. Он же был редактором управленческой многотиражки. Комиссар, бериевского толка.
Я много с ним потом намучился. Но об этом в свое время.
В других условиях (возможно) этот Аронов меня на другой же день сожрал бы. А тут как? Отмечен ЦК ВЛКСМ, известен в Обкоме. Рационализатор. И пр. и пр. Аронов это мог бы «проехать». Работник политотдела не мог. Разразился скандал. Комиссии политотдела, райкома, обкома. Собрание было где-то в октябре или в ноябре. А в декабре, в Наньдоме (это поселок такой на севере), на перевозке рыбы погиб экипаж самолета Ан-2. Командиром самолета был сын замполита. При разборе происшествия выяснилось, что летчик был не готов к выполнению обязанностей командира самолета. И, благодаря папе, ввелся командиром уже через два года после окончания училища, не пройдя полный курс подготовки. Конечно трагедия.
Аронов сник. И приговор был суров. Остаток жизни работал он председателем комитета ДОСААФ в Пулково. Не 1937 год все же.
Грустно это, но меня увенчали лаврами и избрали секретарем парторганизации аэропорта. Прошу не путать. Тогда, как, кажется, и сейчас, на каждом аэродроме действовали пять независимых экономических организации. Был летный отряд (понятно). Была авиационно-техническая база (ремонт и обслуживание авиационной техники). Были наземные службы (вся обслуга) и была метеослужба, как независимая организация и была диспетчерская служба. Крутизну этой службы мы знаем по знаменитым забастовкам авиадиспетчеров.
Позже все это объединили в объединенные авиаотряды. В Питере их было два. 1 ЛОАО в Пулково и 2 ЛОАО на аэродроме Смольное. (к этому названию мы еще вернемся). Так вот аэропортом тогда назывались только наземные службы. (кажется и сейчас так).
Шустрый был я, видно, по молодости. Но, справляясь со служебными обязанностями, вкалывая на халтурах, заботясь о семье, я нашел время, чтобы парторганизацию аэропорта привести в идеальный порядок, согласно тогдашним меркам.
Но, в этой заверти века было уже не до стихов и театров.
Движущих силы были две. Во-первых, мне надо было найти ключи к решению жилищной проблемы, а во-вторых, мне это было действительно интересно. Никакой идеологии я тогда в свою работу не вкладывал. Был азарт, была задача (жилье), была нетерпимость к несправедливости, было желание «порядка».
То есть, чтобы было понятно, что есть что. Это желание «порядка» будет преследовать и подводить меня всю жизнь. Только много позже, после того как я потеряю Томушку, я пойму, что «идеальный» церковный порядок – это сказка, выдуманная очень практичными людьми для олухов. (их, к сожалению, почти 400 миллионов только в православии.) Если окучить все религии, то опиум, потребляемый наркоманами – совсем не угроза этому миру. Это такой вид бизнеса. Надежный во все времена. Религия – вот причина будущей гибели этой планеты.
Какая разница – какая!
Сейчас, на старости лет, когда нет смысла врать – могу сказать честно. Мною никогда не двигала идеология. И деловой расчет – тоже никогда. Все мои поступки в этой жизни диктовались только моим современным восприятием сегодняшней действительности.
Партийная карьера 1
Через год, (примерно) а августе 1973, меня избрали секретарем партийной организации объединенного авиаотряда. Репутация парторганизации во Всеволожском горкоме партии была не из лучших. Но руководство горкома это мало волновало. Это же не профильная организация, да и свой политотдел там есть. (об этом во второй книге). К этому времени, после всех этих проверок и комиссий, сменилось и руководство. Командир отряда стал начальником отдела кадров. Если у меня хватит сил, я расскажу еще об этом удивительном человеке, Александре Васильевиче Зенькове. Командире 74 летного отряда на протяжении всей войны. Несмотря на мой возраст, мы всегда были дружны. И почти двадцать лет этот мудрый человек в любое время заходил в мой кабинет и очень деликатно давал неоценимые советы. Начальник штаба отряда, Алексей Николаевич Фомин, так и остался начальником штаба. Бывший военный летчик, получивший серьезное ранение в ногу, и, потом, всю жизнь хромавший, он был педантом своего дела и моим тоже незаменимым советчиком. Их было много, таких ветеранов, знавших меня с детства и знавших мою семью. И авиатехник Калинин, муж моей первой учительницы, который до последнего отстаивал меня в бурной схватке предперестоечного периода.
Они до последнего дня были моей опорой. Разрушителями стали пацаны перестройки. Частью перестрелявшие друг друга, а частью многих продвинувшие во влась.
Нынешняя власть наша выросла от двух корней. От чубайсовских прививок и противостоящих им «распальцованных» бизнесменов.
Так и хочется сказать – «безменов».
Ну, а командиром отряда был назначен пилот-инструктор летно-штурманского отдела управления Александр Иванович Шарков. Мы много лет и в разных ипостасях проработали с Александром Ивановичем. Он еще многократно появится в этом рассказе.
А замполитом к нему пришел замполит Вологодского авиаотряда Василий Алексеевич Висицкий (позже председатель теркома профсоюза авиаработников Северо-запада, а потом зам. Генерального директора в Пулково). Он категорически поддержал мою кандидатуру. Я понял, что мой час настал.
И условием своего избрания выставил условие выделения моей семье нормального жилья. Уже в ноябре 1973 года мы переехали в новую однокомнатную квартиру улучшенной планировки. Правда, в авиагородке, в двух часах езды от места работы. И мотался я потом 17 лет между Пулковым и Ковалево.
О Василии Алексеевиче тоже речь будет впереди.
Но и мне было выставлено условие. Ну, не мог быть уже тогда секретарем такой парторганизации человек без высшего образования. И поступил Толечка в Высшую партийную школу при ЦК КПСС.
ВПШ
Это очень занимательные пять лет моей жизни. Было в Таврическом дворце как бы две организации. Была Высшая партийная школа Ленинградского обкома партии и было отделение Заочной высшей партийной школы при ЦК КПСС. Вот в это отделение я и поступил. Все как в приличных домах Лондона и Парижа. Вступительные экзамены, ля, ля. Опять, в который раз режусь на сочинении. Это я, имеющий удостоверение военного корреспондента, член (бывший) секции поэзии на Ленинградском телевидении, автор уже почти сотни публикаций в прессе. Во вступительном сочинении я описал мою работу в пионерсом лагере Сталепрокатного завода, что на Косой линии. Я тогда на всю смену увез свой отряд из лагеря в Молодежном в пионерский поиск по следам подпольной группы Клавы Назаровой на псковщине. Мы собрали материал на целую книгу «Лес в огне». И это мой отряд раскопал правду о деятельности группы Гавриловой в Опочке. Это отдельная и интересная история.
Описывая наши поиски я употребил выражение «лохматая сирень».
Член экзаменационной комиссии возмутилась этим оборотом и настояла на тройке по сочинению. Но, кликуха ко мне прилипла.
Конечно, в Школу меня приняли.
И учился я там с огромным удовольствием.
Там нам давали то, чего нам так не хватало.
Бурили не до земной плазмы, но глубоко. Только экономик у нас было множество. По немногу, часов по двести. Но, экономика промышленности, экономика строительства, экономика торговли, экономика транспорта, и т.д., а за ними шли статистика, анализ хоз. деятельности, бухгалтерский учет.
Я уже не говорю о политических науках.
А ораторское мастерство. Правда, в духовной академии его давали в объеме 600 часов, а в ВПШ лиш 300. Но, это не мешало нам обыгрывать церковных ораторов в дуэлях.
Вы можете себе представить, что в загнивающие начальные восьмидесятые такое ПРОИСХОДИЛО. Студенты ВПШ соревновались в ораторском искусстве со студентами ВДА в стенах Таврического дворца. Но, это БЫЛО.
А какие профессора читали нам лекции. А какие прошмандовки в чине кандидатов наук бегали между нами в стремлении скосить денег за зачет. Ну, раз бегали, значит косили. И сейчас часто вижу я их имена в ранге руководителей каких-то независимых университетов???
Да и группа была у нас не из слабых. Все сплошь партийные начальники не малого полета.
После окончания ВПШ, не в пример нормальному студенчеству, связи между нами прервались.
Хотя, все мы друг о друге знали все. Город-то не большой.
НИКТО из нас не стал успешным в смысле богатства.
Во власти на короткое время успешным стал Гарри Лысюк, пробыв какое-то время первым замом у теперешнего лидера «независимых» профсоюзов. Мы были вроде большими друзьями, он тоже (много позже меня) косил под Че Гевару. Но, когда мне было плохо, предал.
В целом, ВПШ при ЦК КПСС я до сих пор считаю образцом высшего учебного заведения для менеджеров высшего звена.
Но, толи звено не так легло, либо клали его не в ту позу, но лучшими развратниками и разрушителями созданного до того были именно выпустники элитных школ.
А ведь разрушать их там вроде как и не учили?
Ведь самая простая вещь, казалось бы. Ну, перестроить чего-то хочешь. Как хозяин действует? Ага, это пригодиться, это перенесем, это подкрасим и т.д.
А Емелька Пугачев как? Круши, ломай.
Так Ельцин же ВПШ не кончал.
И банда его тоже.
(простите, опять снесло, больше не буду).
Не обещаю, но постараюсь.
Димочка
Отдельную главу я хочу посвятить этому ребенку.
Жизнь и смерть этого ЧЕЛОВЕКА определили нашу дальнейшую судьбу. Да, да, и мою, и Музину, и Гришину.
Димочка родился от мужчины, Николая Злобина, который бросил Музу сразу, как только узнал о ее беременности. Он был студентом Политехнического института (тогда почти Ньютоном).
С его другом, который «женил» его на Музе, мы потом долгие годы дружили. Звали его Юра Бородатов. Зам. главного инженера Кировского завода!!!,
Потом генеральный директор филиала Кировского завода в Тихвине. Юра Бородатов был зловещим гением для нас, для своей семьи. Его жена, Ирушка, (иначе это имя не могу написать), была ангелом терпения его «всероссийских» выходок, когда они выпускали первый российский К-700. А она была педиатром.
И вместо К-700, каждый день лечила больных детей. Я мало знавал в жизни таких чистых и тонких натур. Ирушка ушла из этой жизни в 47 лет. Мы лежали с ней на одном отделении в партийной нашей больнице им. Свердлова. С одинаковыми диагнозами. Но. Я, через три месяца, благодаря Томушке, выбрался. Иришка не смогла.
В нашу последнюю встречу, (а я на костылях), она просила меня устроить ей консультацию у какого-то профессора. Я не успел.
Ну, да. Я о Димочке. Только Иришке Бородатовой удалось уговорить Музу сохранить этого ребенка.
А дальше у Музы распределение в аэропорт «Смольное».
Комнатуха 9 кв. метров в екатерининских времен хибаре. Об этом было раньше.
Уважаемый читатель.
Это норма. Когда начинаешь писать, отсылаешь читателя к «об этом позже». Когда дописывашь, отсылаешь к «об этом было раньше». Когда написал и издал (ничего уже не изменишь), остаеться только уверять «это не я».
Летом там жить (в деревенской хибаре) классно. Зимой – лучше на северный полюс.
Чтобы было тепло, печку надо топить 4 раза часа по два. Понятно, что ночью тоже. Т.е. подложил последний раз дров печку в 24-00,
к 4-00 уже из под одеяла не вылезти без шубы. Кухня холодная. Встанешь зимой часов в пять, печь заново затопишь, на кухне в ведре ковшиком дырку во льду пробьешь, палец помочишь, мокрым пальцем глаза протрешь и на работу. В туалет через двор, на улицу.
Не осудил, одобрил, когда узнал, что Муза определила Диму в Дом ребенка. Были в том, (проклятым современными спонсорами) советском государстве такие промежуточные заведения. Это не детский дом, где родителей нет. Это не детский сад, куда родители водят детей каждый день. Это учреждение, где я, НЕ ОТКАЗЫВАЯСЬ от своего ребенка, могу поместить его на НЕКОТОРОЕ время.
А что тогда Муза могла придумать лучше. Бабы в деревне негодовали. Дурью деревенской мир стоит. Ага, а что бы хоть одна из этих баб на Музином месте делала бы.
В большой моде были тогда не только стихи, но и деревенские рассказы, повести, романы, фильмы от Шукшина, Абрамова, Васильева, Иванова. Всё это движение называлось «деревенская проза». Зачитывались. И сами в этом же кувыркались.
Я же о мальчишке сейчас. Родился, мир начал осознавать.
А в этом мире ни мамы, ни папы рядом нету.
Эпизод с моим отпуском и медалью, с которой Дима ушел в детский сад, и которую, я так потом и не нашел, был лишь эпизодом.
Вернувшись из армии я забрал Диму из дома ребенка. Пара месяцев практических занятий убедили меня в том, что я не прав. Поднимать мальчонку в шесть часов утра, чтобы к семи сдать в детсад, чтобы самому к 8-15 успеть на работу? А когда за окном минус 25. Сумасшедший дом. Ты его в ватное одеяло и в санки до автобусной остановки. А потом две пересадки.
Я не знаю, как это сейчас, а тогда были так называемые «круглосуточные» детские сады. Т. е. ребенок находился там с понедельника до пятницы. Нашли один из лучших. Муза работала уже на вечернем отделении инженерно-экономического техникума. Как ей удалось, не отработав пять лет, «свалить» из аэропорта до сих пор не знаю. Было интересно, когда у меня выдавался свободный вечер, я приезжал на улицу Герцена, входил в холл, и по голосу слышал, в какой аудитории сегодня читает лекцию Муза Григорьевна. Она была увлечена своим новым делом, и ее звонкий голос был слышен по всему техникуму.
Потом, позже, став лектором Всесоюзного общества «Знание» и разъезжая с лекциями по периферии, я оценил, что значит быть в ударе и владеть аудиторией. Но, чаще я закончив работу ехал к Диме, потом, вечером, встречал Музу. От станции Пост Ковалево до нашего дома было минут двадцать пехом. Со своего вечернего отделения раньше чем на 22-37 от Финляндского (почему не просто финского?) Муза не приезжала. Встречал каждый вечер.
Но, тем не менее, все мысли были сконцентрированы на Диме.
Понятное дело, кто тогда в Питере не понимал, что будущее ребенка либо в музыке, либо в фигурном катании.
Кумир миллионов, Ирина Роднина, вряд ли понимала, что она натворила. Сначала мы определили Диму в музыкальную школу. Потом, оказалось, что для этого нужно, как минимум, пианино. Купили. Привезли. В комнату 9 кв. метров. И, папа, как самый не занятой, тыкал пальцами в клавиши, разучивая вместе с ребенком очередную пьесу. Два класса музыкальной школы я прошёл вместе с Димой. Потом купили коньки. Директором стадиона Химического завода на Пороховых, как-то, случайно, оказался Людин муж, Боря Красотин. Тут уж и моя мама не устояла. Возили Димочку в музыкальную школу и на каток, кто когда мог. Когда пришла пора Диме идти в школу, мы, как все родители, долго мучались, какую школу выбрать. Как всегда, жизнь все решила сама собой. Замом начальника пионерского лагеря «Спутник» работала завуч элитной тогда школы. Не помню уже ни имени, ни отчества. Но она взяла Диму в свою школу на Пискаревке. Это была единственная в Питере в те времена школа в которой изучали индийский язык хинди и которую, тогда, лично патронировал Джавахарлал Неру. Школа, опять же была интернатной. Но, это было уже что-то вроде пансиона для благородных девиц. В течение недели мы Диму из школы не забирали. Но, практически каждый день после работы я ездил туда и проводил с ребятами время до позднего вечера. Завуч мне доверяла. Ведь мы прошли с ней вместе «артековскую» подготовку, в том числе и в Ленинградском Дворце пионеров. Авторитет Димы в результате моих посещений в классе, да и в школе, был неприкасаем. Да и учился он очень успешно.
Мукой было всегда Диму накормить. Никогда, ничего он есть не хотел. И спать не хотел никогда. Бывало мурлыкаю что-то, чтоб заснул. Сам засну. А он гулять отправился.
С едой упражнялся. И готовил что-то особенное, и ругался. Наругаюсь – что-то съест. И тут же вырвет.
В конце сентября 1971 года наших соседей, повариху на нашем же аэродроме, вместе с мужем и сыном положили во Всеволожскую больницу с диагнозом «дизентерия». Через две недели начались поносы у Димы. Всё списали на эту «дизентерию». Но, соседи выписались, здоровы вроде. А у Димульки проблемы остались.
Я тогда еще в районе никем не был. Главврач сказал, надо в областную. Перевезли. Там, через пару недель сказали: «нужна операция». Под окнами областной больницы на улице Комсомола мы с Музой провели бессчётное количество вечеров и ночей. Наконец-то нашли санитарку, которая за какие-то деньги пускала нас ночь к Диме. Последовала операция. Саркома кишечника. Ничего не говорили нам тогда эти диагнозы. 70 сантиметров тонкого кишечника вырезали. Ну, и слава богу. Дима встал, набрал вес, щеки зарозовели. В начале марта нам разрешили встать на коньки. Там же, на улице Комсомола, был небольшой каток.
Начали кататься. Самой счастливой, казалось мне, была моя мама. В начале мая выписались из больницы.
К середине мая Дима вообще прекратил есть. Больницы его уже не принимали. От болей спасали толь наркотики, за рецептом на которые я должен был ездить во Всеволожск, к районному наркологу каждые три дня. Я освоил уколы и в мышечную ткань и в вену. Потому, что эти уколы следовали один за другим с промежутком в 3-4 часа. Муза далеко – в Питере. Я здесь – в аэропорту. Мужики понимали, и напоминали. Толя – тебе пора.
Муза привлекла к уходу свою дипломницу. Девчонка ничего не могла, но мы могли «сбегать» на работу. К середине апреля Дима уже не мог вставать. И на улицу, на прогулку, показыватся уже было нельзя. Я соорудил «нечто» из детской коляски. И, когда смеркалось, выносил девятилетнего человека на руках на улицу, укладывал в это «нечто» и мы «гуляли» всю ночь. Но, как только Дима слышал, что прошла первая электричка или первый автобус, он сразу же просил увести его домой. Спать удавалось только пару часов до работы и пару часов после.
Утром 2 июня 1972 года, я, как обычно, собрался на работу. Димочкин живот, к этому времени, представлял из себя глобус.
Надутый шар со множеством вен и артерий. Дима попросил пить. Готовое питье всегда стояло на готове. Попоил из чайника.
А как иначе. Чаинка приклеилась к зубам. Видел. Сделал укол и побежал на работу. Через 15 минут прибежала Музина помощница. Димы больше не было. До сих пор ценю реакцию моих аэродромных товарищей. И гробик в лёт сколотили. И пирамидку из самолетного алюминия. И венок из искусственных роз.
Больше года КАЖДЫЙ день на моем мопеде мы в любую погоду ездили на могилку моего отца и Димы. К этому времени я уже был завзятым «фаном» моего мопеда. Позже пересел на мотоцикл. Как-то раз, возвращались мы с Музой с дачи от Ильиных. Это наши приятели, оба кандидаты экономических наук, весьма успешные люди, которые всегда с некоторой долей «сочувствия» с нами «дружили». Где-то в это же время они получили квартиру на Пискаревском проспекте. Я мобилизовал своих товарищей уже по электрослужбе и мы обустроили эту квартиру. Полы, обои, ну и все остальное. В советское время ты получал новую квартиру от строителей в таком состоянии, что там сразу же надо было делать ремонт. Там же, у Ильиных, мы познакомились с профессорской парой Овчиниковых. Вместе встречали праздники, вместе отдыхали, вроде дружили. Я все тогда шутил, мол вы ребята остепененные, а мы степенные. У Юры Ильина была меланома. Случайная рана при работе на даче вызвала раковую опухоль. Его жена Римма, как только об этом узнала, сразу с ним развелась, хотя у них был двухгодовалый ребенок. А через год вышла замуж за армейского половника и уехала в Москву. (порождает же господь сучек). Много позже мне пришлось в той же Москве с ней встретиться. Но, об этом позже. Ну, так вот, едем мы с Музой с дачи от Ильиных на нашем новеньком ИЖ-500, а на виражном спуске прямо напротив платформы Парголово у меня, нет не у меня, у мотоцикла, сносит ветром разболтавшееся зеркало. На скорости около ста это зеркало бьет меня в грудь. Через пару кувырков мы с Музой целехонькие вылезли из кювета. У мотоцикла было разбито ветровое стекло и помята торпеда коляски, в которой Муза сидела. Вывод был прост. Никаких больше и никогда мотоциклов и машин. Сейчас, когда я уже лет 15 за рулем получаю несказанное удовольствие, я понимаю, чего меня тогда лишили.
В 1973 мы с Музой переехали в отдельную квартиру с телефоном. С ордером на новую квартиру я приехал к Музе на Герцена поздно вечером. Тогда это было круто. Радости особенной не было. Сегодня я это понимаю. Тогда, сразу, понять не смог.
Муза НИКОГДА не смогла пережить этой потери. Ее последующее отношение к ребенку, семейной жизни, отношению к окружающим было определено этой трагедией. Больше года, а может и дольше, она обходила стороной детские площадки, выключала телевизор, когда начинались «спокойной ночи малыши», избегала встреч с друзьями. Наш дом стал нашей крепостью, где жили лишь мы вдвоем. Мне понадобилось семь лет, для того чтобы потытатся начать эту жизнь сначала. Этим началом должен был стать совместный ребенок. Для брака длиною в 15 лет это был достаточный аргумент. Но, аргументом оказалось другое. У нас появилось, по тем временам, все. Муза – аспирантка. Продвинутый преподаватель, перебравшийся из техникума в один из престижнейших Вузов Союза, финансово-экономический институт им. Вознесенского, который в свое время и закончила. Я, секретарь парткома, а потом и замполит с соответствующей зарплатой и привилегиями. Квартира, телефон. Но…
Муза, учась в аспирантуре, продолжала преподавать на кафедре. Т.е. работала день и ночь. Я работал, учился (о чем раньше). Мы часто не видели друг друга неделями. Она приходит, я уже сплю.
Я ухожу – она еще спит. Мои выходные были почти сплошь заняты. Все субботы я учился. Два раза в месяц в выходные я был ответственным дежурным в аэропорту. Квартира потихоньку превратилась в общежитие двух, живущих отдельно друг от друга людей. Созревало понимание, что дальше так продолжаться не может. Вот вроде есть все, а главного – нет.
в промежутках
Для того чтобы понять все последующее надо знать еще вот что.
Я вырос в деревенской семье, где всегда была живность.
(уже догадываетесь)
Собака, понятно, оставалась. Жила она, правда у мамы. Но была «общей». Отправляясь гулять по выходным или по редким вечерам, пока жили в деревне, брали ее с собой. Но, с появлением в доме Димы я начал «натаскивать» в дом и живность. Сначала, «как у всех», на Кондратьевском рынке купили попугайчика. Но, толи мы были бестолковы, толи попугай, толи продавец был «ушлый», но говорить попугай не научился, а через некоторое время скончался. Потом в «комнатухе» появилась черепаха. Как-то летом вынесли ее погулять и она исчезла. Не уследили. Обыскали все окрестности. Как в воду канула.
Летом в лесу поймали ежика. Приволокли домой. Радости не было предела. Мы ему и яблоки, и клубнику, и колбаски. А он, вредина, днем спит, а по ночам, в своей коробке скребется всю ночь. Вынесли в сарай. Утром не нашли.
Зимой поймал пару снегирей. Потешно было. Никогда не знал, что у них такой матриархат. Ставим им свежую воду. Пока самочка в ней не выкупается – ему и попить не удается. Даем им свежую еду – пока она не отлетит, он сидит на верхней жердочке и скулит. Однажды принес им лакомство – замороженные грозди рябины. Если бы я знал, что я делаю. Вечером, придя с работы, мы были в шоке. Снегири, оказывается, выклевывают из ягод рябины лишь косточки. А ягода вязкая. К клюву прилипает. Чтобы клюв очистить, снегирь бьет им о прутья клетки. Остатки ягоды летят во все стороны. А ягода сочная, с мороза. Обои в пятнах, занавески, скатерть,
Ну, и т.д. и т.п. Комнатка-то лишь 9 метров. Бросили такое дело, занялись кактусами. Более 30 видов собрали. Но, они ведь не живые.
Завели аквариум. Очаровательное занятие. Вот, только, в доме-то топить надо. А нас с утра до вечера нет. Чувствительные рыбки дохнут от холода. А меченосцы да гупии надоели. Отнес аквариум на службу. там его окончательно и загубили.
Как-то летом нашли мы с Димой в поле вороненка. Только из гнезда. Ясно, один погибнет. Взяли домой. Если бы мы знали, что мы делаем? Как часто я ставлю этот вопрос. А ответа на него нет ни у кого.
ЕСЛИ БЫ МЫ ЗНАЛИ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ.
Так я о вороненке.
Как оказалось, эта, уже почти взрослая большая птица есть сама не умеет. Ее надо кормить. Вы слышали когда-нибудь, когда птицы начинают петь на рассвете. Он чуть забрезжит, этот рассвет.
В питерских местах в мае, июне, июле это начало пятого.
Вот в это время начинают петь птицы.
А наш «питомец» в это время начинал «орать». Под носом стоит плошка с едой. Нет, сам не может. Ему надо в клюв это накидать.
И этого вынесли в сарай. Ори не ори, пока на работу не соберусь, не накормлю. Дверь в сарае оставляли открытой.
Соберешься «свалить», скатертью дорога. Нет ведь, до осени просидел. Потом начал вылетать не далеко. Я на мопеде с бидоном за водой, он слетает на плечо и со мной до колонки едет. Я на мопеде в магазин, он опять на плечо. У магазина взлетит на крышу и ждет. Выйду, садится на плечо и едем домой. Умора.
Но, однажды над домом пролетела стая ворон. Он поднялся к ней и больше не вернулся. Вороны ведь птицы тоже перелетные.
Гриша, явление на свет
(ждет написания)
Города, где я бывал
Россия
Архангельск
Североморск
Мурманск
Ловозеро
Кандалакша
Петрозаводск
Мончегорск
Оленегорск
Кировск
Апатиты
Северодвинск
Вяртсили
Кола
Мурмаши
Умба
Медвежегорск
Кузнечное
Приозерск
Приморск
Лодейное Поле
Подпорожье
Вознесенье
Вытегра
Сясьстрой
Тихвин
Бокситогорск
Пикалево
Волхов
Кириши
Выборг
Зеленогорск
Кронштадт
Рощино
Пушкин
Павловск
Ломоносов
Петродворец
Шлиссельбург
Нарва
Кингиссеп
Гатчина
Волосово
Луга
Бокситогорск
Псков
Печоры
Великие Луки
Тверь
Москва
Клин
Химки
Вышний Волочек
Подольск
Пушкино
Калуга
Бердянск
Шахтерск
Мюллерово
Кострома
Кинешма
Ярославль
Нижний Новгород
Арзамас
Шахты
Ростов на Дону
Армавир
Пятигорск
Ессентуки
Кропоткин
Нальчик
Сочи
Вологда
Канаш
Ибреси
Киря
Саратов
Волгоград
Астрахань
Грозный
Сыктывкар
Киров (Вятка)
Казань
Ульяновск
Самара
Сызрань
Баку
Пермь
Котлас
Оренбург
Бурла
Екатеринбург
Михайловск
Нижние Серьги
Братск
Геленджик
Туапсе
Анапа
Германия
Аахен
Флензбург
Киль
Любек
Ноймюнстер
Росток
Гамбург
Ганновер
Фулда
Франкфурт ам М.
Майнц
Висбаден
Трир
Дармштадт
Вюрцбург
Нюренберг
Мангейм
Шпайер
Шттудгарт
Саарбрюкен
Карлсруе
Хельборн
Ингольштадт
Мемминген
Шаффхаузен
Дрезден
Кальв
Энген
Бад Киссинген
Раттинген
Моншау
Гиссен
Липпштадт
Ноенкирхен
Штольберг
Вольфсбург
Галле
Падеборн
Вуперталь
Дюрен
Кельн
Бонн
Дюссельдорф
Брауншвайг
Оснабрюк
Билифельд
Киргизия
Бишкек
Рыбачий
Чолпон-ата
Чуйская долина
Иссык-куль
Абхазия
Гагра
Пицунда
Сухуми
Казахстан
Алма-ата
Эстония
Таллин
Нарва
Латвия
Рига
Белоруссия
Минск
Брест
Польша
Варшава
Познань
Голландия
Амстердам
Маастрихт
Вальс
Керкраде
Херллен
Гульпен
Керкраде
Айленхофен
Бельгия
Брюссель
Льеж
Брюгге
Антверпен
Хасселт
Эйпен
Вервье
Нё-Морене
Раерен
Спа
Франция
Париж
Страсбург
Люксембург
Италия
Барии
Азербайджан
Баку
Заводск
Испания
Барселона
Льёрет-де-Мар
Пинеда-де-Мар
Калелья
о. Тенерифа
Швецария
Берн
Женева
Цюрих
Люцерн
Лозанна
Интерлакен
Монтре
Вевей
Болгария
Варна
Швеция
Треллеборг
Стокгольм
Греция
Афины
Коринф
Патры
Пиргос
Египет
Хургада
Луксор
Эль-дайр
Эдфу
Сильва-бахари
Долина фараонов
Тушка
Асуан
Турция
Анталия
Свидетельство о публикации №115021010607
Ковалева Елена 16.02.2015 17:34 • Заявить о нарушении
Издал несколько сборников стихов и три книги прозы.
Встречаюсь с друзями. Ахи, охи!
Проверяю на вшивость!
Не читали. Может быть так, полистали!
А сын настаивает, пиши!
Кому, зачем.
Анатолий Ясинский 17.02.2015 03:33 Заявить о нарушении
Ковалева Елена 17.02.2015 09:53 Заявить о нарушении
Ковалева Елена 13.09.2015 10:39 Заявить о нарушении
