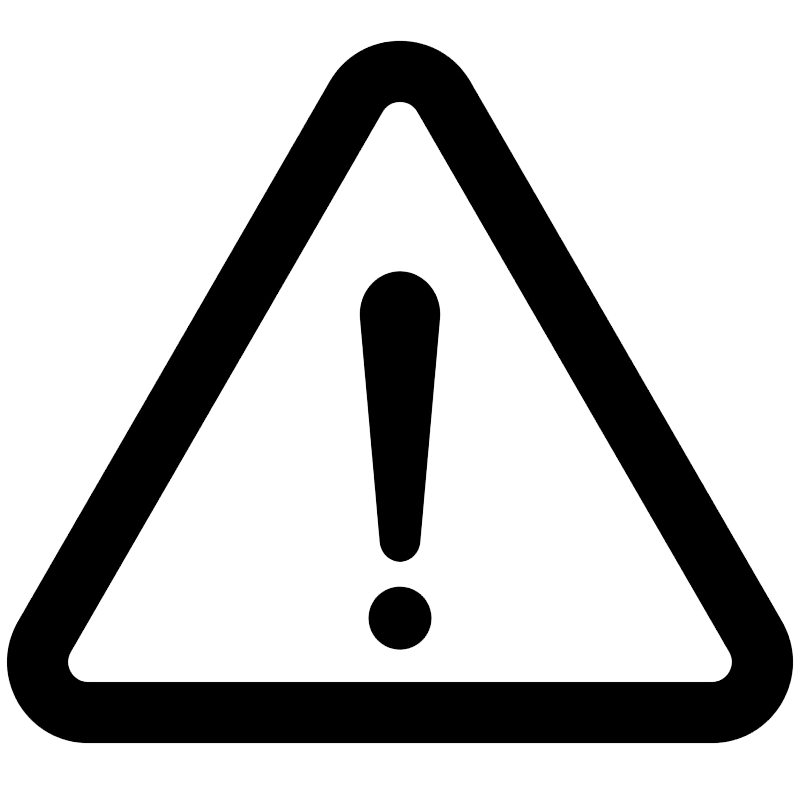
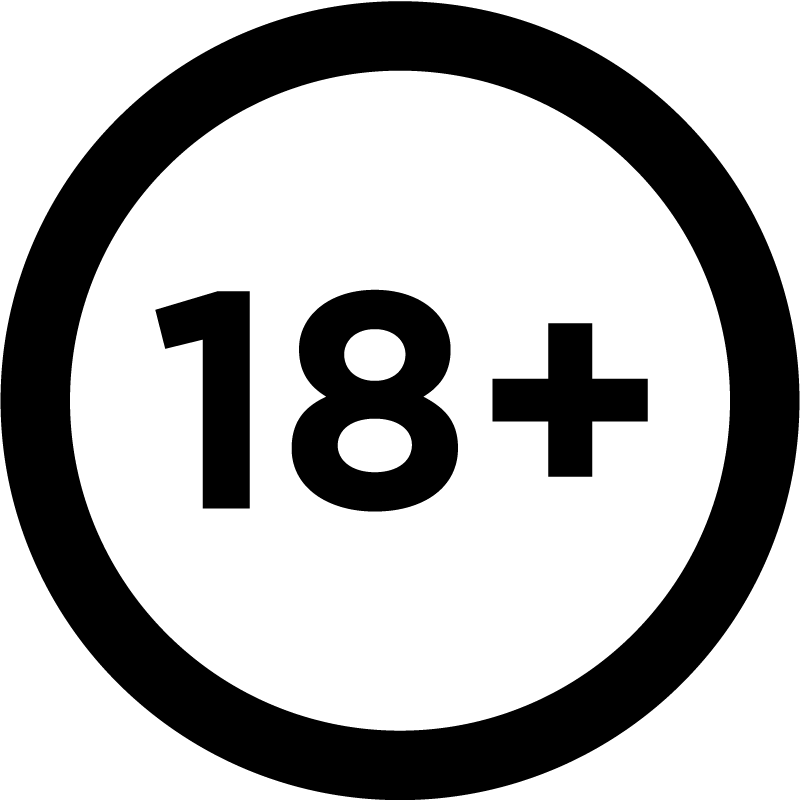 Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Андрей Голов Исход!!!
САКУРА
Заповеди, замки, заколки
Канули в бытийный туман,
Но - как полыхает на шёлке
Сакура эпохи Хэйан!
Створки старых ширм прохрустели,
Тенью всколыхнулся ночник.
Что же он найдёт в юном теле -
Самурай и полустарик?
Вздрогнет ли их ночь дикой ланью
Или пробежит, возлюбя
Древний ритуал подстиланья
Уличных одежд под себя?
Мистикою плоти и стали,
Знаками старинного сна
В ивовом весёлом квартале
Дышит молодая луна.
А неподалёку во прахе
Брякают своим бубенцом
Бритые мальчишки-монахи
С голым, как молитва, плечом.
И, аскезу туши бросая
На шуршащий шёлковый грех,
Пристальная кисть Хокусая
Празднично помирит их всех,
Ибо ничего не забудет
Средь орбит и каменных плит,
Ибо никого не осудит,
Но и никого не простит.
ПЕПЕЛ
Доспехи убитого самурая
Грешно на себя напяливать. Пробоина,
Будь она даже с булавочную головку,
Всё равно разрастётся с ворота Расёмон
И непременно притянет на закате
Стрелу или звёздочку ниндзя. Честь -
Если смотреть с верхней ступеньки бусидо -
Вовсе не категориальная абстракция
Или этический археологизм. Взмах
Кисти над тушечницей и меча над врагом
В сущности, одинаково преданы красоте
И одинаково безукоризненны. Синтоистский
Храм на семи богах и четырёх столбиках,
Сочащийся надтреснутой бронзой
Гонга или подков нового сёгуната,
Не запрещает и не благословляет убийство,
А просто стоит вдоль Пути - и не удосуживается
Иметь собственное мнение о смерти. Смерть
Может быть на удивление красивой,
Особенно если кинжал для сепуку
Вошёл в даньтянь под оптимальным углом,
Предсмертное танка вышло тонко аллитерированным,
А у помощника ни дрогнула ни память,
Ни большой меч. Утончённая
Эстетика ухода сродни саду камней:
Ибо, как ни напрягай подсознание,
Всё равно что-нибудь упустишь из виду,
И это-то тебя и спасёт - хотя бы
От банальной агонии. А огонь,
Как всегда, будет окончательно прав,
Хотя бы - в отношении пепла.
ЯНТАРНЫЙ ФУКУРОКУДЗИ
Фукурокудзи, простри свой череп
На девять цуней и десять лет,
Где Бодхисаттва сидит в пещере,
Провидя вечность сквозь свой портрет.
Порхают кисти, скользят парафы
И постигают никчёмность мер
Твои поэты и каллиграфы,
Свои карьеры пустив в карьер.
Смотри: вот этот в сепуку спрячет
Спор Гаутамы с лучом креста,
А тот споткнётся, а тот доскачет
И станет первым в конце хвоста.
Но шест коварен и благодарен
Мечу за ножны и недолёт.
А ты прозрачен, а ты янтарен,
Как брюшко пчёлки, как жёлтый сот.
Судьбе так сладко лепить потери
Из церемоний, побед, аллей.
Фукурокудзи, простри свой череп
И тупость яви преодолей.
Или хотя бы, припав во прахе
К скале, из коей бьет дней струя,
Стань тенью старца и черепахи,
Чей панцирь держит кладь бытия.
РЕПЛИКА МЕЧА
Заржавевшая реплика меча
Бликам солнечным щурится лукаво,
Отнимая у горного ключа
Не совсем обязательное право
На глоток эзотерики. Синто
Всех прощает и принимает в древнем
Суррогате сакральности, пото-
мков суля обезлюдевшим деревням
И забытым святилищам. Сакэ
Остывает в задумавшейся чаше,
И шелка на напрягшемся соске
Шелестят от предчувствия сладчайшей
И горчайшей разлуки. Трижды семь
Поучительных заповедей дзэна
Не дают обрасти ронинам семь-
ями. Яви напыщенная пена
Не смешит и не мучит старика,
Отслужившего честно господину
Восемь полных звериных циклов. Ка-
чество музыки, льющейся в долину,
Измеряется крутизной горы,
По которой она стекает в душу
Прямо с неба, все прочие миры
Оставляя за срезом свитка. Сушу
Море лижет шершавым языком,
Словно в славе пред нею виновато,
И, наткнувшись на таинство клыком,
С уважением цокает: - Ямато!
ВОРОТА РАСЁМОН
Пока стоят ворота Расёмон -
Пространству ни к чему стена и створки,
А эротические отговорки
Не стоит прятать в дальний павильон,
Прижавшийся к воротам Расёмон.
Пока они стоят - на берегу
Истории или живого сада
Камней, как приговор или награда -
Судьба сама преподнесет врагу
Возможность умереть на берегу.
Ведь выбор вариантов бытия
Зависит и от надписи на шелке
И от зиянья зубьев на заколке,
И от угла наклона острия
По отношенью к шее у ручья.
Вот - самурай с женой на скакуне
По бусидо творит свой путь к столице.
Но рок есть рок: недолго будет длиться
Его последний бой наедине
С перстом судьбы, безжалостным вдвойне.
Но кто бывал в истории и в даме
И пустоте отвешивал поклон -
Они наверняка не помнят сами,
Забытые богами и ветрами,
Запретные ворота Расёмон.
НИППОН-ДО
Ниндзя травят, крестьяне жнут и пашут,
Древний знак отдыхает от глагола,
А монахи то молятся, то машут
Бесполезными символами пола,
То бишь тыквой и посохом. У свитка
Нет иных обязательств перед явью,
И он вьется, как длинная попытка
Кудри девы задеть, припав к возглавью
Из нефрита. Раздвинутые створки
Ветхих ширм пропускают снопик света -
И шелков аскетические сборки
На подоле старинного портрета
То и дело шевелятся. За кистью
Не хотят успевать ни мысль, ни дата -
И магнолий магические листья
Уплывают, как эра сёгуната.
Парус джонки на вазе из Чокина,
Словно бабочка, сдвинувшая крылья,
Никуда не спешит. Свобода - глина,
Что устала от дряхлого всесилья
Над смятением форм. И только сосны
Всласть расчесывают седины бреда,
Ибо путают Осени и Вёсны
В патернальной эстетике соседа.
МЕТАФОРА КЛИНКА
Текучая метафора клинка
Обтачивает храмы о века
И припадает к дзэновскому замку
Взъерошенная танка ветерка.
О чем, взбираясь по уступам тем,
Чадит дымок погасших хризантем?
Курильница, наверно, это знала,
Но ноша памяти дана не всем?
Полузабытый храм почти сгорел
От приношенья осмоленных стрел
И высит череп свой Фукурокудзи
Над охлосом, что вспомнить не сумел
Ни «Кокинвакасю», ни путь бойца,
Что отпускает из груди сердца
И ни о чем не спрашивает Небо
От португальского плевка свинца.
И чт; светил возвышенная речь,
Когда глаголет древний отчий меч
И кровь случайных этносов Ямато
Благоволит меж островами течь?
Не плачь, невеста: самурай твой не
Ушел к чужой покинутой жене,
А просто выбрал путь, ведущий к смерти,
И по нему продвинулся вполне.
Нет, он не умер, ибо чт; есть смерть,
Как ни решение дерзать и сметь
И право представать перед богами,
Бряцая в сталь и потрясая медь?
Утешься: он взлелеет сад свой сам,
И танку сложит, и заложит храм,
Когда врага трепещущая печень
Окажется ему не по зубам.
ВОСЕМЬ БУСИН ПУСТОТЫ
1
Восемь бусин пустоты.
Аскетическая рвань.
Вечность капает, а ты -
То ли в дзэне, то ли в чань.
Скрип несмазанных телег
Делит утро на стихи.
И нисходит с неба снег,
Как хлопок одной руки.
2
Вопль в двенадцать иеро-
глифов, тающий во сне.
Есть судьба и есть ребро,
И мазок луны в вине.
А о смысле блёклых льдин
Вдоль всклокоченных ветвей
Знают только Дзюродин
И хохочущий Хатей.
3
Тигр, размазанный в прыжке,
Никогда не долетит
До пушинки на щеке
У послушника. Орбит
Звёздам часто не хвата-
ет над зябким свитком гор,
И морщинка возле рта
Восполняет недобор.
4
Погляди, как пахнет свет,
Капающий из звезды.
Есть завет и есть извет,
И тягучий шёлк воды.
Струйка дыма на столе
Разбавляет тенью тьму -
А великим на земле
Аргументы ни к чему.
5
Крыша дышит бытиём.
Стены подпирают быт.
И лишь мудрый водоём
Ни о чём не говорит.
И о чём-то там под нос
Объясняется с луной,
Вжавшись в бронзовый поднос
В восемь цуней шириной.
6
Феникс с бронзовых монет
Дмит свой вспененный оскал.
А для смысла в мире нет
Предпосылок, душ, начал.
Из-под древнего листа
В созерцательном тепле
Выползает пустота,
Наступает просветле-...
7
Ливня тёплого накрап
Засыпает на весу,
И узор крестьянских шляп
Подражает колесу.
Только камни живы. Вздох
Стелется вдоль по строке.
Имена чужих эпох
Крабик пишет на песке.
8
Боевой гранёный шест
Промеряет взмахом даль,
И бансай, бросая жест,
Позой кобры чтит спираль.
И стрекозы у моста
Треплют крыльями кусты,
Нанизав на тень хвоста
Восемь бусин пустоты.
ТЕНИ В ЗЕРКАЛЕ АМАТЕРАСУ
О Бодхисатва! Восклони головку
Над скорченной хир;ганою дат
И сотвори сакральную пальцовку,
Чтоб вся якудза рухнула в отпад
Пред мудрой лотоса. Святые уши
Оттянуты едва ль не до сосков,
И, с простецом беседуя, Манджушри
Туманные миры почтить готов
Улыбкой безразличия. В хоругви
Играют на закате облака
И буддоносной пагоде Хорюдзи
К лицу и синтоистская река,
И позднедзэновский подмиг Востоку
Со стороны гурманского Корё,
А принцам и особенно – Сётоку
По сути, безразлично, как корё-
жить лики в зеркале Аматерасу,
Преобразив в седой хамон меча
И тень ресничек гейши, и террасу
В старинном замке том, что сгоряча
И сдуру предпоследний Токугава
С усмешкой предал похоти огня.
Но дело в том, что мистика и слава
И ритмизованная болтовня –
Всего лишь способ наделить телами
Бесплотное Ничто и пустолеть.
А Белый Феникс хлопает крылами
И – может, а – не хочет улететь.
БОДАЙДАРУМА
Легкий бриз из-за среза океана
Оставляет жарищу на потом
И сумист – родовое тело клана –
Попирает пространство животом
Без посредства надменных одеяний,
Интерьер трищепотно осолив.
И осколок луны ледышкой ранней
Уроняет свой отблеск на залив.
У стены зябких рос сквозная пряжа
Оплела загрустивший анемон,
И река об излучины пейзажа
Обтирает старинный свой хамон.
Трех стрекоз растопыренную стайку
Помутневшим прищуром теребя,
Самурай переписывает хайку
Для сёгуна, а значит – для себя.
Обязательства теплого напитка
Перед печенью девы исчерпав,
Кисть бредет по шершавой глади свитка,
Тушь впитав в полудзэновский параф.
Нэцкэ кости моржовой чуть угрюмо
Встали славе монгольской поперек
И плетется с мешком Бодайдарума
В послезавтрашний свой монастырек.
НЭЦКЭ
Два мудреца верхом на черепахе
Являют лемурийский архетип
И мистов Атлантиды. Явь, во прахе
Купаясь, созерцательно, как клип,
Раскручивает свой психоанализ
По визуальным символам. Глаза
И панцирь в запредельном искупались,
Но не просохли от познанья. За
Извилинами странного узора
Дрожат спирали Млечного Пути,
А дальних звезд игрушечное хоро
Почти бессмысленно, но – лишь почти
Почтительно по отношенью к свету
И световым эффектам среди трав.
Малыш-послушник, развернувший сферу
По солнцу – разумеется, неправ,
Но праведен. Синкопы подсознанья
Играют в золотой пчелиный гул,
И Лев-Собака, зачерпнувший знанье,
Дракона раздраконил и уснул
У лотоса, где Будда, восседая
На стыке восемнадцати миров,
Постиг никчемность бытия и рая,
И явь скатал, как сброшенный покров
Эпохи, что, средь чад и домочадцев
Играя по тарот в оккультный быт,
Никак не собирается начаться,
А потому кончаться не спешит.
ПРУД ЯМАТО
(хокку в форме терцин)
На канонической территории японского сада
Поздняя, как кисть Хокусая, луна
Слизывает блики с росинок. Седая прохлада
Выдает лишь потуги корейской эстетики на
Роль буддиста-посредника между садами Чанъани
И карпиками Ямато. Камни суть стремена,
В коих вечность проскачет по свитку утренней рани
И оставит узор из мимолетных теней!
Чьи ослепительно острые и вслепую размытые грани
Нарезают пространство на дольки одна другой странней
И медитативней, ибо берег, впадая в горку,
То ли борется, то ли совокупляется с ней,
Приоткрывая давным-давно снятую створку
Врат Просветления. Цветник грустит у стены,
Ибо цветы обожают входить в поговорку
Или в генеалогию, или – влюбленные сны
Ивового квартала. Великолепная свита
Сопровождает храмик бога забытой страны
И потертого имени. У песчаника и гранита
Тоже есть обязательства перед зрачками дев,
Чьи деревянности, простучав по ступеням быта,
Взошли на порог бытия, с плечиков страсть и гнев
Сбросив – и праздным праздник души не печаля,
Как говорит круглошляпый пастор, руки воздев
В сторону классицистских экуменизмов Версаля
Над внебожественной святостью, чей прудик, разинув зев,
Играет в озеро Тайху или просто – в чашу Грааля.
САМУРАИ
Лунный диск развернул свои лучи
Обещаньем победы и расправы,
И до срока в ножнах хранят мечи
Самураи Акиры Куросавы.
Грохот конницы попирает прах,
Тяжко крыльями плещет стягов стая,
И камелии пляшут на волнах,
По ручью, как лазутчик, уплывая.
Пальцы девушки колоннаду струн
Пробегают вслед иволге и пчелам,
И в носилках качается сёгун,
Замок свой обводя зрачком тяжелым.
На доспехи садится стрекоза,
Ржавой сталью и кровью пахнет время,
И пожары, ораторствуя за
Разрушение, славе держат стремя.
Сонный карпик на левом плавнике
Чертит наискось дзэновские главы,
И любуются лотосом в реке
Самураи Акиры Куросавы,
Что, улыбчиво щурясь на рассвет,
Бусы бусидо трогают сердцами
И квадратную мистику монет
Попирают худыми башмаками.
ЯМАТО
Выхватывая меч из-за спины,
Не повреди серебряной луны:
Она и без того слегка щербата,
Как красоты случайная цитата
На дзэнском свитке каменной весны.
Смотри: у хижин, вжавшихся в овраг,
Доспехами гремит разбитый враг,
А возле неба, у земного края
Никчемную победу защищая,
Пять самураев подняли свой стяг.
Их было семеро – но два меча
Об эту явь сломались сгоряча,
И души их, с Амидою повздоря.
Смешались возле Западного моря
С холодной пеной горного ключа
Зачем китайцы принесли гунъань
Сюда, где вишня утреннюю рань
Устало осыпает лепестками,
А пагоды в тени растят веками
Среди камней Ямато кустик чань?
Здесь пушки заросли пушистым мхом,
И чай не помнит ни о чем плохом,
Настаивая на смятенье влаги
Угрюмую бессмыслицу отваги
И хруст бумаги, превращенной в дом.
Блюди свой садик, воин-душегуб!
Да не смутит тебя рыданье труб –
Архангельски-воинственная тема –
Как только Рыба-Меч из Вифлеема
Плашмя и вскользь коснется твоих губ.
ХАМАМАЦУ
Желтый ветер запутался в снегу,
Собираясь с пространством разобраться,
И лишь сосны молчат на берегу
В канонических позах хамамацу.
И от власти сакрального числа
Отдыхают в углу, за срезом мига,
Створки ширм, как усталые крыла
Упоительно розовых фламинго.
Вспышкой ауры желтой невзначай
Прерывая житейское затишье,
Старый мастер заваривает чай
И слагает надсмертное трехстишье.
Но и он, в кресле яви сидя вскачь,
Безупречен, как древняя попытка
Все четыре реальности сопрячь
Мерным шелестом выцветшего свитка.
Ибо запаху сосен не дано
Повторить холодящий блеск металла
И невесте в цветастом кимоно
Предстоит озаренье ритуала
И умение кистью выметать
Из души опечаленные звуки
И пятнадцатым садом рэндзё стать
В скромном садике счастья и разлуки.
ПЕЙЗАЖ С ХРАМОМ
Храмик на высоком помосте.
Морды черепах и драконов.
Вечность набивается в гости
К времени, пространство не тронув.
Съехавшая капельку вправо,
Крыша, повторившая парус,
Ветру из времен Токугава
Прямо под копыта попалась.
Только он не справился с нею,
Как старик – с женой самурая.
Только обслюнявил ей шею
Пеною морскою вдоль края,
Внутреннего дворика. Сосны
С сакурой заводят беседу,
Вспомнивши буссоновы весны
Или ту певичку из Эдо,
Чья волна кудрей до колена
Пол-монастыря соблазнила
И спасла от ереси дзэна
Прелести семейного пыла
Или тот очаг, где поленья
Чайничек с вином согревают
Или аскетической тенью
Остов бытия покрывают.
НИППОН
Япония, чтя архаичный быт,
Саке согревши, на циновках спит
И любит всласть миндалеглазых дев,
Шелками шелестящих и надев –
ших деревянные котурны. Дзэн,
Не распрямляя скрещенных колен.
Прилежно левитирует над всей
Премудростью, которую сэнсэй
Сэмпаю преподаст в саду камней,
Когда найдет его готовым – Меч
Уж не питает к тыкве между плеч
Влеченья нездорового, скользя
Курсором «мыши» не вдоль стен Тянься,
А поперек экрана монито-
ра, чьих окон цветное айкидо
Друг друга перебрасывает чрез
Двойную эзотерику чудес,
Не соприсущую ни там, ни здесь
Двум девочкам и важным старикам,
Смеющимся у двери в гроб и в храм.
БАСЁ
Клик журавлиный –
Гонг непогоды – горек.
Странно прекрасны
Сосны, встречая осень -
Время стареть и грезить.
;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;A;;; ;; ;;;;A ;;;;;;A
МИНОЙСКИЙ ОСЬМИНОГ
Этот синий минойский осьминог
На разбитом о нос Аида блюде
С бытием обращается как бог,
И ахейской советует посуде
Не вмещать слишком много пышных щёк
В альвеолы свои из чёрной глины
И не спрашивать длинный хоботок
Пчёл о влажном достоинстве пучины,
Извлекающей щупальца его
Из своей турбулентной метастазы,
Наделяющей даже божество,
Как присосками, качествами фразы,
Напрочь стёршейся ровно тридцать шесть
Поколений тому назад - но снова
Посчитавшей за благо предпочесть
Золотой немоте медяшку слова,
Зазвеневшую гордо о ступень,
Где герой, затаясь под сенью лавра,
Всласть вонзает отточенный кремень
В ненасытное горло Минотавра,
И, за бронзу судьбу благодаря
Сквозь раскат вулканического лая,
Обнимает, как чашу, дочь царя,
Ничего больше в мире не желая -
И не помнит о цвете парусов,
Из-за коих Эгей, как жест итога,
Со скалы своей броситься готов
В голубые объятья осьминога.
НОЕВ КОВЧЕГ
В том ковчеге, в коем праотец Ной
Спас всех тварей от дождливой прорухи,
Уместился бестиарий земной –
Хвостохоботоиг;льчатоухий.
Жгучих молний дозевесовский кий
Пенясь, тыкался в морское зерцало,
И неистовство смиренных стихий
Осмоленные борта проницало
Кое-где и не сугубо. Вода
Напояла первый орден природы,
И, в пучинах отражаясь, звезда
Исчисляла додавидовы роды.
За бортом, что устоял на излом,
По-из трав морских бурлила баланда,
И мышонок не бодался с козлом,
И на ежика не крысилась панда.
В недрах взвихренной морской немоты
Вызревали катавасии рая,
И павлины распускали хвосты,
Божью радугу во тьме провещая.
И покуда овцебык свой язык
Запускал обшарить сена излишки,
На шпангоутах ютились впритык
Змеи, ласточки, бельчата, мартышки.
И толикая цвела благодать,
Что, не видя в хриплых ;росах прока,
Ворон с голубем молчал у окна,
Рекше хляби, затворенной до срока.
И как только небо Бог заключил
Смертным пластырем на грешную рану,
Ворон ринулся на гору Кармил,
Голубь крылья распростер к Иордану.
Ной положенная вся совершил,
Лев с гепардом перерыкнул для виду –
А пингвин обхлопал ластами ил
И вразвалочку побрел в Антарктиду.
ПТИЦУШКИ
...а птицушки радят о Дусе Святе,
Творя иная яже ко спасенью,
Выклевывая капли благодати
Из щебета, порхания и пенья.
Воздев крыла к небесному покою,
Они, служа вселенскому согласью –
Единственная зооморфность, кою
Бог осенил Своею Ипостасью.
И абие воспомним об обоих
Египтах, где Аврам ходил воззрети,
Как птаха Птах и ибис спят в левкоях,
Уловлены в языческие сети.
Нет, лучше мы припомним перепелку,
Росицы перепившую медвяной
И возглашающую без умолку
На весь уезд, от яблоков духмяный.
Подставим перст синице, провещавшей
Жовтоблакитность щирыя Украйны,
Овсяночке, кормлённой житной кашей
И пеночке – хранительнице тайны
Малинова варенья. Русских пт;х мы
Вдоль по славянским клювикам погладим:
А коль сова с афинской гордой драхмы
Взлетит – мы новостильницу отвадим.
ЦИЛИНЬ
Цилинь - из кости, под резным седлом -
В мифологемы ханьцев напролом
Врывается - и топчет пустоту,
Всей мистикой приставшую к хвосту.
О, лемурийцев древняя стезя!
Как ты переплелась с Путем Тянься -
С неизреченным Дао, чей виток
Сопряг спираль Вселенной - и висок
Любимейшей наложницы поэ-
та, редуцирующей бытие
По принципу тонических долгот,
Край коих так напоминает брод,
У коего цилинь в святой грязи
Возник и чешую явил Фуси,
И далее - по мифу. Но резец
Всегда предполагает, что творец,
Им красоте радеющий - знаком
Не только с тривиальным мастерством
И полагается скорее на
Иератические письмена,
Бредущие вслед дао сквозь века,
Хоромы, треск мечей и тростника,
Сквозь лунный луч на девичьей щеке
И влажный след цилиня на песке.
ЛЕТУЧИЙ МУРАВЕЙ
Родник катит по дну россыпи звездных монет,
И ветер срывает георгинов пестрые марки
С конверта Успенья, на котором имени нет,
А время и место действия - всего лишь ремарки,
Ибо бессмысленно выспрашивать у ручья
О сказках, Шехерезадой упрятанных снам под веки,
И о смысле скитания летучего муравья
По пустыне сухой ветки,
Тянущейся откуда-то из чёрно-белых чудес
Обри Бердсли или из памяти рембрандтовской Флоры
О ландышах и орхидеях, населяющих райский лес
И иные надмирные просторы,
Куда муравей обязательно долетит
Без унизительной подсказки винта и пара,
Ибо крыльев его слюдяной сквозящий петит
Вписывает в пространство дерзкую волю Икара
И ничего не ждёт от окрестных крестов и зрачков,
Наперекор всем земным укорам и срокам,
А просто роняет в воздетые длани веков
Знание, выбравшее его тельце своим пророком.
БЕЛЁК
Не динозавра и не мотылька,
Не змей в пустыне и мурен в пучине –
Воспой, о муза, кроткого белька,
Творяща чин взросления на льдине.
Одним – размах крыла и хоботка
Иль таинство зобастого таланта,
А у пушистомудрого белька –
Глазенок безглагольное бельканто.
Пока медведь, разлапист и клыкаст,
Пак ломкий паки претворяет в сушу,
Белек, как заполярный исихаст,
Благим молчанием спасает душу,
И, ни пушинкою не шевеля,
Но нос прикрыв четверокогтой дланью,
О Божием величье размышля-
ет при великом северном сиянье,
Том, что на черном куколе веков
Мерцая, аки ледяная глыба,
Играет над крестами Соловков
И ликами Архангельска пошиба.
И там, где в стычке мнишеских сердец
Вскипали церквеборческие драмы,
Белек – благоуветливый белец,
Послушник эволюции и мамы,
Что, честно подавляя аппетит
В безрыбые звенящие метели,
У лунки бело чадо сторожит,
Как на краю Крещенские купели.
ГУСИ
Гортанная галактика гусей,
Не вписанная в кодекс зодиака,
Привносит в осень колоннаду шей
И звуки извергает в форме знака
Вопроса о готовности листвы
Сронить с ветвей пурпурную хламиду
И обратиться выспренне, на “вы”,
К почти что диогеновскому виду,
Дробящему земную благодать
На призраки древес в житийных клеймах,
Которые пейзажем величать
Посмеют разве что Перов да Лемох.
А гуси продлевают белый жест
Тяжёлых крыльев до творенья требы,
Где волей духа холм и даль окрест
Без преткновенья переходят в небо,
Где облак - аналой из серебра -
Подставлен, отстранясь от римской схизмы,
Радению гусиного пера
Перебелять афонские кафизмы,
Переплетать начала и концы
И, с Даниилом в ров спустившись львиный,
Имён и царств дрожащие столбцы
Выписывать из Книги Голубиной.
ЯЩЕРКА
Легкий промельк даосского гнозиса,
Ящерка по бревнам в полдень носится,
Сопрягая тоненьким хвостом
Знание, открытое в шестом
Веке до Р.Х., с полетом истины,
Чьи мифологемы так витийственны,
Что не пресмыкающимся их
Загонять в конфуцианский стих.
Господи, зачем стопосложение
Отымает простоту у гения
И ему навязывает пыл
Всеэзотерических чернил?
От Танаха и до Пятикнижия -
Ближе, чем допрыгнет кошка рыжая,
Вертикальной щелочкой зрачка
Ящерку потрогавши слегка.
Знанье набухает, возвещается
И с неизреченностью прощается,
И метафизический нефрит
Покидает недра древних плит.
Звери - логотипы Откровения:
Дай мне отдохнуть от пут трезвения,
Ящерка, простерши тень свою
К динозавровому бытию!
ТРЯСОГУЗКИН ЗАКАТ
Трясогузка, неспешно вышагивающая по коньку
Прозаически шиферной крыши,
Напоминает камень из озера Сиху -
Драконий клык, что задран пострашней и повыше
Над челюстью чанъаньского сада. Млеющие цветы
Галантного сорта и мутантного колорита
Жмутся к дому негромкой экзегетикой красоты,
Искоса роняя в ржавое корыто
Достоевскую формулу. А возле окна,
По ту сторону от непосаженных вязов
Небритоскуло читает грушенькины письмена
До второго Спаса римлянин Карамазов.
А сынок его младший - благой тезоименит
Втораго из ангельских тезок Божия человека -
На пороге Runet’a грызет и грызет гранит
Святоотеческой хрии. Закат-калека,
Туче отдавши половину своих лучей,
На другой ковыляет к западным экуменистам.
И комариный танцующий ручей
Китайчато прорекает, что ясным и чистым
Будет шаньшуйный свиток завтрашнего денька,
Даже если тушь по нему мы слезинкой размажем.
И трясогузка, вспорхнувшая с конька,
Любезничает с луной своим голубым плюмажем.
БАБОЧКА
Бабочка, почему-то усевшаяся на мой
Палец Меркурия, – пообещала удачу
В бизнесе и масонстве. Привычка сумой и тюрьмой
Получать обязательную сдачу
С денария виноградарей – не говорит ни о чем,
Кроме pessimus mens да хронического неуменья
Пользоваться надеждой. Жизнь и впрямь бьет ключом,
Но выбор глагола и особенно местоименья
Зависит лишь от оратора. Привычка идти напролом
Из псалтири Давидовой извлекает не ту ноту,
И бабочка, веерствуя бархатофорным крылом,
Циркульнолапчато промеряет дорогу к ногтю,
Обрезанному накоротко по дуге «Эмиля» Руссо
Без всяких реверансов в сторону египетской ложи,
А не существующей сансары ленивое колесо
Вращается – и прикоснувшиеся становятся сразу моложе
На двенадцать рождений – то есть к началу конца
Обращают свои сердца и телесные оболочки,
О чем у его боголюбия отца
Диакона Андрея Кураева есть замечательные строчки,
Праведно показующие, что инкарнации – нет
И не может быть по учению Седми Вселенских Соборов.
И лев-пустынник, и ибис-анахорет,
И римским сенатором бывший щетинистый боров,
И бабочки Чжуанцзы вперяют в Третий Рим
Рыла и хоботки, опасаясь сакральной кары,
И благонамеренно соглашаются с ним,
К стопам Православия слагая свои кармы.
СОРОКА
Крик сороки у рассветного крыльца
Не обронит с белобокости ни слова,
Но меняет топонимику лица
Деловитых ветеранов трудового
Фронта сталинской эпохи. Огурцы
Парникового фрейдистского налива
Обрезают крючковатые концы
В знак завета с трехлитровой банкой. Слива,
Собираясь лиловеть и поспевать,
Смотрит на Нерукотворенного Спаса,
Как невеста на супружеску кровать,
Опасаясь не поспеть в нее. Кираса
Бронзоватого пролетного жука,
Громыхающего латами латыни,
Иронически цитирует века.
А мистерия пчелы на дольке дыни
Исцеляет бытовушный дачный быт
От слепой надежды на навоз и воду,
И о малых о голландцах говорит
Искони бе православному народу.
МУХА
От языка лягушачьего или от липкой тряпки
Размашисто ускользнув на вираже нежданном,
Муха сидит на блоке и потирает лапки,
Как пьяница перед стаканом,
Но пить, разумеется, ничего не захочет, кроме
Воздуха, где вольготно клубиться и вязнуть фразам,
И тебя раздробит, как мозаику в римском доме,
Шаровым фасеточным взглядом
И унесет, как готовые решающие улики,
Туда, чему так подходит титул нездешней дали,
Клочки твоего смеха, осколки твоей улыбки,
Контур твоей печали.
И прежних твоих обличий еще не остывший пепел
Из глаз ее просыплется невесомо и хрупко, дабы
Тебя лизнул котенок, небрежно склевал петел,
В тину втянули жабы.
И только имя случайное – недолгий комочек духа –
На прощание выбьется, как волосы из-под шапки,
Пока на срезе яблока усядется новая муха
И важно потрет лапки.
ТРОЙСТВЕННОЕ НАПИСАНИЕ О ЁЖИКАХ
1
...и ёжик постоял у парника,
Вместившего зозули и туманы,
И не спеша отведал молока
Из треснувшей коробки от сметаны.
В.Болотов гностическую ложь
Крушил с крыльца, как с ex cathedra сада.
“Как славно, что я - ёж!” - подумал ёж,
“И Созомена мне твердить не надо.”
“Там хмурые Северы или Квинт
Костры для исповедников готовят,
А нам, ежам, на что такой репринт?
Наш брат не ереси, а мышек ловит,
Или хотя бы лучики луны
В ладошке подорожника, как в блюдце.”
Сны старины, как в призме, сведены
В единый фокус - и вот-вот сольются
В дождинке, что лизнула небосвод
И, постигая кодексы и акты,
По носику ежиному течет,
Как по листу никейския эпакты.
2
Еж, облепиху иголками ободрав,
К ветру истории принюхался, аки собака,
И, тотем МГУшного филфака,
Побежал дочитывать ессейские папирусы трав
И глиняные таблички подорожников. Трясогуз-
кин птенец на дровах председит в экклесии,
Приучаясь к будущей профессии
Борьбы с комариной экспансией – и на вкус
Постигая символику кольчатых и членистоно-
гих насельников киновии псевдосада
И мнимой природы. Дикий мутант винограда
Притворился хмелем и потянулся в окно
К ценителям марочных вин
Из легендарной чачи и тривиальной сивухи.
Кузнечик, как терция, засевшая в ухе,
Призывает грозу, как муэдзин –
Верных размазать намаз по жидким усам
И ножом обратить в ислам огурец с грядки,
На коей в каноническом порядке
Чередуется ово время цветам, ово – плодам,
Ово – баночным потирам, подряд
Освящающим все, что яблочно или хреново,
И еще до Владимира Святого
Уложившийся меж грядками дачный уклад.
3
Над роскошью некошенных полян
Цветет иконофильческая липа,
А ёжику не привыкать туман
Расчесывать гребенкой архетипа.
Зевесово-перуновой грозы
Отринув громовые кривотолки,
Под грозды виноградныя лозы
Он подставляет осенью иголки
И, затворив порталы без дверей
В каливе, вгрызшейся в земное лоно,
Ждет, д;ндеже свирепствует Борей
И Эвр эбр; уносит от Сиона
По urbus’aм античности. Алек-
сандрийским экзегетам и офитам
Ёж помогает вздыбить бренный век
И приподнять над суемудрым бытом
Курносый орган для вкушенья пост-
ных утешений: слив, маслин, инжира.
А там, где Русь простерла свой погост
И крест по-на одну шестую мира,
Ёж чтит маслёнок, рыжик и сморчок,
И в тонцем сне, в плену метельна лика,
За “Шестодневом” чтёт “Физиолог”
В день памяти Василия Велика.
ЦАПЛЯ
Уходят годы, складываясь в дни,
Уходят реки, втягиваясь в капли,
И формула житейской воркотни
Напоминает клюв даосской цапли,
Выклёвывающей из озерка -
Ломти луны вмещающей тарелки -
Пространства, поколения, века
И старческую тень от стройной стрелки
На солнечных часах, чей оборот
Ущербней литер в древних алфавитах,
Но чашу смысла переходит вброд,
Не омочив ни рукава, ни свиток
У девушки, усевшейся уснуть
В плетёном кресле ивовых плюмажей
И лилии просыпавшей на грудь,
Пока совёнок спорит с третьей стражей
О том, что тропы сада Мудрецов
Присыпаны песком излишне хрустко,
А лунный гонг недаром так пунцов,
Особенно - у каменного спуска
Дворцовых башен к зеркалу воды,
Где явь двоится в зыбком ореоле,
А Совершитель счастья и беды
Уже готовит утренние роли.
РОЗОВЫЕ ДРАКОНЫ
Розовые драконы, заблудившиеся на вазе,
Слизывают со стенок пагоды и века
И не мешают конфуцианской фразе
Избавиться от недостающего знака - и холодка
Нарочитой дидактики. Длани лиан винятся
В привычке ласкать туманы и утренние дожди,
И все семьсот одиннадцать или двенадцать
Глиняных воинов из гробницы Шихуанди
Истово охраняют сакральную формулу власти
От посягательств разбойников и загробных божеств.
А малышам, пьющим какие-то сласти
Из кувшинчика - не мешает ни бабушкин жест,
Ни четыре тигрёнка, припавших к водопаду,
Чтобы умыться пред созерцанием мэй,
Не доверяя ни пристальному взгляду
Великой Пустоты сквозь гравюру ветвей,
Ни времени, бредущему по циферблату
Вслед за тенью от стрелки, взметнувшейся, как игла,
Чтобы нашить ещё одну заплату
Бессмертья на рубище даосов и - крыла
Розовых драконов, детские притчи о чуде
Кроткими лапами протягивающих небесам
И, разумеется, знающих о Будде
Бесконечно больше, чем он о себе помнит сам.
ВЕРБЛЮД
Верблюды знают Абсолюта лучше,
Чем лошади и сизые шакалы,
Но избегают ластиться к нему
И шествуют вдоль мистики Магриба
На поводу у Магомета, ибо
Богам порой не чужд анимализм
И дышащая илом, пылом, Нилом
Египетская жажда карнавальной
Изящной зооморфности. И всё же
Верблюд, переставляя циркуль лап,
Являет геометрию судьбы
Сквозь исламизм пустынственных песков -
Вторичный и поверхностный, как суры,
Всем жертвуя щепотку волосков
И просит у натуры новой шкуры
Для подаяния дервишам - но
Реальности сквозной веретено
Вращается пред ним неудержимо
И нить земных скитаний и дорог
Разматывается и вьётся мимо -
Там, где хребет пространства отдыхает
От тяжести небес, собой заполнив
Святую синусоиду Тибета
И позу чань-буддизма, пред которой
Бессмысленно бряцать мечом и шпорой
И отстраняться, разум очертя,
И подводя черту прозренья чуда,
Чей истый смысл постигнут лишь дитя
Да вечное терпение верблюда.
ВОРОН
… а ворон в тон эдгаровой Поэме
Слегка обкаркивает ведьмин круг
И дождь по македонской стратагеме
Косой атакой занимает луг
И восемь стадий сосняка. По плитам
Бетонки пробегают «Мерседес»
И жук-навозник. Эллинским гоплитам,
Не склонным к поглощению чудес
Посредством веры в то, что не заплата,
А плоть, под ней сквозящая, ценна,
Здесь было бы, пожалуй, скучновато
Без фризов, Фрин и фряжского вина.
А нам не привыкать. К столбам фонарным
Покладисто привязанная тень
По кругу темпом движется ударным,
Укладывая перезрелый день
В дырявое лукошко подсознанья
Для будущего века, про запас,
И избавляя смысл от осязанья
И вкусовых приправ, и сочных фраз.
ЛАСТОЧКИ
… а стайки ласточек, забравшись на
Такую высоту, что ни орлы их
Не тронут, ни причуды Перун;,
Ни прочие, заблудшие в стихиях
Нетесанно славянские божки –
Купаются в мистерии простора,
Готовясь к отпаденью от руки
Московския природы дирижера,
То бишь к отлету к туркам, к коптам, к тем,
Что, сквозь ноздрю продев кольцо из кости,
Зрачками пожирают свой тотем,
Блаженствуя от ритуальной злости
И прочих экзотизмов, на ура
Прилежным царскосельскиим размером
Описанным под сению Шатра
Еще георгиевским кавалером
Н.Гумилевым. Время – не беда:
Была бы вера, посох и дорога,
Протянутая Смыслом сквозь года
От баптистерия и до порога
Той неземной земли, где власть Добра
Простерта паче злата и елея,
Где высится Масличная гора
И льнет к стопам Христовым Галилея,
Куда прикован взор христовых чад,
Куда и ласточки спасенным роем
Из века в век летят, летят, летят
И наши души не берут с собою…
;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;; ;;;;; ;;;;;;
ЛЕТНИЕ АЛЛЮЗИИ
А у берез так много дела до
Калужского развесистого рая.
Они, как мастерицы айкидо,
Отбрасывают ветер, не вступая
С ним в эротический контакт. Дрозды
И труженицы тыла - трясогузки -
Готовят клювиками из звезды
Подобие мистической закуски
Для сонмом православнейших святынь
Затюканного лешего. А ивы,
Присеребрившись в утреннюю стынь,
Лишь ностальгией по Китаю живы.
И заповедный тюркский джерабай,
На русских коз охотясь с саадаком,
Облюбовал себе дубравный край,
Как ойкумену. Спорить с зодиаком
Бессмысленно - и август, под ребро
Коля стерней саврасовские виды,
Прокручивает пояс астеро-
идов через орбиту сей планиды,
Где Anno Domini и хиджра дно
Времен стремятся досягнуть над явью,
И Русь слегка язычествует - но
Преобладает тяга к православью.
КОЛЛАЖ
Дрозд, обживший забитый огурцами
Шестисоточник в Др;здово - чуть хри-
пит, почти не мешая верхней раме
Засылать отражения зари
На морковные гряды. Лягушонок
Из-под брюшка отталкивая ка-
лужский нечернозем, летит спросонок
Сквозь века или перья чеснока.
Облаков раскурчавленное стадо
Набухает метафорой дождя,
И грозит глоссолалиями града,
С деловитым почтеньем обходя
Водовзводную вышку. Стрекозиный
Многокрыльный витраж шуршит в тиши -
И орешник с иудиной осиной
Убеждают седые камыши
Не торчать, аки банник от мортиры,
Из канавы вдоль тесного шоссе
И “Цветочки” Франциска не цитиро-
вать с насмешкой. Скользящий по росе
Гул моторов восходит к общей точке.
Лишь стрижи да под осень - журавли
Студень воздуха режут на кусочки,
Не касаясь ни неба, ни земли.
ГЕОМАНТИЯ ГЕОРГИНОВ
Стрелку тени из ночи вынув,
Словно ;рсис в ахейской строфе,
Геомантия георгинов
Размечает шесть соток РФ.
И оттуда, где Тигр дубом заперт,
Друг-Дракон проложил на срок
Восемь гряд вдоль оси юг-запад
И четыре – вдоль север-восток.
А капустная, спаржу смежая,
Соскользнула с крыла стрижа
От косящатого сарая
До соседского гаража.
Ибо в клумбах цвета какао
Сопричастно Небу везде
Сочетание линий Дао
И текучего таинства Дэ.
И туман, на ежиных лапах
В межкрыжовничье заходя,
Вытирается по-о запах
Груздем пахнущего дождя.
Дабы конский щавель и левкои,
Обманув европейский газон,
Взяли азимут вечности, в коей –
Вся премудрость и весь резон,
И борения иконокластов,
И расплеск парфюмерных струй,
Как сказал бы пан Голохвастов,
Если б знал, що такэ фэншуй.
МЕДИТАЦИЯ
Картофель. Канифоль. Кецалькоатль.
Бессмысленный пролёт смычка созвучий
По струнам подсознания. Слова,
Слипаясь, как ресницы на заре,
Упрямо липнут к мантрам и коанам,
И старенькие файлы бытия,
Не раз уж зависавшие над краем
Традиционных жизненных программ,
Перезаписывают под другими
Монашескими именами. Быт
По-дачному ершист и деловит
В дождливых прядях, в комариных волнах,
Любуясь, как всклокоченный подсолнух,
Под солнцем застолбив себе у тына
Квадратный фут Евразии, творит
Благое предстоянье пред Отцом
В нетварный день Преображенья Сына.
А облака, набухшие свинцом,
Ползут над рощицей, собой являя
Кудлатую изнанку тягиляя,
И ни единым краем и концом
Не тянут на макушку лета. Жук
Из сумрачного штата Колорадо
Не покладая челюстей, жуёт
Последние надежды ветеранов
На девять вёдер с грядки. Тишина -
Вот самое крутое испытанье
Для городского уха на шести
Любезных дачных сотках. Посему -
Благословен создатель бензопил
И вертолётодрома в четырёх
Верстах отсюда.
ЧТО ЖЕ ЕЩЁ
Август к падучим созвездьям приник.
Хлопает плёнкой раскрытый парник.
Ветер, с вершинами лично знаком,
Пахнет росой и парным молоком.
А по-над крышами, вдоль пустоты
Телеантенны косят под кресты
Или шаблоны для “твердо”. Тверда
Верою в склянках святая вода.
А на бальзамчиках, даосов сын,
Шествует вдоль по Руси Шоусин
С посохом, с персиком, с памятью эр,
Языковой попирая барьер
Позой аскета-эстета. Луна
По-христианско-китайски вольна
Кланяться всем, а служить никому,
Долькой срезая своей бахрому
Сизых дождей. Петушиный фальцет
Рвёт тишину, как исконный рецепт
Инициации. Слушай судьбу,
Уподобляйся верблюжью горбу.
Пушкин - на полке, орел - на гербе.
Что же ещё остаётся тебе?
ПОКА
Пока в ударе птичьи голоса,
Путь от зари к заре не слишком долог,
И подорожник драит небеса
Мохнатым банником своих метелок,
Чтобы прочистить дула для громов
И молнии мистические всхлипы –
Иллюминации для теремов,
Где обитают русски архетипы
И признаки времен святой Москвы –
От Софьи Витовтовны до царевны
Властолюбивой Софьи. У травы
Намеренья смиренны и безгневны:
Она хранит медвяную росу,
Готовит для кузнечиков пюпитры –
И не в обиде даже на косу
И тени от архиерейской митры,
Плывущей вслед за нимбами рипид
На крестном ходе в Рождество Предтечи.
Се – жаба предзакатная скрипит
В гряде морковной, сиречь – недалече
От вечности, забредшей в те края,
Где ты молчишь о Софьиной потере
И барыша не ждешь от бытия,
А любишь, и надеешься, и веришь.
ВЕСЕННИЕ ФУТУРУМЫ
Февраль прометет, марток свои трое порток
Сменит на ножки в “Леванте” и “Филодоро” -
И пылкой катавасии урок
Начнут твердить коты, преисполненные задора
В умножении племени усато-пушистых. Ручей
Спрыгнет с карниза и начнет обтаивать вербы,
И Сорок мученик Севастийских призовут сорок и грачей
На елео- и слезоточивый праздник веры,
Сиречь Великий пост. Подшивка стиха к греху
Обязательно даст тропарь покаянных глаголов,
И бабушки станут копить лукову шелуху
Крашенья ради магдалинино-курьих симв;лов
Гроба Господня. Тополя, выспрь прозябай,
Прозябшим воронятам распустят первые почки,
И бывые русские, и телекраснобай
Непременно получат по электронной почте
Поздравления с Благовещеньем. Юлиев индиктион
Еще на щепотку часов разойдется с грегорианским,
И Чудо Огня опять утвердит его типикон,
Как выход из тупика схизмы. Бомжи, цыганским
Потом торгующие - согреются о Страстной,
Готовностью к покаянию ОМОН и клириков радуя,
И матушка Москва снова станет святой,
Если верить колоколам - и радио
“Радонеж”. И все, чающие движенья добра,
Хоть на миг распахнут душ своих тяжкие створки,
Чтобы вера и впрямь могла двигать гора-
ми, а не только датой Красной Горки.
ЗА ЧАЕМ
За пленкой дугового парника
Топорщатся крещеные века,
И жертвы самосева ноготков
Показывают вечеру, каков
Солярный колорит чесночных гряд,
Чьи всходы исцеляют всех подряд
И от чего угодно. Тень забо-
ра мнется, как старинное жабо,
От ворота калитки, где ухаб
Всласть разбухает от дуэта жаб
И струнной группы чопорных кузне-
чиков, смычки влачащих, как во сне,
По струнам сухотравья. Византий-
цы, благосоставители житий,
Россию рукоположили в сан
Преемницы уставов и осанн
И кесарепапистских авантюр,
Чей результат спасительно понур.
А русский дом вовек не будет пуст
Без хрусткой харизматики капуст,
Пасхальных свеч моркови - и всего,
Чем пост под Пасху и под Рождество
Питает русскую идею - и
За чаем спорит с ней о бытии.
“БЫТИЕ”
Дом на углу случайного квартала
Сакральных шестисоточников - спит,
Вергильевых георгик одеяло
Натягивая на режимный быт
Поджарых ветеранов, что, являя
Непритязательному небу зад,
Корпеют у хозблочного сарая
Над гомилетикой капустных гряд
И герменевтикой чесночных. В душе
Душевно теплится вчерашний дождь
И сериалом травленые души
Всяк день спешат начать с молитвы: - Даждь
Нам лук и огурец насущный... Галки
И в либелу влюбленные стрижи
По вдохновению и из-под палки
Прочерчивают в воздухе межи
Над сгустком земледельческих оргазмов,
Реализуемых под шестьдесят
Годов и градусов. Струя соблазнов
Смешалась с брызгами имен и дат
И высохла над дверью. Православный
Смиренный календарик на стене
День Независимости чтит с заглавной
И строго шелестит об Ильине
И Первом Спасе. Ибо Ева - прямо
За семьдесят - опять берет ведро
И угощает своего Адама
Дикушкой, метко бьющей под ребро.
ШЕСТИСОТОЧНЫЙ ВЕЧЕР
Неправда, вертолет - не стрекоза:
Он - головастик древних стихиалей,
Послушных Д. Андрееву. Слеза
Луны, сползающая с сизых далей,
Никак не выберет конец своей
Мистической глиссады. А лисички,
Устав рыжеть и прыгать средь корней,
Повыстроились, как на перекличке
По ведьминому кругу. Вслед хвосту
Сороки - вьется скоропись событий,
И ветер, задирая бересту,
Готовит Арциховскому граффити
Для славы Новагорода. Парник
Распух от огурцов - продолговатых,
Как удивленный ноль. Антон Сквозник-
Свет-Дмухановский ищет виноватых
В приезде ревизора в дачный рай -
В обители заливших дрёмой очи,
И ковш Большой Медведицы, сарай,
То бишь хозблок, зачерпывая к ночи,
Его выплескивает под забор -
На долгий коитус малины с хреном,
И дискантовый петушиный хор
Гремит метафорическим рефреном
К куплетам Мефистофеля с Манон,
Пропетым, как всегда, певцом за сценой,
И шесть сакральных соток прячут в сон
Свои амбиции на роль Вселенной.
АНТИФОНЫ
В комнатушке чердачной, где зверобой
Из сермяги сенца в камергерский мундир лекарства
Переоблачается, гордо любуясь собой,
Ближе к рассвету перебродивший зной
Скисает, как простокваша. Санчопансовское лукавство
Иногда помогает новомученикам шестисо-
точных капсул среднерусской ландшафтной зоны
Уподобляться Торо или хотя бы Руссо,
Вытирая свое мерседесовское колесо
О приватизированные озоны,
До озноба живые, как и время, с огуречных плетей
Свешивающееся в ожидании щедрой поливки
Из водолеевой урны. Потей не потей -
Весь набор георгических затей
Из суглинка не вытянет ни смоковницы, ни оливки,
Ограничив малиной полудорический фриз
Теней на фронтоне фазенды, обшитой вагонкой.
А вьюнок, перепутав верх и низ,
Ловит своими усами метафизический бриз,
По-хозяйски хлопающий градобойной пленкой
Парника - сиречь припарки благого простран-
ства на вздувшемся флюсе времени всплеска
Нераскаянной метанойи, вкруг коего реет туман
И антифоны проклятий и осанн
Откликаются издали из ближнего перелеска.
БЫ-ШИНУАЗ
На месте ритуальных парников,
Распертых “Родничком” или “Зозулей,”
И трех свекольных гряд, заросших русским
Величественным хреном - в самый раз
Улегся бы галантный шинуаз,
То бишь китайский садик, сиречь - пруд
В оправе древлекаменных причуд,
А к северу от левого ребра
Хозяина - священная гора
Взметнулась бы на шесть локтей и цунь,
Изображая призрачный Кунълунь
И прихоти чанъаньских стилей, где
Семь карпиков советуют звезде
Не доверять ни ивам, ни воде,
Держась от них на расстояньи взмаха
Ресниц котенка, за которым птаха
С насмешливым вниманием следит.
Пунцовый сланец, в розовый гранит
Почтительно влюбившись, подпирал бы
Пещерный монастырь для трех ежей
И множества послушников-улиток,
Плывущих на песчаниковых плитах,
Как рудимент эпохи неолита,
С бесшумным грохотом. Синод бомжей
Здесь омовенье бы творил, с утра лбы
Взбодрив вполне корейскою росой
Сеульского Production, как и твой
TV,- PC- и Audio-вход
В ту явь, где гуй и фэнхуан живет,
И длит на берег варварских пустынь
Копыта багуаневый цилинь,
Со стороны вселенского Китая
Приход нео-мессии предрекая.
ТЕРЦИНЫ
...но лак отталкивается от света
И входит в зазеркальный интерьер
На цыпочках орнамента. От лета
Отъятая гвоздика - чтит манер
Рамашистого колера и тради-
ционного мазка. Столичный сквер
Со сквернотравьем - утешенья ради
Флористов и “зеленых” - шелестит
И сетует о горнем вертограде
С иконы строгановских писем. Быт
Есть адаптация Новозаветья
К банальностям язычества. Кульбит
Луча, преобразившего соцветья
В подобье голубиного крыла, -
Суть тлеющее в пору лихолетья
Томление по ангелам. Тела
Цветов - есть экзегетика их духа,
Неявное, вне меры и числа,
Явление небесного воздуха,
Стеканье смысла яви с пирамид,
Ко;му внемлет всяк имеяй ухо,
А очеса имеющий - да зрит.
КАНУН ПОКРОВА
Ещё сентябрь не переоблачился,
Не снял свою стихарную парчу
С сутулых плеч березняков; ещё
Эвдемонизм вечерния дубравы
По-прежнему тяжёл и басовит,
И хлюпкий русский леший из болота
Не выбрался на зимние квартиры,
То бишь в волюм Максимова; ещё
Ежи, поёживаясь на рассвете,
Расчёсывают кудри у тумана
И хлопают глазёнками на скользкий
Маслёнок, что лимонной желтизной
Подмасливает сковороду луга
И прячется от заморозков в мох;
Ещё одры скрипучих электричек
Колёса крутят против часовой,
Но подгоняют время. Лето всё,
Что думало сказать Руси - сказало,
И караваны, в общем, одногорбых,
Но седовласых дачников влачат
В рюкзачном брежневском брезенте шансы
Дожить до следующей посевной
И, кланяясь суглинкам подмосковным,
Общаются истоптанной лопатой
С фаллической символикою хрена
И девственницей репой. А Покров
Уже неспешно подошёл к порогу
И за руку с пролётною листвой
Привычно поздоровался и - замер,
Любуясь свежей позолотой на
Шатровых главах барского барокко,
И сергиевски-плотные кочны,
Как медные китайские шары,
Катая кузовами самосвалов.
КЫСЕНЬКА
...а кысеньки отринули печали
И дачную моторику забот
И целого “Подростка” прочитали
Со всеми комментариями.
Вот.
А древний спор винариев с аквариями
Решен бесповоротно - и едва ли
Какой-нибудь особенный почет
Российской пастве принесет,
Хотя б ее предстатели вкушали
Вместо “Кагора” ковш от местных вод.
Ах, батюшка Феодор! Тяжела ли
Досада, если стрелка попадет
На пресловутое zero? У стали,
Бумаг и золота один расчёт:
Добиться, чтоб пред ними преклоняли
Главы своя державы, царь, народ
Иль на худой конец - полупростушка
Без титулов, годов так двадцати,
Что завела огладистое брюшко,
Не удосужась мужа завести.
И чада нерожденного сиротство
Изнемогает словно не впервой
От реверансов псевдоблагородства
И истерии пошлости людской.
А криптограммы прочих безобразий
И внеэкуменические рожи,
Облекшиеся саваном строки,
Куда приятней в кысьем пересказе -
Но книжка и подушка так похожи
И так близки...
В ДОЖДЬ
Под дождём хорошо мыть укроп, но плохо
Загорать, вялить воблу, читать стихи
По старинному томику. Пить эпоху
Из лафитников можно и из горлa,
Ибо тмутараканские петухи
К благодатной погоде простёрли крыла
И дождя не пророчат. Но он об этом
Очевидно, не знает - и льёт, и льёт.
Вообще, чем противней погода летом,
Тем труднее поверить в счастливый исход
Книги, драмы, реформы, судьбы России
В чисто хилиастическом смысле. Дождь -
Метатеза долгого ящика: выи
Наклонишь над эпохой - и ждёшь, и ждёшь,
Пока он вознамерится кончиться. Луком
Славно аккомпанировать малосоль-
ным огурчикам. Но все досуги наукам
Посвящать на фазенде мешает роль
Водоноса, копателя, открывалы
Парников, старых банок сгущёнки, опят
На щербатом пеньке, где щеглы-нахалы
В восемь лапок уселись - и не хотят
Улетать ни одной из них. Долг колена
Перед грядкой моркови придётся отдать
Только после дождя. Запах прелого сена,
Измеренье погоды посредством безмена,
И обед, в коем пятая перемена
Совпадает с закускою, кою жевать -
Всё равно, что десною любить полено.
В общем - полная благодать.
ПИЛА
Пила, разведённая ещё при царе-косаре,
Сиречь, разумеется, кесаре,
С сучкастыми жердями на дворе
Управилась без напряга. Видимо, дело не в слесаре,
А в тяговых свойствах бицепсов. Взвизги зубь-
ев рассказывают о поперечном строении
Древесины. Вот это хрипит бывший дуб,
А это - осина, трескающаяся в нетерпении
Подсохнуть в печи, обуглиться, стать золой,
Но дому отдать положенные калории,
И доказать, пеплом клубясь над метлой,
Что и она причастна к планетарной виктории
Добра над злом, ибо недаром на ней
Удавился сменявший Спасителя
На тридцать сребреников. Впрочем, о сей
Сделке есть разные мнения. Зрителя,
То бишь слушателя, влюблённого в сны
Дальневосточного макрокультурного топоса,
Больше согреет спил сосны,
Коей не надо ни заклинанья, ни тормоза,
Дабы и тенью своей танец ствола свить,
Гэндзё послать искупаться в славе и счастии
И дух мой перед ней остановить
На четыре с половиной династии.
ДИ
Почему-то опять куда-то ушли дожди,
Словно кто-то сорвал кран в небесном автомате,
И девочка, до слез похожая на принцессу Ди,
Торгует в ларьке “Фантой” и несчастной килькой в томате,
И прочим набором по размашистым прайсам су-
перминимаркетов постперестроечной эры,
Застолбив в освященном железноборовском лесу
Десять кубов вагонки и квадратную сажень фанеры,
Так что проблема опоения россиян
“Клинским”, “Баварским” и иным продвинутым пивом
Решается благоуспешно. Дух растворен и медвян
Являет себя слащавым и почти неучтивым
Рядом с цивилизованными выхлопами “Тойот”
И “Фордов”, задний бампер растопыривших на две трети
Плаца перед фазендой председателя. Поворот
Общественного внимания от свердловского йети
К питерским дзюдоистам - почти, вернее - отнюдь
Не снизил рейтинг продаж творога и сгущенки.
И Сара из рода кошачьих, блюдя израилев путь
Плодовитости - мирно глядит, как ее котенки
Церемонными позами умиляют поддатый народ,
Избегая только псиного обнюха,
И в друзья набиваются ко всем - независимо от
Вероисповедания и литража брюха.
ДАЧНЫЙ ВЕЧЕР
Настил, скрипящий вдоль и поперёк,
Топорщится, как моисеев посох,
Но помогает пересечь порог
На четырёх мистических колёсах.
Колючее явление ежа,
Куда-то прошагавшего сторожко,
Спасает вечер от бессодержа-
тельной потери сумерек. Дорожка,
Где подорожник спорит с одуван-
чиком за майорат над ареалом,
Совсем не хочет кутаться в туман
И засыпает, сбросив одеяло
К ногам, точнее - крылышкам мышей,
Носящихся, едва не задевая
Остатки стирки. Золотой шалфей
Белеет в полутьме. Полуручная
Звезда, чей луч в закатный окоём
Скользнул по кронам благостно и лепо,
Молчит и зорко смотрит в сонный дом,
Как в ясли Вифлеемского вертепа.
НОГОТКИ
Солярные репризы ноготков
Спасают от бессолнечности серый
Постперестроечный денёк. Скворцы
С достоинством хозяев переходят
Поспевший край клубничной грядки. Время,
Страдая от отсутствия теней
Конька на крыше или хоть забора,
Решило отчего-то вспомнить об
Элладе, где такие же проблемы
Стояли пред учёной четвертушкой
Эгейских полисов. Кочны капусты
Капризничают в сторону дождя
И недостатка кальция. Клас Хеда
И Снейдерс вряд ли подняли бы кисть
На эти груды хилых претендентов
На звание капустного листа
Для голубцов. Как ни крути - шесть соток
(Пока оставим разговор о даче
С ея архитектоникой и креном
По образцу Пизанской башни) скромно
Косят под геомантию-фэншуй
Китайских императорских садов,
Понеже каждый шаг - в песок, в теплицу
Имеет планетарный смысл. И эти
Малинники, дорожки, огурцы -
Сплошные чакры, из которых вот-
вот брызнет исступленье плодородья
И биоэнергетика земли.
Но, видно, пятки в рибокских кроссовках
Не тянут на серебряные иглы:
Из всех даров Цереры лишь картошка,
Как проповедь экуменизма, всех
Бесплодной плодовитостью достала.
ДАЧНЫЕ АЛЛЮЗИИ
Предпорожная тряпка, напившаяся дождя,
Напоминает гетеру в монашеской наметке,
И скользит по настилу, выходя
Из тени на солнце. Смородиновые четки
Пальцам заката перебирать лень -
И они сами мерцают красным и белым,
Колорит перед светопреставлень-
ем оживляя. Хлебушком не горелым
Божьи коровки потчуют строгий канун дня,
В онь же всецерковно молитвенно совершаем
Память Андрея Критского. Всадник коня
Вороного - пока что не занялся урожаем
И не исчислил в денариях пенсии бедных ба-
бушек, выщипывающих щавель до последней травки,
И не чающих видеть разверзшиеся гроба,
Как раковины с жемчужинами на прилавке
Торгового чайна-тауна на выцветшей ВВЦ,
Где сталинский ампир мшеет напропалую
И тревожно меняется в норове и лице,
Аки в пригороде Содома, торгуя
Лоскутками величия свои колоннадных ма-
занок, набитых отборной трухой пятилеток.
И соцреализм аскетического письма
Льнет к фотокамерам, чей прищур безупречно меток.
И РФ, как тарелка, опрокинутая вверх дном
Волей рока, прикола и нирваны,
Пунцовеет генсековским трупно-родимым пятном
На лысом взлобье бывшей Гондваны.
КАЛУЖСКИЙ БОРЕЙ
...а калужский Борей, напрягши щёки,
Раздувает на северо-востоке
Ослепительно-пыльного пейзажа
Натюрмортную форточку, и даже
Облака расставляет по манеру
Абрахама ван Беерена. Пэру
Милой Франции, лорду Альбиона
Перелеска березовое лоно
Вряд ли б в душу и кошелек запало.
Послеливневой дымки одеяло
Отползает в япончатые танка
Полупросеки, полу-полустанка,
Приглашая кузнечиков отпетых
В императорски первые поэты
Или хоть капельмейстеры. Лягушка,
Отшвырнувши пространство из-под брюшка,
Состязается с временем. Дождями
Столько нежности высказано яме,
Сельским прудиком вдвинувшейся в поле,
Что она не вместит ни чарки боле –
Не в пример удалому славянину,
Уступившему аглицкому джину
Этот вечер – ни долог, ни короток –
За возможность повиснуть на воротах
И воспеть совершенно в ханьском стиле
Камыши, что шумели и любили.
ЛЕСНЫЕ ЛАНДЫШИ
Тот лес, в котором ландыши звенят,
Не прячась за подолы старых елок,
Молчит, как будто в чем-то виноват,
Расчесывая выбитый проселок
Гребенкою теней. Оплывший век -
Десятый в челюсти тысячелетья -
Ушел внезапно, как исламский бек,
Помахивая стингером и плетью
Всех новоиспеченных сект и вер,
Пророков и вождей, сместивших Бога,
И выпущенных в явь, словно в вольер
Для опытов над будущим. Итога
Наспрасно ждать от априорно бес-
конечной метафизики событий,
Забредших по колено в старый лес,
Где мыши пролетают по орбите,
Проложенной еще до орбиталь-
ных всплесков человеческой гордыни,
Облекших православную печаль
В символику египетской пустыни
Со всем ее азартом пирамид,
И казнями, и марабу, и Моше,
Что пред вратами вечности стоит
И выбирает матерьял поплоше
Для новеньких скрижалей, что умы
Томят избытком иномирной силы.
А ландыши блестят себе из тьмы,
Как зубы Перуна или Ярилы.
МОРДОВСКИЕ БОГИ
Пажити, избушка, сарай,
Непролазный лес на пороге...
Норов, Вере-паз, Нишке-шкай –
Древние мордовские боги.
В сумерках цветочных полян
Или над приволжским обрывом
Жертвенный творится молян
Кровью петушиной и пивом.
Телом молода и чиста,
Нравом горяча и лукава,
Тянет рыбаков в омута
Ведьма водяная – Ведь-ава.
Грозник, рассыпая всердцах
Града леденящие пульки,
Тянет в небеса на цепях
Девушку в серебряной люльке.
Пуча брагой тронутый взгляд,
Реденькие гладя бородки,
На небесных лавках сидят
Боги, слово деды на сходке.
И, решая, кто кому сват,
А кого почесть виноватым,
Рядышком богини стоят,
Важно, как домахи с ухватом.
И, хоть все решит-Вере-паз,
Прочие надменны и строги...
Дайте я послушаю вас,
Древние мордовские боги
Или на прощанье найду
Славы вашей слабенький росчерк
В яблоневом чистом саду,
В глупеньких березовых рощах...
ЛЯГУШАЧИЙ ЗАКАТ
Оранжевый остов солнца тает, как островок
Мороженого в чашечке кофе,
И комариная туча беззвучно танцует рок,
По спирали смещаясь навстречу своей Голгофе
В гл;тках летучих мышей. Кружева грибниц
Накапливают волю к выбросу спор и шляпок,
И паломник-туман, расстилая бороду ниц,
Отстраняется от любопытных ветвей и – лапок
Пограничных созданий, уделивших по полхвоста
Экстрасенсорике и афанасьевским сказкам,
На всякий случай не открещиваясь от креста,
Но тяготея к инфернальным глазкам и маскам,
Пока закатный стиллебен, уверенный, как иудей –
В непогрешимой точности масоретских писаний,
В пророчестве рос и вьюнков, рассеяно ждет своей
Бури в стакане,
В качестве коего выступает лесной пруд,
Где, лопаясь пузырьками от влажного нетерпенья,
Клиросы лягушачьи накануне дождя орут,
Компрометируя знаменный и особенно партесное пенье.
В СУББОТУ УЖЕ АПРЕЛЬ
В субботу – уже апрель,
А сегодня еще только среда,
И котам аккомпанирующая капель
Не оставляет и следа
От тропарей, что выводила метель
На схимничьих куколях льда.
Но время густеет, как стена,
Для-под образы фряжского письма,
Чьи запертые в вязь имена
Дополняют нимб, как бахрома
Талеса Господня, к нему же жена
Истекая кровью, припала, как тьма
Припадает к свету. Грачи
И прочие тридцать девять птах,
Жаворонками повыпорхнув из печи
Стряхивают крылышками языческий прах
С эзотерики, канувшей в ночи
При первых апостольских лучах.
Зеркала из снежна серебра
Метампсиханули в облака,
А значит – верным вербам пора
Примерять сережки из пушка
И притчу, коей Елеонска гора
Окропила Христовы века.
ТЕРЦИНЫ К ИСХОДУ ЛЕТА
Наперекор бензиновым законам
Экуменического вертограда,
Кузнечики стрекочут под балконом.
Холодноватая досада града
Творит свой невостребованный орос,
Понеже туч клубящееся стадо,
Пониже приникая вдоль простора,
Никак не разродится дождевыми
Метафорами моря. Ночь, что штора,
Висит над градом, не спросив ни имя,
Ни род занятий бледного светила,
Похожего на сыр. О серафиме
Мечтающий клобук митрополичий
Не знаменует истину средь пыла
Лукавых францисканских околичий,
А тянет Третий Рим в тенета уний,
Пролив дохалкидонские чернила
На хартии ортодоксии. Юний
Брут, свой брутальный умысел свершая
При помощи осенних новолуний,
Надеется на теплый угол рая,
Но папство не простит ему беспечность.
А русских скворушек цветная стая
Из времени выклевывает вечность
И помнит Тверь, в Египет улетая.
КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ
Творя судьбу с усмешкой и печалью,
Хохол торгует керченской эмалью
И блестким дачно-баночным стеклом
По два-три литра. Ласточки крылом
Обводят контур завтрашней погоды
По трафарету скромницы-природы,
Не забывая в святцы заглянуть
И встретить Ильин день. Двухрядный путь,
То бишь Калужское шоссе, шалея
От роли подмосковного хайвэя,
Задумчиво вонзает свой шампур
В ломти низин и бирюзовых шкур
Некошеных лужаек. Чинный “Опель,”
Не разбирая - в Азии, в Европе ль
Он мчится - проверяет свой кардан
О русскую идею. Несмеян-
Царевен и тем паче - недотрогу
Уже не встретишь больше всю дорогу
По-из Азова в Вышний Волочок:
Таких не лепит больше русский Бог.
А чтобы вышла истинная дама,
Не хватит у славянского Адама
Ни долларов, ни ребер, ни орбит...
Кто ж новую Россию нам родит?
САД КАМНЕЙ
… а сад камней бесчинствует сугубо,
Загнав в углы малину и берсень,
На чахлый контур будущего дуба
Отбросивши мистическую тень
С гностическим подтекстом. Хризантемы,
Над эзотерикой качаясь, как
Калужский пересказ японской темы,
По-дзэнски истолковывают мрак
В коанах колорита. Плеск корыта
И ржавый скрежет ключевой воды
Творят избыток аппетита быта
К познанию символики звезды
Неисчислимо-лучевой. У лужи,
То бишь у пруда – нет важнее дел,
Чем пояс ряски затянуть потуже,
Обозначая западный предел
Эстетной юрисдикции Востока,
Чьих фениксов тяжелое крыло
Над герменевтикой Всезряща Ока
Повеяло сквозь мутное стекло
Бинарной этики, то бишь – морали,
Лилейной, аки северная ночь,
Пока ее еще не замарали
Чалмы, тфилины, куколи и проч.
ФОТИНИН САД
...а фотининский Garden нам машет
С гексаграммы куртинок своих
Веерами иссохши ромашек
И иссопами облепих,
Окропляющих кроткую память
Благодатью калужских святынь.
Душный вечер всё думает: падать
По-в объятья китайчатой инь,
То бишь ночи - иль мирно согреться
Под крылом задремавших ворон.
Ранних звезд радикальное средство,
Помогающее испокон
От печали и скуки - на это
Лето, видимо, в отпуск ушло -
И Вселенная зрит, как фасето-
чное око Творенья. Тепло -
Благодать, только зноем не пышьте,
Поддувала июльских минут,
А не то Гильгамеш с Утнапишти
Нам пол-Библии перевернут,
Разогнав по семитским квартирам
Архетипы готических стад.
Но сегодня мы миримся с миром,
Жжем лампады и любим котят.
НЕ ПОШЕВЕЛИВ
Ветер общается с домом глоссалией двери
И сонорными окликами окон,
Не спрашивая – какой конфессии верен
Твой культурологический кокон,
Заваленный авторами «Соборян» или «Консуэло»
И иными руинами обморочной морали.
Прежних этносов разбухшее тело
Становится слишком просторным для духа печали
И покаяния. Читать – означает верить
Ветерку над речными заводями или хотя бы
В архетипы Дюма или ст;венсовский вереск,
В коем наверняка водятся экуменические жабы
Ци Байши или Хокус;я. Аскеза пространства
Есть лишь сгусток пустот, вперивших одна в другую
Изнемогшие от постоянства
Глаза мумий, озарявших двадцать вторую
Династию, выдавившую космические мутанты
Пирамид из базальтовых плит Гондваны,
Чтоб воплотить оккультные таланты
В Тан;х ли, в петергофские фонтаны
Или иные способы убедить реальность собора
В ее нереальности пред исихастской зарницей
И станцевать ритуальные фламенко и хоро,
Не пошевелив ни ногой, ни ресницей.
ИСПОКОННАЯ ОГОРОДНОСТЬ
Наконец-то зацвели кабачки,
Так что даже не потребны очки,
Чтобы заметить их китайчатый свет
Средь банальных допетровских примет
Испоконной огородности. Стриж
Пробривает в бороде туч для крыш
Подходящее местечко, когда
Отбегает от «Форд;», показа-
вши вишневой подзаборной листве
Иероглиф своих челюстей. Две
Обладательницы щедрых шести
Дао дачного – точнее, Пути
Собирателе-копательниц, встав
Паче всяких блок-постов и застав,
Заполняют изобильем телес
Весь проезд между заборами, в лес
Взор вперив – и, подбоченясь, как ферт,
Ждут: не прет ли мейстер Рубенс мольберт,
Чтоб с Кустодиевым этаку цветь
Каллип;гственную запечатлеть.
ВООБЩЕ
Это вообще не порог,
А лишь поперечина вдоль.
Кружится над Русью снежок,
Память умягчая и боль.
Скудная щепотка крестов,
Храм под образа и гробы.
Кроткий вертоградик готов
Для обносков русской судьбы.
Верный, помолись и простись.
Тёплый - отойди от свечи.
Здесь все слёзы капают - ввысь
Даже в беспробудной ночи.
Утлые метафоры тел,
Души - вплоть по крылья - в грязи.
Это - никакой не удел,
Да и вообще не Росси-
я, а средь святынь и камней
Канувшей Руси бытиё,
Как напоминанье о ней,
Или обещанье Её...
ЗИМНИЙ ЖАНР
Снег, выпадающий из рукава
Языческия Навны-Несмеяны,
Мерцает пред звездою Рождества
С почтительным раскаяньем. Туманы
С метелями спасают Третий Рим
От обстоятельности телекамер
И трупных пятен запустенья. Дым
Вдруг воспарил из труб да так и замер,
Не долетев до неба и разма-
завшись по фризам, ризам и карнизам.
Дома утилитарного письма
От лени часто путают верх с низом
И вскидывают крыши из-под ног
У беженцев, бомжей и безработных,
Предъявленных, как сумрачный итог
Эпохи храмостроя. В подворотнях,
В бестеневой тени пивных ларьков
Ещё толпятся брежневские типы
И шевелят бровями. Медный зов
Цветной церквушки, прячущейся в липы,
Благоговейно-плавен и тягуч,
Как скрип оси, приписанный к телегам.
И дискос солнца, вырвавшись из туч,
Являет граду дар причастья снегом.
УТРО
Утренний воздух хранит очертанья фразы.
Малых голландцев цитирует черепица,
А цапле на стенке совершенно дзэновской вазы
Нет более важного дела, чем биться
Протягновенным клювом о вектор рассвета
На циферблате блаженного бесчасья,
Означающий, что в будущее улетела и эта
Корпускула счастья.
Ресницам всё ещё жаль делиться взглядом
С пространством, наскучившим трапезе и одежде,
Ибо два сердца в вечность стучатся рядом -
Близко, как никогда прежде.
И, головку Предвечного Отроча склоняя к возглавью,
Слышит лишь кроткая Донская икона,
Как долго по ним звонит неотвязной явью
Колокол телефона.
ЛАД
Черное с красным - это всегда нарядно,
А иной раз не грех согрешить и белым.
А древлеправославное рядно
Не любит щеголять ни синюжным, ни подгорелым
Буро-землистым, прилипшим к фряжской картине
С притязательным титулом охристой лессировки.
А глубинкогубернской льняной холстине
Всё это не с руки и не по сноровке,
Понеже рукомесло ткачества и крашенья
Суть отражение седмикратной трехцветности яви,
А вовсе не пустое украшенье,
Чей произвол каждый явить вправе,
Ибо аленькими краями праславянского архетипа
Можно обрезаться преизрядно, даже до крови.
И узор для наличника, что липа
Для горницы и трапезной припасла наготове,
Есть лишь прикровенный генезис солярного мифа,
Прочитанный стамеской и экзегетом рубанком.
И даже гоголевский обитатель Кифа
Мокиевич, страдающий нераденьем к чиновным пьянкам,
Камнем лежит на краю сюжета, а значит - задан,
Предопределен, как зерну и снопу - солома,
Словно язык - колоколу, словно кадильнице - ладан,
Лад задающий пестрядине русского дома.
;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;; ;;;;;
БАПТИСТЕРИЙ
В баптистерии, в коем Владимир Святой
Восприявше крещение, превзыде к горнему благу,
Херсонесские нимфы осеняли своей наготой
Ничесожепопираемую влагу
Православных аналогов миквы. Кротких диаконис
Ничтоже смущаху плотяное преизобилье,
И цареградский, прилетающий с юга, бриз
Хлопал ветрилами и вещал скоромные были
О гетерах и грациях. Славянская борода
Смиренномудро курилась вкруг эллинска подбородка
И первокрещения благодатная борозда
По целине язычества прошлась до поры кротко,
Дабы потом взять под уздцы времена,
Епископским посохом настучать по идольской роже
И в днепровской пучине омочить Перун;,
Так и не выплывшего на вопль: «Выдыбай, боже!»,
Ибо колода – колода и есть. Подол
Не воспрезрел роль просторной духовной аптеки
И киевская фаза, подобрав дебряный подол,
Следом за князем перешла из варяг в греки,
Чьи сократически профили с бортов босфорских ладей
Оценивающе зрят на новую паству Царьграда.
И малые дети, восхныкав из-под славянских грудей,
Уже составляют избр;нное Божие стадо
Работников пятого часа, что омыли крещальной струёй
Душу, гор; восшедшую, генофонд святорусской дали,
Взялись за сошники и крест понесли, и свой
Обетованный динарий от Воскресшего восприяли.
СТИХИРА
Егда же возлепечут камыши
И храм изронит отсвет в окоём -
Твори стихиру на восход души
И осветляй пространство бытием.
Аскезы пир свершая гнилью фиг,
Бес;м безделья нанеси урон,
Душой истаевая каждый миг
На глас “Христос анэсти эк некрон”.
Тот старец, что тебя благословил,
Обноски плоти дотрепал о быт.
Благоуветлив глас древесных бил
Смиренье “Филокалии” творит.
И дух воспомнит мироносиц, чей
Извол о Господе благословен
И миром востекающих лучей
Смиренно помазует дольний тлен.
Прииди, припади, благословись
У ангела, на камени седяй.
Воскресший сочетает даль и высь
С пространством, утекающим за край
Теней тельца и льва, орла и ан-
гела, что к чаше жизни притекли.
И кровь Христова, каплюща из ран,
Небесная являет на земли.
РУССКОЕ МОНАШЕСТВО
...а русское монашество, седяй
В лесех и дебрех, на холмех и в блатех,
Ратует с бесом в византийских латах
И ждет тархан на рыбно-пчельный край,
И кротко вышивает себе рай
На саккосах парчовых и заплатах
Отшельничьих дерюг. Оратай ор-
ет свою ниву лемехом Микулы
И чтит - на случай - леших и шишиг.
А наставительный монаший хор
Снетком и снытью утруждает скулы
И верой освящает каждый миг
Стоянья на гранитах Калевалы,
Стязанья в дуплах Мокши и глухой
Завологодской Валгаллы. Анналы
Заполнит отошедший на покой,
А воины Христовы бьют клюкой,
Прокладывая новые каналы
Для благодати. Снясь себе самой,
Власть всласть бренчит в полушки и кимвалы
И посылает новых колонис-
тов в нимбах и подрясниках по паству:
Да наречет духовный верх и низ
Бродяге, плотогону, землепашцу,
Что наполняли стомах и уста
И всяки звуки брали на поруки -
А словно и не жили без креста
И скитской церкви у речной излуки.
ДОЙДУТ
- У этих русских - каменные ноги! -
Любил алеппский дьякон повторять.
А православный люд, радя о Боге,
Ломился индульгенции скупать
У архипастыря и патриарха
Антиохийской церкви. О, соблазн,
Как в житии подвижника помарка,
Зело коварен и разнообразн.
...Пылают свещи и глаза, лампаду
Горячим постыжающи огнем.
Отстой-ка семь часов на службе кряду
И заполночь изыди, как ни в чем
И не бывало. На морозе хворост
Трещит и лопается. А народ
В заиндевелых храмах горний орос
Пред ликами творит - и от невзгод
Уходит в пустосвяты и святые,
Смирение надменное творя,
Под паруса, на коих Парусия
Всем показует Горнего Царя.
О Русь! Сретай Его и на осляти,
И на хоругви, и в ковчеге, и
В любой из оболочек благодати,
Что явлена в смиренном бытии.
Не подводи итоги на пороге,
И Божий суд не дми из книжных груд.
И впрямь, у русских - каменные ноги:
Что б ни было - они к Христу дойдут.
НЕСЕДАЛЕН
Знаю стол локтем, знаю путь мерой,
Знаю смерть жизнью, знаю ночь - днем:
А Христа - сердцем, а Христа - верой,
Той живой правдой, что горит в Нем.
Все стези святы, все пути правы,
По каким, Благий, Он ведет нас:
Христос - Бог верных, Христос - Царь Славы,
Христос - Смерть Смерти и души Спас.
Господи, искупивший ветхоадамлю природу,
Иисусе Сладчайший, восшедший за нас на крест;
Христе Господень, в вино претворивший воду,
Сыне Пречистой Владычицы, Невесты Невест;
Божий Агнец, паки грядущий со славой,
Помилуй при грозном конце мирови и Руси
Мя недостойна, погрязша в скверне лукавой,
Грешнаго паче всех - прости и спаси.
Так далек Петр Твой, так тяжел камень,
И трещат ребра, и ослеп глаз:
Но в душе - вера, но в душе - пламень,
Не огонь - искра, но и в ней - Спас.
Спасе - хлеб духа, Спас - вода жизни,
Спасе - День судный и благой час;
Пусть иссоп рая и на нас брызнет,
Пусть зерно Царства прорастет в нас!
Святый Моисея от пучины чермноморския избавитель,
Боже, Первопричина тварей и зданных миров,
Святый Лазаря четвертодневного воскреситель,
Крепкий Заступник, прибежище и покров;
Святый Параклет, Утешитель-охранитель,
Бессмертный Податель неизреченных даров -
Помилуй истомленных в житейской борьбе
Нас, с верой притекающих к Тебе!
ПОД ЗВОН
Под звон новогодней капели,
Затеплив евангельский свет.
Мы свечи зажгли и запели -
Последний раз в тысячу лет.
Прощально трещала лампада
И Лик проступал на доске,
И радовалось Божье стадо
На древлем святом языке.
И мир, непотребен и тонок,
Стекал стеарином с луча,
И рвался паршивый ягненок
Прочь, наземь с Господня плеча.
И звезд вавилонская стая
Творила пророческий блуд.
Господь восскорбел, отпуская
Сидевший у ног Его люд.
А те отошли без печали,
Как быть пред концом суждено,
И новые мехи прорвали,
И пролили наземь вино.
И капала вечность, отбросив
Благой покаянья удел -
Но чашу под капли Иосиф
Подставить уже не посмел.
ЛАЗАРЕВА СУББОТА
Лазарева суббота.
Жизнью процветший труп.
Радости Божья нота,
Грянувшая из губ
Гроба. Гортань пещеры
С горним обручена.
Утро Христовой эры
Падает, как пелена
С плоти воскресшей. Богу
Недостижимого нет.
Что же пролег к порогу
Теплых холодный след?
Славься же, вера вознесших
Души свои горе!
Первенец из воскресших
Прообразует Воскре-
сенье Святое Христово,
Сшествие Бога в мир.
Или он ждет иного -
Первосвященничий клир?
Небытие - как хвороба.
Что ж не преклонят колен
Возле разверстого гроба
Все двенадцать колен?
Каждый гордыней ранен,
Или не им, не о них
В чуде явил Назарянин
Древлепророческий стих?
Cкоро Голгофа треснет,
И Воскресивший днесь
Лазаря - Сам воскреснет,
Аки Благая весть,
Что да пребудет вовеки,
Дондеже грянет Суд.
Аще смолчат человеки -
Камни возопиют!
ПРАВОСЛАВНЫЙ ЭКСТРИМ
Леденящее таинство зим
И грехов неизбывная яма...
Как суров православный экстрим
В исполненье отцов Валаама!
Как вериги, раскинь по плечам
Исступленной аскетики звенья:
Поревнуй фиваидским отцам
И затми их изволом смиренья!
Возмоги же мольбой утеплить
Злой гранит за крысиной норою.
Три тресочки да чахлая сныть -
И на братию станет с лихвою.
И на зябкой крещенской заре
Восприяв дуновение рая,
В лютый сивер забудь о костре,
Пламень веры в душе возгревая...
Не поймет кальвинист записной,
Не постигнет папитсткое брюхо
Ни свободы от плоти такой,
Ни такого парения духа,
Если Карьялы рунный гранит
Не поманит к окольным дорогам,
Если только душа устоит,
Как свеча, предстоя перед Богом.
ПАСХАЛЬНАЯ ХЕРУВИМСКАЯ
Отцу Иоанну, сослужащему литургию
Пасхальной заутрени в храме, что полон, аки фиал,
Народ постигал ногами поствизантийскую хрию
И дориносимаго Бога восславлял.
И како бы дух злобы поднебесныя ни носился
По-оболонь цицита дождящих небес,
Господь все равно плотию и кровью пресуществился,
Господь все равно воскрес.
И в тихом приделе Сергия, в онь же вхождаху
Многая от смиренно-благочестивых мирян,
Воск оплывал, и навстречу второсодомскому праху
Ладан курился росен зело и медвян,
И в алтаре, как у крещальной купели
Или в пещере, возгревшей спасенья огонь,
«Сей день, его же сотвори Господь, - пели, -
Возрадуемся и возвеселимся в онь!»
И вся, яже емляху статус беззакония и порока,
Отступало куда-то за порог, за паперть, за край,
И с кудрявыми эстетизмами нарышкинского барокко
Наушники и сотовые сочетались только давай.
И птахи за окнами, поеживаясь до дрожи,
Поглядывали из несвитого гнезда
На мир, который не токмо творить не может,
А ничего не стоит без Христа.
САМОН. ГУРИЙ. АВИВ
Ноябрь, пятнадцатое. Житие
Самона, Гурия, Авива. Время
Скользит по православной колее
И чинностью смиренья держит стремя
Рождественскому древлему посту,
Что, как архиерей, творит объезды
И смоквою сухой торит мету
К Вифании и кладезям Вифезды.
Но русским первопуткам свыше дан
Дар сотворять прямыми Божьи дали.
О бытие, сойди во Иордан
И восприими новые скрижали
И вновь разбей их о смиренье лжи,
Творящей возлежание у храма...
Уже легли превечные межи,
Уже радеют мастерки Хирама.
Но у спасённой ризы русских нив,
У самого пророческого края
Стоят Самон, и Гурий, и Авив,
Крестообразно тенью осеняя
Славянский дол и неба отголоски,
Где муж с женою, как сестра и брат,
С Исайей ликование творят
И Господу радеют двоеплотски.
НЕДЕЛЯ О ФОМЕ
О Фоминой неделе бытие
Вновь прободает саван туч свинцовых
И Рана, что пробило копие,
Перстов взыскует дерзких Близнецовых.
Неверие благое вновь творит
Исконный чин и ;рос уверенья
И уроняет на весенний быт
Онтологическое измеренье.
Христос воскрес! К чему еще слова,
Когда точит спасенье Божья рана
И провещает вечное листва,
Как лепет тростников у Иордана.
И рыба, взяв динарий, бьет на дне
Хвостом о явь томительно иную.
Блаженны, кто уверовали, не
Исследуя, не льстясь, не испытуя!
Днесь доверяйте Господу – и тьма
Отступит, покорясь Фаворску свету!
Но – он простер персты свои, Фома,
Бессмертье смея осязать по эту
Сторону смерти. И Творец сфирот
В гордыню искус праху не вменяет
И, взяв звено печеной рыбы, сот
С улыбкой всепрощенья преломляет.
CКАЛЬНЫЕ МОНАСТЫРИ
На седой скале одиноко иконе
И поют свой истовый греческий стих
Семеро монахов на мраморном склоне:
Четверо пришли попроведать троих.
- Господу поклонимся пылко и строго,
Господу помолимся в каждый свой час
И постом прославим Распятого Бога,
Чтобы в третий день Он воскрес и о нас.
Пронеслись османы с кривым ятаганом,
Мученичьей крови хлебнула земля.
Семеро монахов стоят над туманом,
Вечными губами едва шевеля.
- В кесаревых градах и Божьей пустыне
Воспарят над явью воскрылья креста.
Господу помолимся присно и ныне,
Господа восславим изломом хребта.
Ласточки, смежая крыла на излёте,
Лепятся к киновии, вгрызшейся в склон.
Семеро монахов, совлёкшихся плоти,
В тонцем сне стоят над распадом времён.
- Вызрел и опал виноград в вертограде;
Господу помолимся в лепете дней,
Чтобы Он помиловал явь свою ради
Семерых, колени склонивших, теней.
Но хрипит гора, оседая в ущелье,
А зерно горчичное выспрь проросло.
Каны Галилейской благое похмелье,
Помнит ли Жених роковое число?
СОБОР ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
С предрождественского понедельника
Пост вступает в крутые права
И лампада сочится с сочельника
Неотмирным лучом Рождества.
И, воздевши препоны суровые
Для метельных взлохмаченных грив,
Веют ладаном лапы еловые,
Вифлеемский вертеп учинив!
А в Собор Пресвятой Богородицы ,
Души высветлив пред бытием,
Прочитаем акафист, как водится,
Величальный тропарь воспоем -
И, вдали от содома московского
У купели, врачующей быт,
Строгий лик Серафима Саровского
Над Россиею выспрь воспарит,
Ибо, как византийские златницы ,
Не разменянные на рубли,
Две пророческих пятидесятницы
С николаевской службы прошли,
И теперь у канавки -околицы
Рима, внявша душей Рождество,
Предстоят они вместе и молятся -
Император и старец его.
ЛАМПАДА
Я люблю, когда лампада горит
В целомудренной немой темноте
Там, где таинство, вкрапленное в быт,
Отражается в смиренном ломте.
От волюмов византийских витий
Веет славою босфорских когорт.
И димитриеростовских житий
Налиставшись, освященный кагор
Размышляет над афонским постом
И соблазнами аскезы. Извол
Ни греха не оставлять на потом
Благосмыслен, как герондов глагол,
Но не слишком исполним. На душе
Созерцательно молчит чистота
И смиренство агиасмы в ковше
Продлевает лунный блик вдоль поста.
Иоаннова Орла лунный клюв
Свиток патмосский простер на Москву,
И котенок, к бальзамину прильнув,
Подмяукивает Маркову Льву.
ИЕРОМОНАХ РОМАН
Како велегласно звенят
Гуслицы, гитара, тимпан!
Грянь на аскетический лад,
Иеромонаше Роман.
Странникам твоим ждать нельзя –
Утренняя свежь хороша:
В Иерусалим их стезя,
В горний вертоград их душа.
О, не становись на постой
В сонном монастырском тепле...
Хватит о Руси о святой:
Нет ее на этой земле.
В путанице кутов и скал,
По-под перекарк воронья
Бог ее окликнул и взял
С хартии благой бытия.
Двое по-на ложе лежат,
Грёзой досягая высот:
Сей благовосхищен и взят,
Долу оставляется тот.
Что ж, тори стезю, коли чист,
Чужд мельканья дат и утрат!
Время и пространство, что лист,
Кротко за спиной шелестят.
Что им суета-пустота,
Апокалиптическа ночь?
Только бы о посох Креста
Душу оперети возмочь.
Что пред сим келейная рать
И геронтов благоуветь?
Век бы в Ершалаим шагать,
Век бы «Херувимскую» петь.
Век бы претворять бренну плоть
В дольней покаянной пыли:
А и не сподобит Господь –
Слава за всяк шаг, что прошли.
ВО ХРАМЕ
Фрагмент недогоревшия свечи
Неотвратимый, словно продразверстка,
Обстриг необожженные лучи
И спрятал их обратно в кокон воска.
Латунь, почти соскучившись блистать
В ответ на взмахи крестного знаменья,
Накапами облипла – но опять
Присутствует при таинстве успенья
Заката. Два архангела у врат,
Преграду копием воздвигнув сквернам,
Не реют, не стоят и не парят,
А присносущие являют верным,
Притекшим в день воскресный восприять
Ушами и сердцами херувимску
И утешительную благодать,
Востекшую к смиренну третьеримску
Протопресвитеру, дондеже он
Радеет о благоприятном лете
И, с проповедью вышед на амвон,
Являет гомилетику в расцвете
Мистических возможностей ея
В практической проекции прихода.
И брызги чистых слез, как чешуя
Пяти Христовых рыб, блестят у входа.
НА ТРОИЦУ
На Троицу, отринув все печали,
Сочились благодатью небеса
И батюшки среди берез вещали
Троической керигмы словеса.
Пол в храме, свежескошено-медвяным
Душистым травостоем чуть присы-
пан, помогал зажить душевным ранам
И покаянно перевесть часы
На пору до грехопаденья. Слезы
Не из очей струились – из души,
И стройные послушницы березы
К хоругвям прислонялись, заверши-
вши оросы предхристианской сходки
И поклонясь Христовым образам,
И старчиков друидские бородки
Признав разгром свой, жались по углам.
О, древлего язычества отдуши-
на, в храме намекнувшая молян!
Тебе не уловить обратно души,
О чем изрядно рек Тертуллиан.
Хоть он под старость уклонился в ересь
И смерть приял вне Троицких берез,
Он славно послужил Христовой вере
И безупречный томос произнес.
Он прав. А богомолки-переростки
Из храма, аки неку благодать,
Приносят освященные березки,
И - грех язычеством их попрекать,
Понеже храмов парусная крыша
Кресты возносит встречь Троицких гроз,
Понеже вся Христом, Им же вся быша –
И Троицкое листвие берез.
ОЛЬГИН ДЕНЬ
Рцы убо, стих, о том, как в Ольгин день
Под вязами у Тихвинского храма
Монахине Евфимии не лень
В калужску церкву средь столична срама
Сбирать благочестивый лепет лепт,
Звенящий у кладбищенского тына,
Которым вновь крещаемый адепт
Творит почетный для христианина
Чин подаяния. Земля, как торф
Суха, бомжам готовит изголовье,
И зарубежник пастырь Мейендорф
Взыскует в византийском богословье
Ответ о будущем. Вороньих стай
Боятся прихворнувшие крысята,
И столиком нефритовым Китай
Вскользь намекает, чем же столь богато
Культура чайных церемоний в той
Благой цивилизации довольных,
Что у стены великой под пятой
Не вспоминает о слезах и войнах,
А чайничает чинно и легко
В эстетственном и чопорном апломбе.
И доме, новописьменной ико-
ною торгующей в стеклянном ромбе,
С вполне благонамеренным лицом
Взирая на патлатых старцев Дао,
Предметным православным письмецом
Не бросить тень на Цинь и профиль Мао.
НА ВОЗДВИЖЕНИЕ
...а бальзамины, вставши напоказ,
Посредь неканонического сена,
Собой являют некий парафраз
На тему вертограда заключенна,
То бишь земли в горшке. Осенний мир
С рамен роняет лиственну хламиду,
А мурсия мурлыкает, и мирт
Ничто же уступает сладку виду
Земли обетованныя, где лавр
Толико прытко зной взрезает тенью,
Что никакой сорбоннский бакалавр
Его не упрекнет в нехватке рвенья
К спасению заблудших, что стопы
Истерли о лохмотья разговора
И за молитвой совлеклись с тропы,
Петляющей по склону то ль Фавора,
То ль Елеонския горы. Горшок
И пилий аскетическая стая
В поддоне клонится на правый бок,
Опять Крестовоздвиженье сретая
Листвой девятой пересадки. День
Свой ворот жертвует подолу ночи
И, ежась, умаляется. Варень-
ем ставши, яблоки лежать охочи
В стеклянных капсулах небытия,
Янтарничая с сахаром и медом –
И реденького дождичка струя
Индикту наливает с новым годом.
ПЕРВЫЙ ЛЕД
В сонных рощах, что творят лицедейство
Проор;нжевинкой лисья хвоста,
Начинается сакральное действо
Предпокровских листопадов. С листа
Подметающими долы ветрами
Лихо сыгранная фуга – плывет,
Подпевая еврипидовской драме
Просветляющих лице свое вод,
Ибо струи, собираясь надолго
Отдохнуть под профетическим льдом,
Нестыковку изволенья и долга
Поначалу переносят с трудом,
Но затем, надвинув колкую кожу
По-на блики зябких зорь тут и там,
Сонных сомиков почти не тревожат
В формазонских ложах их донных ям.
Старый ясень, пунцовея кроваво,
Снова сетует, прощально-речист,
Что старинный водевиль ледостава
Снова ставит режиссер-модернист.
Потому-то, отправляясь в дорогу
По житейским и мистическим льдам,
Мы помолимся Воскресшему Богу
И Николе Фавматургу. А там…
МАСЛЕНИЦА
...а масленица - антигастрион,
То бишь противочревие Страстной.
Аскезы назидательный закон
Уже подъял суровый посох свой,
Но не коснулся им святых снетков,
И творога, и сливок, и сыров.
Чревоугодия лукавый ков
Плоть православну борет будь здоров.
И, символы языческой весны,
Солярной метафизике верны,
Со сковород срываются блины,
Как псевдонимбы грешной старины.
И обитатели хором и хат,
Как римляне, нелегши на обед,
Обряды заговения творят
Куда прилежней, чем поклоны пред
Святынею любого ранга. Блин
Еще не прорицает скитский пост
И телеса не колет, аки клин,
Но помогает предпочесть погост
Всем прочим христианским местобы-
тельствам. О вы, капуста и грибы!
Как важно ваши властвуют гербы
Над током православныя судьбы.
О, утешенье дедушек и дев -
Как благостен прощальный сей талан:
Креститься, наспех пальцы утерев
От масла и языческих сметан!
ВЕРБНЫЕ ПОЧКИ
… а постны дни влачатся по цепочке,
Творяше покаянье по погоде.
А всех нетерпеливей – вербны почки,
Зане провозвещаху Вход Господень
Во град Йерусалим. Бутоны ваий
С древес и душ отъемлют все печати –
А мартовские дни порхают стаей,
Отхлебывая капли благодати
Из ковшика Крестопоклонной. Чашей
На хартии небес творятся знаки;
И паки сходит Иисус Сладчайший
На ;клики акафистные, аки
На жест души, отринувшей земная
Для горняго на торжищах и гумнах.
И вера, ничесоже опаляя,
Горит в лампадах дев благоразумных.
И, плотского совлекшись одеянья
И выжигая грех духовным пылом,
Мария и Андрей творят стоянье
Пред Троицей-Единицей над Нилом
Или над грешной Яузой, что воды
Под вязами встречь Пасхи катит сонно,
Наморщивши бензинные разводы,
Как прорись нимбов будущего сонма.
13 МАЯ. ПАМЯТЬ СВ. ИГНАТИЯ БРЯНЧАНИНОВА
И опять опушились березы,
И ольха к фоминой неплоха,
И античные метаморфозы
Распирают амфоры стиха.
И душа, как рука на отлете,
Дирижирует фугой судьбы,
Мерзость тела и мистику плоти
Сопрягая прощально. Грибы
Для берсерков и русских вещуний
Лето выдавит длинным лучом
Из зеленого чрева июня.
А сегодня – Игнатий, чей том,
Научая искусству аскезы,
Смотрит косо на дело Петра –
Парики, табакерки, портшезы,
Аки кесарева серебра
Схизматический символ. Тюльпаны
Ждут, как Лазарь, четвертого дня,
Нидерландских каналов туманы
В желтых чашечках хрупко храня,
Как пасхальные яйца живые,
Словно то из небесной дали
С Русью Матушкой все святые
Похристосоваться пришли.
ПАМЯТЬ СВВ. ОТЕЦ
ШЕСТИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ
(хвостатый сонет)
Итак, сегодня празднуем отцов
Шести вселенскиих соборов. Рынок
Изнемогает от севрюжьих спинок
И нежинских засольных огурцов.
Учительный Григорий Богослов
Высокая глаголет, ибо – инок,
А первый взмах отлетных паутинок
До Ильина уже творит свой зов.
Задумчивый китайчатый фарфор
Бывает розовым и золотистым.
ОМОН слегка шмонает черноту.
Русь под гору летит во весь опор,
И стыдно быть удачливым и чистым,
Вслед за голодным уходя по ту
Сторону века. Семинарский дух
Подрясником лужковские асфальты
Смиренно подметает вдоль старух,
Вперяющих очей поблекши смальты
В мертвящий карнавал небытия,
Хранящий хиротонию Содома,
И дразнит гадаринская свинья
Народ, что всем чужой и всюду дома.
ЗИМНИЕ АЛЛЮЗИИ
Зима звенит от льдяной ностальгии
И ежик в норке, льнущей к корешку,
Свято-Василиевой литургии
Средь летаргии внемлет на боку.
А скоро Афанасий и Кирило,
Приметопочитание творя,
Буйнобородых заберут за рыло
Последним из морозов января.
И желтые синички, словно жилли,
На крест препархивают со креста.
Хвала Христу: они опять дожили
До звона капель о начал поста!
О, таинство воспоминанья тварей
О Творческом исходе естества!
Как светел православный бестиарий,
Дондеже сорок мученик Сев;-
стийских на Русь все сорок птах сбирают,
И те, явивши коптский пилотаж,
О хлопья тучек крылья вытирают,
Усевшись, как саврасовский стаффаж,
На штриховых каркасах для пейзажа,
Еще не воспочувствовавших сок
В ветвях, чья троицкая распродажа
Пока еще не назначает срок.
И птица журавель, под стать подпаску,
Что целый бор за тёлкой исшагал,
Не знает сам: поторопить ли Пасху
Иль попросту расширить ареал?
ЖЕЛТЫЕ ТЮЛЬПАНЫ
Устав благоухать и усяпусить,
В грозу забрел по плечи пыльный сад,
И желтые тюльпаны, словно гуси,
Головки опустили – и шипят
Метафорою запаха. От вязов
Лучи заката длятся, как усы,
И котик, как Алеша Карамазов,
Грозит вкусить копченой колбасы
И молока, ничто же ся смущаху
Дня пятницы-распятницы. А май
Благоговейно помогает праху
Травою прорасти, соделав рай
Из щебета, сиреней и кануна
Николы Вешнего, в его же честь
На колокольнях истово и юно
Клепают и звонят во что где есть.
И редкая канва густого звона
Спешит вплестись в российский Internet
И души уловить сквозь уши. Моно-
Или полифонический мотет
Гармонизированных гласов – долог,
Как путь в благочестивые края,
И первый шмель отдергивает полог
Обратной перспективы бытия.
ФАРИСЕИ
Созерцая забытые портреты
И все то, что с Россиею воскресло,
Время ставит табу на табуреты,
Подставляя развалистые кресла
Под усталую плоть. В седом опале
Проступают разводы римской славы.
Подсознанье, цепляясь за детали,
Убеждает, что мистики неправы,
Полагаясь на штайнеровы бреды
И отринув евангельское чудо,
Ибо жизнь – натюрморт для Класа Хеды
Или Снейдерса в крайнем. Впрочем, груды
Битой дичи дичатся неба, ибо
Там, где миги облеплены веками,
Преломленная Иисусом рыба
Воскресает и плещет плавниками
Перед верными, в Авраамле лоно
Устремившими путь в благое лето –
И стоят фарисеи изумленно,
Оторвавши очки от Internet’a.
БУТЫЛКА
Бутылка, опрокинутая на
Под антиминс косящую скатерку,
Пресуществленье хлеба и вина
Почти воспроизводит. Только корку
Догложет Достоевский таракан
Лебядкинскими челюстями. Прочерк
Или туман на месте прежних стран
Глаголет, ярко резче и короче
Стал стук тройной шестерки без числа
В те самые ворота золотые,
У коих падший ангел, рыцарь зла,
Близ есть, при дверех у пути России,
Пока не освященным не дано
Свет истинный познать без осязанья,
Пока еще не высохло вино
На скатерти двойного подсознанья
И гости, подходящие к столу,
Не пропускают ни глотка, ни куса,
И Спас Нерукотворенный в углу
Глядит на мир с авгарева убруса;
И бремя Его свято и легко,
Как трепет вод купели в Силоаме,
И караван верблюжий сквозь ушко
Бредет, тряхнув горбами и грехами.
ТАКУЮ ВЕРУ
А мы еще зачем-то существуем
(Жизнь - что угодно, только не игра!)
И руку у священника целуем,
Господень крест литого серебра
Влепляющего в губы нам. Благие
Примеры подаются влет и вплавь,
И чудо византийской литургии
Спасает от бессмысленности явь
Со всеми бантиками экзегезы,
Культур и знаний отрясая прах.
А быта деловитые протезы
Ломаются, скрипя на виражах
Апостольской догматики. Монеты
Звенят и каплют в кесарев простор
И предстоят суровые аскеты
Лобзательницам либидо в укор
Пред лепетом лампад на пепелище -
А первым под спасительную сень
Проходят забулдыга или нищий
И дети выморенных деревень
Или разбойник, что, превзыде меру
Пролития кровей, спустил опять
Курок - и вдруг обрел такую веру,
Что и в семи скитах не отыскать.
МОЛИСЬ
Кого простить за то, что нас простят,
Кого просить, чтоб нам не отпускали
Без покаянья весь греховный чад,
Без искупленья - гордые печали?
Но вновь и нарочит, и пресловут
Обряд радения о судном часе...
Восстань, душа! Что спишь? Тебя зовут
Все восемь гласов, все Три Ипостаси.
Внимай, пока молчат колокола,
Молись, пока не возжжены кадила -
И да лежит стезя твоя светла
По камени и стеблям сухобыла.
Кого Господь упас, кому - открыл,
Кого - взлелеял в горнем вертограде.
У русской веры слишком много крыл,
Чтоб ползать долу кесарева ради.
То ледяна душа, то - горяча,
Святыни быта возложив к порогу.
Молись! И да горит твоя свеча,
Незрима людям, видимая Богу!
;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
2006
СТАРАЯ ЦЕРКОВЬ
Церковь с разбитым куполом - памятник немоте,
Приговоривший к себе Третий Рим и четвертую Трою,
И островок окрестности, тоскующий о кресте,
От него не открещивается каркасами новостроя.
А сноп рассветных лучей, означающих благодать,
Проскальзывая по обезглавленным главам,
Выводит знаки, которые одинаково тщетно писать
Компьютерным картриждем и писарским полууставом.
Но их читает пристально, как вещую лепоту,
Сквозь мерзость запустения и полынной метели
Девочка, словно Русь, стоящая кротко по ту
Сторону крещальной купели.
И прямо над срезом купола, вспарывающего мрак,
Чтоб воссиять нимбу архангельского ореола,
Пролётное облачко над ним зависает, как
Ангел-хранитель престола.
Ах, малышка, разгляди его тень в тиши,
Вверенной скверной этому чистому мигу,
И первой молитвой душу свою впиши
В свиток благоволения, в Голубиную книгу,
И сердцем восполни пепел, пробел, проём
В храме пространства под скинией голубою -
И, словно слепой старец за чистым поводырём,
Осквернённая Русь пойдёт к Христу за тобою.
НИОТКУДА
В этом окне державные фижмы движутся,
Две девчушки и котик наклоняют
Над бабушкиным вязанием и ворчанием
Махаоновые банты и смех,
Крутогрудый лакей церемонно вносит поднос
С кофе и коричными марципанами
(Ах, как они аппетитно погромыхивают -
Эти чашечки, забрызганные поповским ляписом!),
И чванный обладатель Владимира с мечами
(Вероятно, отставной столоначальник
Или губернский предводитель дворянства)
Присаживается на канапе, оставив в прихожей
Восклицательный знак шпаги.
А из глубины, из-за фижм и бантиков,
Кованые шандалы протягивают зрачкам
Пучок света (странная реминисценция из Тарковского),
И тень предводителя с бакенбардами
Зависает на нём где-то по эту сторону
Оконного переплёта, покачиваясь,
Точно шинелишка Акакия Акакиевича
Или летучая мышь, препарированная славными
Нигилитсами-шестидесятниками,
И обретает собственную реальность,
Ничуть не менее реальную и самодостаточную,
Чем это окно, памятью бреда наполненное
И вставленное в явь явно в хрущёвском
Крупнопанельном малогабаритном стиле,
И гардины, из простуженной Турции
“Челноками” в обход чичиковских таможен
Безукоризненно завезённые,
И грохот гусарской мазурки, грянувший
Совершенно из ниоткуда.
ТРОЕСЛОВИЕ О ВИДЕНИИ КРЕСТА
I.
Кованый тяжкий крест держал на ладони
Тихой свечой истончающегося, кающегося сна -
А рядом и сквозь меня всхрапывающие кони
В небытие втаптывали тени и имена.
И знаки от их подков сыпались, метки и мелки,
И воин в сияющем, пристален и крылат,
Вокруг креста моего, словно вокруг стрелки,
Вращал и раскачивал сумрачный циферблат
Пространства простёртого, что будет во время оно
И обрастёт подробностями чертогов, профилей, крон
Во исполнение взмаха реющего хитона,
Который расправит Он,
Когда настанет срок совершиться моей мере
И, узнав её между облаков и гранитных плит,
Строгий конец креста, искупивший Адамов череп,
Неотвратимой стрелкой мне повелит
К вещему Свету обратить дух и ресницы,
Плотью своей заполнить цифири предвечный излом
В Книге Живота - и помолиться,
Чтобы тень моя не обернулась звериным числом.
II.
...и крест, собрав мои пальцы, именословье составил,
И свет глаголющий брызнул и упразднил бред.
И вопросил я словом: - Продлить ли скудель моей яви?
И он отвернулся и не сказал: “нет”.
И шар моего оклика прокатился пустынным долом
И отпрянули корни, и расступилась вода.
И воспросил я духом: - Отвержен ли я пред Престолом?
И Он обернулся и не ответил: “да”.
И снова к ногам моим припали камни и травы,
И сквозь меня потянулась иного времени нить,
И Он, словно луч, втянулся в мандалу славы
И перестал быть.
III.
И циферблат пространства качнулся и замер,
Не дописа в вечности росчерк земных орбит.
И выпустил из всех своих сотов, соборов, камер
Время трёхликое, хохочущее навзрыд.
И первый лик вдруг ощерился бесоподобьем,
И, отстранившись, спрятался в медленный снег,
Второй приложился к кресту воспалённым взлобьем,
Но от сияния задернул гардины век,
А третий распался от мерзости и проказы,
Как древняя книга - на безымянность глав,
Оставив лишь губы, хранящие контур фразы:
“Смертию смерть поправ.”
И я узнал в них голос и жест мой трехперстный,
И душу свою бросил средь бездн и круч,
Не смея и вожделея ощутить, как кто-то под крест мой
Подставит крыло и луч.
ТВОРЧЕСТВО
Творчество. Тяготенье твари к Творцу.
Исступлённо-покачивающееся тяготенье лунного блика
К соловьиной Селене. Склонность духа помочь лицу
Облачиться в обличье лика.
Склонность склона сложить с себя гипотенузную стать
И распасться на катеты. Склонность мимозы
Изскорлупным комочком бытия цыплячьего стать
И заполнить зияющие петушиные позы.
Склонность солнечных коллапсов к чёрной дыре.
Скользкая склонность текучей будничной даты
К Пасхе и хиджре. Тяга к талесовой Торе
Омофорной Септуагинты и сандалиевой Вульгаты.
Тяготение ласточек, праведников, рун, жест
К неслиянному утопанию в жизнедарном чуде,
Ибо явь - только творчество, только дерзостно-детский жест
Уст, восславивших Возвестившего миру: - Да будет.
В ДОЖДЬ
Пахнет грозой. Пучеглазые лягушата,
Из травы вылетая, плюхаются во грязь,
И дождевая мистерия ушата
Булькает, аки Соломоново море, творясь
На опушке насупротив невозрожденной часовни
И недостроенного новорусскими монастырька.
А совята – полуденные сони –
Цепко прячутся в кронах сосняка,
Являя собой негативную компоненту
Богозданной гармонии ежей, хвощей и опят.
И даже прискорбность, что белых давно нету,
Не слишком мешает любоваться сквозь водопад
Косыми мазками акварельного импрессионизма,
Ухватившими радугу, брошенный трактор и ЛЭП,
И порицаемый модус пессимизма
Пред толикой нерукотворностью нарочито нелеп.
Старых лип травогубительна крыша
Чин протекания с неохотой творит в пыли,
И Тот, Кому молятся «Им же вся быша»,
Явно благоволит ко всему, яже суть на земли,
Яже зрит в небеса благоговейно и добро,
Омывая под ливнями всяческий прах и грех,
И липа, на чьей доске воссияет Его образ,
Иссопствует на путника и смиренствует паче всех.
СТАРАЯ ВЕРА
Из вечности повычленить часы,
Презреть стязанье духа через брюхо
И никогда не бывшие усы,
Як сичовик твой, закрутить за ухо.
Петр преуспел в цирюльной рати, но
Скоблено рыло не достоит пети –
И чистой старой веры толокно
Молчит у врат империи, как дети
Наоборот. Клубится борода,
Дрожит двуперстье, сочтены застежки –
И в них-то и цветет твоя беда,
Понеже не пути, а токмо стёжки
Остались древлеправославным. Ной
Куда как меньше вытерпел в ковчеге,
Чем миллионы русских на родной
Земле. В заморской расписной телеге,
То бишь карете, мест бородачам,
За вычетом архиереев, нету.
Лишь толерантность, вемая лесам,
Спасает от царевых сабель эту
Цивилизацию мартиров за
Осьмиконечный крест над куполами
И демество, от коего глаза
Слезой раскаянья вскипают сами.
Ономнясь был ты русским. А сего-
дня – бессловесный раб царя земного,
И немчура, обставшая его,
И знать не знает истиннаго Бога,
Превознося Кальвина и папёж,
И вся лукава, еже на погибель.
А ты отвергни лютерову ложь
И грех крещеньем огнепальным выбель.
Оно конечно – как поволит Бог,
Зане несть власти аще не от Бога
Но пуст старообрядческий итог,
Как горница без окон и порога.
ПАПА-БАЛОВНИК
Что спорить? Бах воистину велик,
Ключ Моисеев средь земной юдоли.
А Моцарт – просто папа-баловник,
Болтающий ногами на престоле
Петра, то бишь – Орфея. Унисон
Монашеский, цифрованно-тягучий,
Спасительно невыносим. А он –
Наместник Бога на земле созвучий.
Архиепископ Зальцбургский! Куда
Твоя кипа и посох перед этим
Явлением пылающего льда
В его метафизическом квартете!
Он – папа Римский музыки. Ему
Подвластны все миры ее и недра.
О, он непогрешим, отринув тьму
Перед пюпитром, сиречь ex cathedra.
Он сам себе и камертон добра,
И модус зла под градусом масонства –
А он давно бытийствует за гра-
нью свято-грешного иерихонства.
Масону благочестие к лицу:
А он творит мистерию разгула
И век сдувает пудру, как пыльцу,
С охрипшего от праведности дула
Его кларнета. Заполночный пир
В салонах кайзеровских – vanitatum
Et omnia... Оркестр суть чинный клир,
Не рвущийся подыгрывать солдатам
Посредством флейт. Мистический парад
Его судьбы к лицу любым эпохам.
А гроб его пустынствует: он - взят,
Как Илия со праведным Енохом,
Туда, где, прославляя Божий суд,
Он изливает Небо из валторны,
И ангелы бесплотные поют
Его смычку и терциям покорны.
КЕЛЬТ МЕНДЕЛЬСОН
Друид в дубраве бродит, как в вольере,
Граничащем с кристаллом кельтских вод,
А Мендельсон в Фингаловой пещере
Мистерию филидов познает.
Магические кельтские туманы
Рой сидхов обступают с трех сторон,
И волны, словно гордые фианы,
Накатываются на Альбион.
Любви благословенная скорлупка
Все мечется на вспененных валах,
И все земное сладостно и – хрупко,
Как замки, обратившиеся в прах.
Сын Богоносца, ну, на что вам кельты
С их голодом и сладостью утрат?
Пускай себе донашивают килты
И на волынках плачут и хрипят.
А вы стоите на осколке лета,
Божественно продленного в века,
И верите в призвание поэта
И нотный стан, и таинство смычка.
Писать музыку – заглушать обиду,
Гармонии и предков внемля зов,
И подражать смиренному Давиду
Псалтырью и орудием сынов
Кореевых. Небесную науку
Постигнете вы кротко, как Орфей:
Когда же Б-г сестру возьмет – вы руку
Ее не выпустите из своей.
И коль судьба сочтет поспешно годы
И хором проречет заветный край -
Кельт Мендельсон отыдет в край свободы,
Где дышится как на горе Синай.
;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
2007.
КАНТ НА НОВЫЙ ГОД
Благая новогодность бытия.
Сфинкс мнит брататься с кельтским Альбионом
И стройным кабальеро под балконом,
Где мечется севильская змея,
То бишь куница. Снежность в три ручья
Ползет по долам сонным и зеленым,
И воспрещает всем иноплемённым
Мощами и былинами Илья,
Его же память ныне. Вонифатий
Освобождает православных братий
От змия, что зовет их на погост.
И мир, как на рождественской иконе,
Где реют ангелы и вьются кони,
Смиренно кроток и блаженно прост.
НЕ УБОИМСЯ ВЕЧНОСТИ
Не убоимся вечности: она
Со всей своей тревогой и морокой
Нам Господом Распятым суждена
И потому не может быть жестокой.
Смотри, как пламенеют письмена
На корешках суровых книжиц рока
И память повторяет имена
Пришедших от заката и востока,
Чтоб послужить Воскресшему. Афон
Вливает масло в скудные лампады
И – с пиргов воспевает тирирем.
И капают с конца копья времен
Руины драматической Эллады,
Чей эйдос дионисиевски нем.
МЕТАФОРА ЛАМПАДЫ
О чем же нам печаловаться? Мать
Пречистая простерла свой мафорий
Над перепадами афонских взгорий
И тьмой пещер, вместивших благодать
Пустынников и праведников, рать
Бес;в поправших, чин святых викторий
Творя под шелест благостных меморий,
То бишь житий. Четвертая печать
Отъята с хартии небес. Пера
И книг не ищет постнический быт,
Трезвенье бы в нем только не угасло!
А над обрывом Симонопетра
В метафоре светильника горит
Метафора оливкового масла.
ЛИШЬ В ПУДИНГОВОЙ АНГЛИИ
Лишь в пудинговой Англии и воз-
ле кельтского воинственного сна
Возможны Гластонбери и война
Алой и Белой роз.
Лишь то, что совершится не всерьез,
Достойно затереться в письмена.
Эстетика аскетики смешна,
Как сочетанье благочинных поз
И танца у шеста. Про Шестоднев
Приятнее читать в томах для дев,
Где вычищен натурализм и зверства.
Но как быть с теми, кто бегут аптеки
И почитают парус паче пэрства,
Предпочитая жизнь библиотеке?
ПЯТЫЙ ДЕНЬ ПО РОЖДЕСТВЕ
И даже в пятый день по Рождестве,
Завязшем в пошлых протестантских сказках,
Снежок не прокатился по Москве
В своих метафизических салазках.
Хрустящей сменой климатов траве
Так сладко отражать в лосиных глазках
Свою готовность к росту пяди в две
И у зайчонка числиться в подпасках.
Когда мороз в Крещенье ни при чем,
Придется только лазерным лучом
Обозначать на озере купели
И в оных освящаться в три погру-
женья и обтираться на ветру,
Преследуя аскетственные цели.
СВЯТОЙ
Люблю хрусткоклюквенность державинской фразы
И предрождественский испоконно-постовый дух,
И покупаю иконы лотами, как алмазы –
Четыре восемнашки на десять маслух.
Не втуне радели деревенские богомазы
И бисер из кучи выцапывал прыткий петух:
Некий святитель, хватопосохий и строгоглазый,
Предстоит перед благоговеньем старух.
Надписание стерлось. Суровый лик кракелюры
Испещрили толико, что даже страшно дохнуть,
Аки на ватные одуванчиковые поляны.
Но это ¬¬- святой, сиречь ¬– преоборенье натуры,
Святой, коему истово маливался како鬬-нибудь
Майор, уезжая за смертью в Ляодунские гаоляны.
В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК
В крещенский вечерок грешно гадать
И светской мисс, и девке из народа:
Днесь самоосвященья благодать
Нисходит на мятущиеся воды
Или китайские пруды, чья гладь
Есть сопряженье мистики природы
С ея смиреньем. Горняя печать,
Смеживши эстетически эподы
Последних эллинов с судьбой изго-
ев с Храмовой горы, в даосском го
Прообразует камень, что поставлен,
Как глыба аскетического льда,
Изъятая из центра иорда-
ни в мире, что не сотворен, а явлен.
ЦВЕТ БЛАГОУВЕТЬЯ
Лишь вычитав акафист Серафи-
му, батюшке Саровскому, поймешь,
Что таинство тропарныя строфы
Есть цвет благоуветья, а не ложь
Многоглаголанья. Поток графи-
ческих лубков гуляет Русью сплошь,
И век, тяжелый, как полет дрофы,
Пред каменем его склоняет рожь.
Сподобясь зреть воочию Христа,
Он предстоял здесь тысячу ночей,
Молитвуя по византийской хрии.
Но царство обуяла суета:
Лишь тот и прав, чье слово горячей,
Не мня ни о Творце, ни о России.
БОГОЯВЛЕНЬЕ
Се – Богоявленье явилось, а
Горсть снега на Москве и за десятку
Хрустящих евро не купить. Трава
Исламскую выстреливает прядку
Из русских сухоглинков. Естества
Слепой конфуз не призовешь к порядку:
Русь только усмехнется, но сперва
Потянет потаенную закладку
Из ветхой летописи. ...В оно лето
Зимой вольготно бяше враньим стаям:
Тела не изочтет и вруцелет.
Архангел протрубил. Прошла комета
Русь вновь виляет пред Ниппон с Китаем...
Вот и гадай. А снега нет как нет.
ПРЯМОЙ ПРОБОР
Прямой пробор. К.Р, воспев сирень,
Грустит, по клавикордам приударя,
И голубые очи Государя
Из¬-под пробора зрят расстрельный день.
Терпеть уставши женину мигрень,
Уездный лекарь ждет партесных арий
И, редковласье нафиксатуаря,
Мсье Северянин длит поэзой лень.
Прямой пробор – струенье бытия
По волосам, из коих ни один
Без Божьей воли не уйдет седин.
Но большевистский щелкает затвор
И падают великие князья,
Расчесанные на прямой пробор.
ЭБРЕ
Пока еще духовному гербу
Приличествуют линии и блики,
Пока Орфей, пеняя на судьбу,
Шлет терции за тенью Эвридики –
Напрасно сетовать на ворожбу
Всея пантеистическия клики,
И бесполезноклювый марабу
Вещает, что прекрасны и велики
Не пирамиды и не мастаба,
Не царства, отступившие, как зной,
Не хладный лазурит и царский локоть,
А лишь картуш смеющегося лба
Эбре, что встала к западу спиной
И уронила в Нил свой влажный локон.
ВОРОБЕЙ
Воробышек, усевшийся на иву,
Ли Бо воспоминает наяву
И, подражая ханьскому наиву,
Косит на васнецовскую Москву,
Где древлеб;шенье стоит учтиво,
Купая отраженье стен во рву,
И пара тощих коз неторопливо
В протале под Крутицей мнет траву.
Гонец, худую шапку изломив,
Спешит домчать письмишко Шуйских до
Хор;м Голицыных или Хованских.
А воробей, порхая под обрыв,
В пристройке патриаршей вьет гнездо
И не робеет прав своих цыганских.
ДУШУ И КРЫЛО
...и оседлав конец карандаша,
И распластавшись в звуковом полете,
Молись, покуда теплится душа
В блаженном гипсе и лохмотьях плоти!
Погрязший мир, к дню Судному спеша,
Лампады робко держит на отлете
И все равно не стоит ни гроша
При окончательном – за все – расчете.
И ты, касаясь кранов, кандий, клавиш,
И расправляя душу и крыло,
Перед судьбой разъятой не слукавишь,
Когда, подъемля руку тяжело,
Сам тем карандашом на ней проставишь –
Христов ли крест, звериное ль число?
А ЕСЛИ
...а если нас с тобой приговорят
К изгнанию, как древле – афинян,
Жалеть не станем плохоньких палат
И ареала языка, что дан
Скорей как калькулятор славных дат,
Чем как посредник на торгу славян,
Поскольку мехи старые заплат
Не выдержат, как говорит Еван-
гелие. Полно, братья ль нам они –
Болгары, македонцы, ляхи, чехи –
Сплошь приниматели лакейских поз,
Что спасены Россией в прежни дни,
Но меч на нас подняли – для потехи
Или с британским Трайдентом – всерьез?
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
А Университету чтить не лень
Среди академической нирваны
Шувало-ломоносовский сей день
Святыя мученицы Татианы.
Масонам новиковским сладко всклень
Тисненью предавать свои романы
И в православный свет вперять ту тень,
Что на плетень хлысты и басурманы
Любили наводить. Как ни крути,
Литературу чтит лишь профессура,
Какой не актуален адюльтер.
Но вытоптаны прежние пути –
И мечется студенческа натура,
И вспоминает фетовский пример.
СПАС
Уральский Спас с латунной кроткой врезкой
Страстныя Богоматери – глядит
На мир, что обметен исламской феской
И втоптан в скудный пенсионный быт.
Размытость яви вожделеет резкой
Стать – и, как статный жеребец, летит
Вслед за кобылкой смысла. Но железкой
Подков отнюдь не он один подбит.
Урал добыл и руд, и самоцветов,
И выплавил латунь, и лик Христа
На липовой дощечке написал –
Но вскорости отрекся от обетов
И императорской семье в уста
Стволом Иудино лобзанье дал.
ДИАКОНИСЫ
Се – сан диаконис. Кувшин вина
И стройный лад в девичьем скромном хоре,
И Свете тихий, выпитый до дна
В Христовом аскетическом просторе.
Се – мощи приютившая стена
Средь катакомб в языческом узоре:
Блюди их, как блюдет цветы весна,
Прозревшая новозаветны зори.
Ну, что ж, что муж твой – сотник – убиен
В парфянском, в македонском ли походе,
Иль от кавказских варваров распят?
Ты ж пред Христом не распрямляй колен –
Ни при каких гоненьях и невзгоде
Не покидай свой хрупкий вертоград.
НУМИЗМАТИЗМ АПОСТОЛЬСКИХ ВРЕМЕН
Куда вы затерялись и иссякли,
Аки елей в лампаде средь икон,
Ассарии, динарии и сикли –
Нумизматизм апостольских времен?
Священное вино, прокисший сок ли
Пролит на ваш серебряно-червон-
ный аверс? Се – пук византийской пакли
От пыла блика вашего зажжен.
И вот горят, как факел, города,
Где вы ходили, капали в карманы,
Потея у блудницы за щекой.
А днесь, перечеканясь в никуда,
Звените в галилейские туманы
Или летите на пол в храм чужой.
ЛАПИДАРНОСТЬ
Учись быть лапидарным. Скромный грек,
Не варварствуя роскошью словесной,
Зиянием лакун украсил век,
В котором обитал в лачуге тесной.
Култышки растоптыжистых калек,
Спешащих к храму за лепешкой пресной,
Не меньше выразительны, чем бег
Нимфетки, досягаемо-прелестной,
А потому нетронутой. Сей щит
Пред океаном и перед людьми
Не всуе славу Спарте возгремит.
Ты ж ляг на нем иль вознеси на нем
Дориносима ангельски чинми –
И честь не обойдет твой род и дом.
АЛАВАСТРОВЫЙ СОСУД
Се – радея о злате и о блуде,
Мiр сквернил свои души и тела.
Но – жена в алавастровом сосуде
Драгоценное миро принесла
И, служа Воплощенному о чуде,
На главу Иисуса возлила,
И сребро, вожделенное Иуде,
Претворила в небесные крыла,
И власами отерла Ему ноги,
Робко встав на спасительном пороге,
На который апостолы взойдут
Через крест и кровавый пыл металла –
А она как к ногам Христа припала,
Так и ждет с упованьем Страшный Суд.
ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ ЦАРЕГРАДА
Скольженье косопарусной фелюки
По золоту Босфора. Тишина
Богооставленности. Мамелюки,
Развесившие Божьи имена
По смальтам Агиа Софии. Звуки
Архангельского тирирема на
Слепотском фоне папския науки,
Что на протестантизм обречена,
А потому подыгрывает туркам
В их споре с православием креста
И, как пахан недосидевшим уркам,
Желает скорой встречи. Но уста
Аскетов шепчут тайну по конуркам
И – провещают днесь возврат Христа.
ВРУБЕЛЮ
Откуда ваш фасеточный мазок,
Похожий на мятущиеся очи
То ли Ильи из Мурома, то ль Пана,
Засевшего в ракитовый кусток?
Пока ваш взор майоликой потек,
Холопка с грустью на пороге ночи
Врубала врубель в груду домотканой
Холстины, и, молясь на образок,
Пугалась шороха в сенях. Как страш-
ен ваш в штрихи вперенный карандаш,
Слепой обломок мирозданной глыбы!
И Демон, воспрезревший Божий пир,
Поверженно глядит на дольний мiр
Раздутыми глазами тухлой рыбы.
НИКОЛАИ
...а все же русскому царю нельзя
Быть Николаем, ибо это имя –
Прерогатива батюшки Николы
Или хрестьян за плугом, чья стезя,
Вдоль по Святой Земле Руси скользя
И перемолвливаясь со святыми,
Воспроизводит Божии глаголы,
Молясь о всех и ратуя за вся.
Нарекся Николаем – побеждай
Британцев, нигилистов и Сарай,
Понеже ойкумена и плерома
Державою Российской стать хотят,
А нет – ответ твой примут тайный яд
Или подвал Ипатьевского дома.
АФОН
Афон, не испивающий воды,
Ниж; ракии вплоть до литургии,
Свершает аскетически труды,
От коих мнози иноки в России
В смущение приходят. Се - плоды
Плакучия маслины наливные
И таинство Давидовой звезды
На смальтовых ступенях Византии.
…Дослушать службу, снесть святую снедь
И благодарственный псалом воспеть,
И – унести стопы под сень развалин,
Где бывый скит не погрузился в быт,
И нецый старец, присно достохвален,
Встав на молитву, над скалой парит.
ЯН ВЕРМЕЕР ДЕЛФТСКИЙ –
«ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ СЕРЕЖКОЙ»
Чтобы зачерпнуть бытие
Кистью, мастихином и плошкой,
Выпроси у Бога ее –
Девушку с жемчужной сережкой.
Выпроси, как чистый глагол,
Чтоб она, Кальвина послушав,
Вымыла и ставни, и пол,
И твою усталую душу.
Лед по-вдоль канала коньки
Весело расчертят и скрипнут,
И менял пустые зрачки
К гульденам и шиллингам липнут.
В пухлые, как бочки, тела
Пиво извергается, пенясь,
А она сидит у стола –
Виргина, Вирсавия, Венус.
А она молчит, как порыв
Тьмы в пустынной кирке стать светом,
Арку робких уст приоткрыв
Верой, обещаньем, запретом,
Чтоб не осквернил блудодей,
Спуску не дающий и дочке,
Вечность, заключенную в сей
Хрупкой, как любовь, оболочке.
Суета сует влет и вплавь
Тщетные справляет законы.
Камерою обскурой явь
Заперта в холсты и картоны.
Спрятавшийся в празелень мха,
Амстел перед биржей немеет,
И ночных дозоров труха
К жемчугу пристать не посмеет.
Горлинка сидит на шесте,
Небо расчертивши круженьем.
Господи, за что красоте
Искусом служить и спасеньем!
И покуда мечутся дни
Между святостью и оплошкой –
Ангельским крылом осени
Девушку с жемчужной сережкой.
СОНЕТ НА СТРАСТНОЙ ВТОРНИК
Слуха Твоего мним досягнуть мольбою
И о Твоем имени скрещиваем пути.
Господи, се предстоим пред Тобою,
Уповаем на Тя и веруем Ти.
Вся, елико исхищрено лукавой судьбою
И забылось в соблазнах – не вмени и прости,
И душу омытую птицею голубою –
Горлинкой чистой в дольний мир отпусти.
Скоро Ты хлеб и вино соделаешь Кровью и Телом,
И праху в преторию позволишь Тебя отвести,
Аггелов легион не испросив у Отца.
А души наши останутся в мире осиротелом,
И от Креста незримо не восхотят отойти,
И – аще позволишь – при Гробе пребудут с Тобой до конца.
ЛЕВИЦКИЙ -
«ПОРТРЕТ Ф.П.МАКЕРОВСКОГО»
Ах, Левицкий, на что вам шум петровский,
Плеск кормил и заздравный треск петард...
Как утешен ваш пане Макеровский –
Карлик, умница, шляхтич и бастард!
На иных преизлито полной бочкой
Благолепье фортуны и Творца,
А у Фавста – ни статного росточка,
Ни имений, ни пассий, ни отца.
Итальянцы белькантят кантилены,
Росски рати виктории творят –
А его прелюбезные Милены
Засадить в табакерку норовят.
Злы прелестницы токмо сердце губят -
Что там турская сабля да свинец!
Но одна и такого восполюбит
И пойдет с ним, сияя, под венец.
Сельской жизни дворянственное лоно
Восприемлет нехитру благодать –
А уставы Адамова закона
Сладко с волей Купидо исполнять...
Но за то не для каждого урода
Выпадает воинственная честь
Быть осколком двенадцатого года
И Отечество жизни предпочесть.
Но Господь не возьмет ее до срока,
Как под пули ни суйся сгоряча,
Чтоб судьбы благодатная морока
Берг-директорским чином увенча-
лась. Скорбей душеспасная короста
Соскребется о крышку гроба, а
Там мы все одинакового роста...
Фавст преславный, верны ль сии слова?
ИМЕНА АЛЛАХА
О, имена Аллаха! Паруса
Святой Софии горбятся под вами –
А вы в веках змеитесь письменами,
Преиспещряющими небеса.
Миров и царств померкшая краса
И Византии гордостное знамя –
Все кротко в прах поверглось перед вами,
Не высыхающими, как роса
На минаретах, ятаганах, пушках,
Взметнувшихся неверным на погибель,
Доколь не грянет очищенья срок:
И дремлет в мусульманских завитушках
Бог, созданный раввинами в Йатрибе,
Куда свою хиджр; свершил пророк.
ТАТАРСКОЕ ОБСТОЯНИЕ
Конь, искры высекающий копытом,
Промежду княжеств ноги метит врозь.
В татарском обстоянье московитам
Совсем не худо, надо быть, жилось.
Лампады жечь и утешаться бытом
И смазывать грядущей славы ось –
Куда изрядней, чем возлечь убитым
В доспехе, иссеченном вкривь и вкось.
Плати ясак и чти баскакску гнусь:
Держава предстояща оправдает
Просчитанную низость суеты.
Но чудотворцы молятся за Русь
И дляордынский выход оседает
В раздутых мехах внуков Калиты.
ПИГВИНИЙ ИСХОД
Сложите свои кисти, богомазы,
Олифою покрывши райски виды:
Се – кроткие пингвины-скалолазы
Восходят по гранитам Антарктиды.
Куда Господь ведет их, словно Моше,
Бродившего по пустошам Синая,
Пославши им лишайники поплоше
В обетованье будущего рая?
Куда они воспростирают шею,
Глазенки от земного отрешают
И воздеянием рук; своею,
То бишь косыми ластами, свершают
Жертву вечернюю? Бог весть… Кого-то
Тропинки эволюции учили.
Сакральным суррогатом перелета
Исход их длится стадии и мили,
Скрывая тайный смысл свой от смиренных
Пушистопешешественников. Льдины
За спинами их рушатся мгновенно,
А их влекут голодные долины
И чувство упоительной обиды
На смутного предшественника Феба,
Что небо много больше Антарктиды,
А Некто Всемогущий – больше неба,
Которое лучится, словно призма,
И радужными п;зорями длится,
И сумрачной аскезой альпинизма
С пингвинами не устает делиться,
Чтобы они, родов смежая звенья
И рваные защипывая раны,
Стезею смутной Божьего веленья
Брели к своей Земле Обетованной.
КОТЯТА
Котятушки в продольную полоску,
Само собою, серые, как сон,
Привыкнувшие к ладану и воску
И созерцательным очам икон,
Взлетающие мигом на березку,
Чтоб замереть над рубежом времен
И доказать соседскому подпёску,
Колико бесполезно злится он -
Те самые котята, из Египта
Принесшие дохристиански были
И прыткие, как греческий огонь,
Уселись на обрезе манускрипта,
Парное молоко почти допили
И – подставляют лобик под ладонь.
ВОЗВРАТ БОГОВ
Вам поднося на блюдечке сонет
О ежиках, о кошках, о бельчатах,
В тени мифологических побед
На всяческие храмы тороватых,
Я вам скажу, что в Божьем мире нет
Их – мстительных, рогатых и хвостатых,
И зря пророков вдохновенный бред
Их обличает в книгах и аятах.
Но наступают голод и чума
Или реформа веры и письма,
И крокодилы пучатся на Ниле –
И боги с песье-птичьей головой
Спешат воспеть атлантовские были
И заглушают человечий вой.
КОДРАНТ
Если нет в мошне ни копья,
Если в сердце – тьма воронья,
Остается лишь уповать
На схоластику бытия,
Лазуритовую печать
С теограммой «Эшер Эйя»
Тяжко вдавливая опять
По-в палитру шумерских глин,
Чтоб развеять аккадский сплин
И пред тем же богом предстать
В новых ризах. Брачный чертог,
Чей хозяин властен и строг,
Ждет гостей, почтивших края
Ветхих царств и древних дорог,
Где несут телец и свинья
На заклание хвост и рог.
Так ступай, раздобудь кодрант,
Вознеси молитву Творцу,
Раствори в пространстве талант,
Извлеки вино и овцу
Из материи невещест-
венной плоти и света зари,
Воздеянья бескровный жест
Перед Господом сотвори,
И под сенью смокв и олив
Возгревай покаянный пыл,
Чтобы был Он несправедлив,
Но услышал тебя и простил.
ЧАСЫ-ВЕСЫ
Ах, вам сонет угодно? Но о чем?
О даме в изумрудном платье – или
Волынщиках, которым нипочем
Шотландские кельтические были?
Мерцает мох, добро ведет со злом
Священный спор, воздев атлас воскрылий,
И в стены древних замков напролом
Въезжают модные автомобили.
Не правда ль, время – странные весы –
Устало взвешивает все подряд:
Гербы, гетер, горгульи и гербарий.
Но бьют на башне ржавые часы,
Остановившиеся век назад,
И оживает рой забытых арий.
«АЛЕКСИЙ ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ, ПИШУЩИЙ
НАПИСАНИЕ ЖИТИЯ СВОЕГО»
Помолимся: лампада ведь горит,
Молитвенник раскрыт на возглашенье,
И пахнущий грибом и редькой быт
Глаголет о посте и о смиренье.
Мой Бог, как Божий человек стоит
Перед скамьей – и в покаянном бденье
Суд на собой творит ненарочит,
И у Благого Господа спасенье
Вымаливает. Веруй, яко он,
Молись Пречистой ради – не для вида.
И будешь несумнительно спасен,
И сбудется реченная планида!
Не сей ли верою стоит Афон
И русска Северная Фиваида?
КАЛИВА
Зде правило долго длится
И скуден хлебный укрух.
И раз скрипят половицы –
Радеют колени и дух.
Зде веруют не о вере,
Зде ценят не лепоту:
Раскрывши души и двери,
Здесь молятся ко Христу.
Зде по византийским датам
Ночь числят и тишину:
Хоть мир за оконцем щербатым
В гордыне взлез на Луну.
Но зде, у порога рая,
Геронты свой орос творят
И, в пол брады уставляя,
Взирают на ликов ряд.
Вся будет, что может статься,
Омыется и убелит.
И ведают только старцы:
Зде с ними Он рядом стоит.
СОКОЛИНАЯ ОХОТА
Пусть с куполов облезет позолота,
Пусть мужичье сидит на лебеде:
Царева соколиная охота
Урона не должна понесть нигде.
О, древляя мистерия полета,
Купание в небесныя воде!
Се – на вабило севши с разворота,
Злой кречет клюв свой точит по звезде.
Аскетам не сносить своих вериг,
Соблазны плоти не стереть о дни
И трудно есть войти в желанный рай,
Понеже любовались и они,
Как режет лебедей царев чилиг
И дмит крыла над Яузой Ширяй.
;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
2008
ода дао
ЗАМЕТКИ В ФОРМЕ АКАФИСТА
Прекрасное не может быть огромным, во всяком случае – для японца. Прекрасное – это скорее россыпь знаменитых зернышек нэцкэ, чем монумент высотой в десятки метров. Огромное (океан) пугает и отталкивает, крошечное (островок из единственной каменной глыбы, на которой угнездилась икебана из карликовых сосен) пленяет и притягивает. Япония – единый поток культуры, почти не впадающей в элитарность и примитивизм и неудержимо тяготеющей к миниатюризации.
Это – отражение островного (ибо островов – многие тысячи) сознания в эстетике. Эстетике, доведенной до маньеристической утонченности, не переставая быть живой и дышащей, словно купол Фудзи на гравюрах Хокусая.
Ямато – уникальный сад островов посреди океана.
Ямато – самурай, делающей клетки – но не для птиц и обезьян, а для сверчков.
Ямато – миниатюризация стиха (трех- и пятистишия) с раз и навсегда заданным числом знаков. Но чем больше ограничений, тем заметнее мастерство.
Ямато – длинный блик на хамоне меча, узоры закалки на клинке которого похожи на застывший поток лавы. Первое излияние энергии произошло под молотом кузнеца, следующее – в каждом бою.
Ямато – столько же сект, сколько и кланов, и вариантов буддизма, возвышенных или адаптированных почти для каждого.
*
Японская готовность впитывать все лучшее (или кажущееся таковым) из культуры европеоидно-американтропового Запада – не знак собственной слабости и недостаточности, а наоборот, проявление глубинной уверенности в своем внутреннем стержне, древней исторической самости, которую не поколеблют никакие заимствования.
Только в Японии с ее минимумом пространства мог возникнуть такой архаический гапакс, как сумо. Сумист – миниатюризация наоборот, родовое тело клана в одной телесной оболочке, которому необходимо – или достаточно – вытеснить другое родовое тело за пределы поля боя, совпадающие с границами бытия.
Ямато – сразу несколько систем письменности, имеющих социальную, историческую и даже гендерную привязку.
Ямато – уникальность женского служения, покорность, вышедшая из чувства собственного превосходства и - забывшая возвратиться в него, залюбовавшись белой хризантемой.
Ямато – дзэновский коан, двойное пророчество действием о судьбах императорской России: меч самурая, вскользь рассекший кожу на виске будущего Николая II, и мечи пушек японской эскадры, надрубившие в Цусиме и Порт-Артуре первоцвет российского колониализма.
Ямато – самоубийство как последний аргумент в споре или при невозможности воспользоваться другими. Самоубийство, которым восхищаются и описывают, словно исполнение завета бусидо: из всех путей выбирай путь, ведущий к смерти.
Ямато – девочка, вырезающая бумажных журавликов. Но журавлики улетели, а белые шарики одолели красные.
*
Поистине уникально религиозное мировидение синто (Путь богов) с его способностью объявлять ками – одновременно божеством и обиталищем божества – и примитивные предметы быта (гребни, ножи, зеркала и пр.), и сложные философские абстракции, и даже богов чужих пантеонов. Отсюда понятна возможность объявить ками и православные иконы, что в глубинном смысле (будучи диаметрально противоположным) почти не противоречит христианскому учению.
Отсюда же – японская открытость нескольким волнам христианизации (португальцы, голландцы, иезуиты), и исступленная ярость в их истреблении. Исключение – проповедь православия, с которой в Ямато подвизался св.Николай (Касаткин), апостол и первый православный епископ Японии. Поэтому японцы нередко называли православие «Никола-до», то есть «Путь Николая» или, проводя параллель со стилями боевых искусств, «школа Николая». Никола-до подвергся суровому испытанию в годы русско-японской войны, ибо многие воины-самураи и просто солдаты, принявшие православие, оказались перед трудным выбором: что предпочесть – новую веру или верность родовым корням и императору. Но св.Николай снял это затруднение, благословив новообращенных выполнять свой долг перед императором. Может быть, поэтому японцы не добивали, а спасали раненых русских после постыдной увертюры к краху империи, сыгранной стволами японских линкоров и броненосцев под Цусимой и в Чемульпо.
Ямато – собрание мириад листьев, десятки тысяч красавиц, дюжина эпох, несколько сёгунатов и мегаполисов и одна-единственная династия, никогда не прерывавшаяся, как луч от жемчужины, упавшей с неба.
Ямато – божественный ветер камикадзе, потопивший две флотилии монголов и защитивший беззащитных воинов, чтобы те не отвлекались на внешние призраки и более целенаправленно истребляли друг друга.
Ямато – буддизм в облике Бодхидхармы, с почтительной презрительностью кивнувший богам синто и согласившийся (ради выживания и успеха проповеди) считать своих будд и боддхисатв аватарами синтоистских ками высшего ранга.
Ямато – непостижимая для европейских колбасников Укэмоти, богиня еды, существование коей можно ощутить лишь генетической памятью полуголодных, наедавшихся досыта всего несколько раз за последние двадцать поколений.
Ямато – десять тысяч (!) погребальных курганов и бессчетное множество глиняных фигур в них, превосходящее терракотовую армию Цинь Шихуанди из соседнего Китая – вечного объекта подражания, цитирования и влюбленной ненависти.
*
Феномен литературы. Мужское дело – стихи, женское – проза. Воин (даже сёгун) не мог себе позволить слишком долго утруждать кисть и, не расставаясь с вакидзаси (малым мечом), скупо набрасывал 19 (хокку) или 31 (танка) слог о чем-нибудь миопийно-медитативном, так что исписывать свитки повестями (моногатари; кстати – звучит почти как монография) и лирическими дневниками приходилось госпожам внутренних покоев.
Еще – ворота, за которыми (за исключением освященного пространства) нет ничего материального. Два столба и непропорционально-тяжелая крыша-свод, изнемогающая от груза архаической символики – вполне достаточные элементы храма, где можно предаваться созерцанию и совершать ритуалы. Это своего рода сакральный проем для входа в иной мир, аскетически роскошный аналог триумфальных арок Древнего Рима.
Ямато – архаичный запрет крестьянам вкушать мясо во время посадки риса. Но положить кусок мяса в канаву у поля, чтобы вода разносила кровь из него по всем делянкам – вполне благочестивый обычай.
Ямато – загадочные векторы миграции, приносившие на Острова избыток генофонда не только из Кореи и Китая, но и из Новой Гвинеи, Полинезии и Океании, чтобы соединить все это в фантасмагорическом синтезе цивилизации синто.
Ямато – два меча, большой и малый, первый из коих оставляли при входе в дом, а со вторым не расставались даже во время трапезы и занятий любовью.
Ямато – циклопическое явление Куросавы, кино, невольно показавшее захолустное убожество Голливуда, его априорную вторичность, особенно заметную, если смотреть с самого верха ворот Расёмон и тем более – со скалы почти у вершины Нараямы.
Ямато – Три имперских сокровища (зеркало, меч, яшма) – три стези общения с дольним и горним миром. Зеркало – отражение космоса и приглашение богам войти в зазеркалье. Меч – душа воина, молния, изливающая небесную волю. Яшма, или ожерелье – оберег, защита, стабильность.
*
Япония – попытка ворелигиозить априорно внерелигиозное сознание, создать синтез синто и буддизма, а еще лучше – универсальную религиозно-философскую «пилюлю» (по выражению одного мыслителя XIX в.), компонентами которой могут быть и конфуцианство, и христианство, и местные доязыческие верования (по принципу – «что-нибудь да подействует»). В итоге – чисто эстетический подход к религиозным обрядам: поминовение предков – в синтоистском святилище, созерцательное прикосновение к вечности – в буддийском дацане, бракосочетание – в христианском храме.
Ямато – цивилизация воинов, мечтающих одерживать победу, не извлекая меча из ножен, ибо обнаженный меч может вернуться в них, лишь омывшись кровью.
Ямато – неотвратимая (мотивированная только традицией) готовность отведать кусочек смертельной сырой рыбы и в случае неудачи перепоручить более успешную попытку своей следующей инкарнации.
Ямато –
Ямато –
Ямато –
ИРЛАНДИЯ
(вариации на форму сонета)
Ирландия! У бездны на краю
Фоморы скал стоят, роняя пену,
И в древнем друидическом краю
Геронты расширяют ойкумену
Священной Византии. Копию
Еще не срок сопроводить на сцену
Святой Грааль и предложить ничью
Паписту, набивающему цену
Своей пасхалии, календарю,
Облаткам и священнейшему тлену,
И отрокам, что, скушавши свинью,
Поют грегорианску кантилену.
Господь благословил сей хорос скал
И викингов пока что не наслал
На церкви, либереи и Заветы.
И, переписывая всё подряд,
В скрипториях писцы здесь председят,
Творя Тору по чину Кохелета.
Готт, выпростав звериный свой оскал
Из-под тиар, готовит взмах стилета,
И в Темные века вползает галл,
Иззубрив меч, забыв Господне лето.
Но кельтские кресты еще стоят,
Простерши свет Христов навстречу вере,
И чехарда держав, имен и дат
Не задевает праведника Эйре:
Молчит он, полугрешен, полусвят –
А кнорры-волки уж к нему летят.
ФРАНЦУЗСКИЙ СЮЖЕТ
Французская любовь. Расинов дух
Пропах плохим бордо и купидонами.
Маркиза-крошка мечется меж двух
Философов с финансами и женами,
Один из коих слишком толстобрюх,
Как дедов замок с четырьмя донжонами,
Другой же проигрался просто в пух
И на приданое глядит влюбленными
Очами. В католической тени
Спит монастырь (ну, скажем, Сен-Дени) –
Классицистический римейк Элизия,
И коль у девы вволю ливров есть,
Тем двум аббата можно предпочесть –
Вот слава, вот забава, вот коллизия!
8.I.
АВТОПОРТРЕТ
Всё чаще ус мочу святой водой,
Всё чаще взглядом провожу по святцам,
Явив полуаршинной бородой
Гибрид раввина и старообрядца.
Не будь Россия Русью и – святой,
Я выбрал бы иной предел, признаться –
Но вспорот пентаграммой и луной
Мир, где Христовым нечего бояться.
Ведь где-то там, на берегу времен,
Возносит крест над вечностью Афон –
Свеча, что от прогресса не погасла:
И биржевым выжигам веселей
Не станет оттого, что всё быстрей
В его лампадах выгорает масло.
8.I.
ОНЕГИН ПРАВ
Увы, Онегин прав: тоска, тоска!
История – сакральная морилка.
Но гробовая далека доска
От моего протертого затылка.
Опять настали Темные века;
Мистерия судеб творится пылко –
И в бездне торжествующей греха
Пульсирует пророческая жилка.
А Провиденье вновь Звезду зажгло –
И Рождество, как водится, пришло
И замерло у яслей на пороге:
И новые Адам и Ева вспять
Спешат переступить и растоптать
Совет змеиный: будете как Боги.
8.I.
ОБРАЗ
Мир, в коем мы гордынствуем, смирен,
Как русская холопская ливрея,
Как лязг мечей, как пение сирен
У парусов скитальца Одиссея.
Длинна и протяженна для колен
Поста исповедальная аллея:
Но что ни говори – не всё есть тлен
Средь изб твоих и спутников, Расея.
Се – бабка, улыбаючись навзрыд,
Солому для коровки ворошит,
Как при Владимире Святом бывало
И при Иосифе Ужасном. Вот
Готовый образ в старенький киот -
Да и того, пожалуй, будет мало.
8.I.
НА СВЯТКАХ
Днесь – Праздник, разрешение на вся –
От сливок с бужениной до котлеты.
Днесь, на еловых древесах вися,
Качаются скоромные конфеты.
Прощенья у смирения прося,
Бесчинствуют застольные сюжеты
И видик до поры изъемлет вся-
чески паломнические кассеты.
Христос, родившись в Вифлееме, всех
Простил и искупил за всякий грех,
Имеющий быть сотворен вовеки –
И дети, прободав небесну ось,
Несут в себе все то, что не сбылось
В ветхоадамлем смертном человеке.
8.I.
ПОКОЙ
Мир, пальцы выпростав из рукава
Скафандра, риз, хоккейного доспеха,
Креститься не спешит, едва-едва
Припомнивши апостольское эхо –
И, разменявши Слово на слова,
Творит, что повелит ему утеха
Дохристианска зверска естества –
Скорлупка плоти без души-ореха.
Куда ж пойти, чтоб обрести покой –
Не дольний дом, а келью у Отца,
Последовав обетованью Сына,
Что ждет тебя над бездной неземной,
Божественную скорбь смахнув с Лица –
Истории земной первопричина...
8.I.
СИНИЧКА
Синичка, сохрани тебя Господь
И повсезимственно, и повсеместно
За то, что не спешишь наполнить плоть,
А вмиг скликаешь свой собор поместный
Туда, из ледяного полусна
За трапезу спасительныя требы,
Где есть хоть некакие семена –
Т’бишь ваши седмочисленные хлебы.
О, ты одна не станешь их вкушать,
Зело благоуветливая птица,
Дондеже вся жовтоблакитна рать,
Сиречь собор, на зов твой не слетится.
Ты с ними о благом поговоришь,
Пушистое нахохлив одеянье,
И акт клеванья чинно сотворишь,
Как некое соборное деянье.
Аскетинки, прозябшие до слез,
Лишь старец ваш устав понять сумеет.
Воистину, и среди вас – Христос:
Он вас и пропитает, и согреет.
А воробьям – совсем иная честь;
Им не с крыла евангельские были:
Порхатые – порхатые и есть –
Не зря солдатам гвозди подносили.
8.I.
ФИЛОСОФ
Этот бородатый и лысый
полустарик в развевающемся одеянии
здоровается со многими, не замечает еще больше,
и оборачивается вослед чернокудрым девам
с какой-то особенно печальной улыбкой.
Говорят, он ритор и философ,
и может убедить даже море
следовать за ним по пятам хоть в саму
нубийскую черную пустыню.
Когда-то в самой Александрии
он прогуливался в саду с учениками,
открывая им тайны мирозданья
и умение все истолковывать седмиобразно,
но потом плюнул и на тех и на другие,
продал дом, и книги, и геммы,
и разочаровался во всём под солнцем,
ибо полюбил странную стройную девочку
с глазами, зелеными, как египетское стекло.
А когда она стала гетерой,
дорогой, как галеры из далекого Карфагена,
он больше не пожелал ее видеть
и ушел в пустыню к христианам
и прожил на воде и пресных лепешках
три года, сидя у ног учительных старцев –
но и с ними не смог договориться
об истоках и смысле светил и тварного мира,
и покинул их бескровную киновию,
став одним из тех, кого знающие называют
длинным и спотыкающимся словом – перипатетики.
Говорят, он скоро умрет,
ибо почасту плачет и заметно приволакивает левую
ногу, о которую бьется кожаная сума со свитками –
но об этом, наверное, известно только Тому,
Кому постятся и молятся покинутые им христиане,
и Кто наверняка давно простил гетеру
с глазами, зелеными, как египетское стекло.
9.I.
ВИНО
Вино, налитое в чашу и разбавленное водой
В любой пифагорейской пропорции,
Перетекает в желудок и начинает с тобой
Играть в необратимый обряд адсорбции
Дольних печалей и высокопарных скорбей,
Дабы выдавить их в незримое
Измеренье, к которому карабкается скарабей
И шуты обращаются мистической пантомимою
К захожим богам, усевшимся на алтарь
Математически выверенной Аттики,
Чтоб преподать ей какой-нибудь финикийский букварь
Или египетские геодезические квадратики,
Дабы она, былые святыни свои осмеяв
Велеречивым чином проскомидии,
Приняла Благовестие и Синайский устав,
И вкушала кальмаров, кислицу и мидии
На нестрогом апостольском полупосту,
Дондеже летаху серафимы,
Сохраняя свою языческую монастырскую красоту
Под кокетливо черно-белым куколем великия схимы,
И в уставно-лемаргствующее разрешенье на вся (оно
Поверяется собственною волею)
Вкушала разбавленное водицей Мет;ор вино
(Как и водится, три отеческих красоули, не более).
9.I.
«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО»
Икона XV в.
На царственной иконе Рождества
Так величав и мрачен скал прищур.
Иосиф внемлет тщетные слова
От старца в облачении из шкур.
Три знатока созвездий – три волхва –
Проведать о Родившемся спешат.
Над пастухами шелестит листва,
И Ирод до поры не виноват
Во избиении младенцев. Льва,
Тельца, Орла и Ангела смежив,
Младенец спит, и вечности плева,
Им пронзена, дрожит, как сень олив.
В пещере благодатно и тепло
Исполнившему вся благоприятно,
Как следствие неявленной причины –
Но золото ассиста обтекло
Древес и скал изысканные пятна
На талесе простертом Палестины:
Сие – вне воли солнца и планет –
Сияет и горит Нетварный свет,
Что осияет Спаса на Фаворе,
И мир, в гресех своих неутолим,
Торопится простерться перед Ним,
Как перед золотом – хитон лазорев.
А Он почиет кротко, как роса,
Не смеющая отразить и тени –
Но срок придет: Он разомкнет глаза
И содрогнется мир, склонив колени.
9.I.
;GYPTIAKA
Господу помолимся: здесь ведь так хорошо
творить поклоны и уставное правило:
на этом камне маливался святый Псой,
а в этой пещерке – богомудрый Пахомий,
посему и доныне тени от их стоп
согревают иззябшее, остужают пылающее.
Богу попущающу, бесу действующу,
зде мусульманские сабли порадели
и многие храмины ограбили и пожгли,
но и то ничто же успеша:
никто из отец не пожелал воспоследовать
стезей припадочного престарелого детолюба –
ни един не совлекся Господа
и все мученическими венцы увязостеся.
Куда ни погляди – всюду развалины:
коптские иерархи, закатавши в ковры мощи
великих православных святых,
почили на лаврах, от души радуясь,
что очередной османский паша
не сделал им обрезание по шею.
Господу помолимся: на едва устоявшей церковке
теплится на солнце лампада креста,
и журавли, со Святой Руси прилетая,
едва не задевают ее крылом.
Kyrie eleison: уставы греческой веры
еще осеняют бывые земли Осириса,
и Тоту с его масонским циркулем
не затмить нимбы фиваидских пустынников:
они все равно светятся наперекор
гламуру католической рекламы.
Посему станем на камень,
до левого плеча именословьем дотянемся
и восславим Господа о всех
подвижниках, просиявших в земле Египетстей
и ныне молящихся за ны.
9.I.
АЛЛЕЯ СФИНКСОВ
В бутылке минеральныя воды
Клубятся и клокочут пузырьки,
Вещая, словно некие планиды,
Что в мистику мерцания звезды
С земли вперяться взором не с руки,
А посему – потребны пирамиды,
Просчитанные с точностью богов,
Которую, как очи ни слепи,
Не превзойдешь, не выверишь вернее,
Чем сладили поклонники скотов
И птиц, постигнувшие тайну ;
Или ориентацию аллеи
Крылатых сфинксов, что, сомкнув свой ряд
С мистерий созвездий и орбит,
Чин эзотерики творя не всуе,
У неба на пороге предлежат,
Четверотварствием, вперенным в быт,
Евангельский симв;л прообразуя.
Кто их учил иную благодать
Вбирать над нильской желтою волной,
В папирусовом дремлющей тумане,
И голову по-жречески держать,
Протягивая лапы в мир иной,
И – ждать, егда приидут христиане?
Те явятся чрез дюжину веков,
Нарежут лоз и, помолясь, сплетут
Конфессии, монастыри, корзины,
Затеплив свои нимбы средь песков –
И, как Герасим, не сочтут за труд
Льва возвести до друга от скотины,
И осликов работою занять,
Чтоб не болтались попусту, вослед
Блудливому примеру Апулея.
А дабы мученик не сосчитать,
И улеглась на склон античных лет
Оббитых сфинксов гордая аллея.
11.I.
ПОСТ
...и этот пост Господь помог снести,
А уж касалось – и конца не будет
Его благочестивому пути.
Оно конечно – мудрый вся рассудит
И не осудит. Автор «Филока-
лии» блаженный книгочей Паисий
Дней двадцать пищу не вкушал слегка,
Ничтоже помышляху ни о рисе,
Ни о дарах морския бездны. Плоть
Должна быть в послушании у духа –
Но сколь о воздержанье ни молоть,
У каждого есть враг, зовомый «брюхо».
Пред ним мы все смирение творим,
А посему во время се и оно
Блаженны ратоборствующи с ним
По чистому уставу Типикона.
И все-таки – как долго! Перьевой
Зеленый лук взойдет и выйдет в стрелку –
А мы еще все ждем сороковой
День, что покорно капнет на тарелку
Уставным сочивом (да и его
Ждать до звезды – двенадцатого часа
По византийску счету). Рождество
Христа – Владыки, Господа и Спаса –
Недаром в Вифлееме бяше. Он,
Из воеводств Иудиных преславный,
Недаром Домом Хлеба наречен:
Хоть хлебом, а утешим православный
Преизнемогший стомах. Оле нам,
Духовная забывшим чрева ради!
...Двенадцать бьет! Поклонимся сырам,
Гусям и всей колбасныя говяде!...
11.I.
РУССКАЯ СИЛЛАБИКА
Малоголландчатая лапка крабика
Простерлась на червонный циферблат,
Мистерию суда прообразуя.
Куда ни кинь, а русская силлабика,
Застряв в зубах послепетровских дат,
Искала рифм не тщетно и не всуе.
Ея творцы в монашьих клобуках
Вгоняли в вирши произвол венч;нный,
Нося мундиры робко, как ливреи,
И путались в кудлатых париках,
Расшаркиваясь пред стрелицей Анной,
Что бьет из кантемировой фузеи
Зайчат и горлиц. Пышная Европия
Шотландцев ждет, ямайский глушит ром,
Донашивая тогу классицизма,
А росска муза – как всегда, лишь копия
В непримиримой пре добра со злом,
Пристроенная честно, аки призма,
К смиренну взору, коим питербурхская
На немцев заглядевшаяся знать,
Глядит на сочиненья Феофана
Аль Симеона с Антиохом. Русская
Гистория пиитов величать
Доселе не любила, покаянно
Подстрочники вспевая византийские
И лбом и поясницей чтуще вся,
Елицы от апостол до Паламы,
И все многоглаголанья витийские
По грешному разряду относя,
Как дорогие золотые рамы
На пустоте. О прелестях просодии
Не время да и не с кем рассуждать
До появленья буйного помора –
И петиметры, как автопародии,
Косят в лорнет и, обернувшись вспять,
Изображают виршей аматёра.
13.I.
КАГОР
В приличном кагоре, который мы не допили,
Разыгрывая древлерусскую «Повесть о Горе-злосчастье»,
(Семнадцатый век, а туда же...)
Гораздо больше гностической эзотерической пыли,
Чем аллюзий на чашу для причастья.
Войско стоит, стойко держится крепость,
А винофилы опять под столом как дома
(Руси веселье есть пити...),
Ибо святость вина – самодостаточная нелепость,
Чтоб не сказать: религиозная аксиома.
Бахус-Дионис, кому служат твои вакханки,
В клочья разодрав стоика и аскета
(Феминистки, одно слово...)?
А повсепраздничная мистерия русской пьянки
Прообразует народное благоприятное лето.
И афониты, отстаивая по восемь
Часов сряду на древлей Иаковлевой литургии
(Златоуст и Василий отдыхают),
Едва ли задаются душеполезным вопросом
О бытийном смысле смиренной стопки ракии,
Вкушаемой ими под глоссолалии тирирема
В зябкие эллинистические монастырские зори
(Три утехи: лукум, ракия, кофе...),
Но это – особливая тема,
Мы же, собственно – о вине и особенно – о кагоре,
Чью православную герменевтику я не ведаю,
Вкушая вечную Истину из лжицы
(Пьем из нея вси),
Ибо просто «еще верую и исповедую»
И далее – како иерейскими усты говорится.
13.I.
ИЛЬФ И ПЕТРОВ
Пчелы танцуют в бездне ульев,
Хоть там и не видно ни зги.
Ильф и Петров. «Двенадцать стульев».
Злые и умные враги
Русской идеи. Не трудиться,
Не ломать хребта своего:
Первое дело – поглумиться
И восславить Сына Того,
Каковой не к ночи будь помянут,
А лучше – не помянут совсем.
Русский за столом, русский спьяну:
Какое изобилие тем
Для местечковой злой издевки
Под прикрытьем красных паспортин.
Русский в церкви, русский в поддевке,
Русский скотина-дворянин.
Русский мир – мир крестов и брад лопатой;
А какое изысканное па:
Скорбной достоевской цитатой
Осмеять хапугу-попа,
Вздуть миллионера-гражданина,
Поглазеть на волжскую волну
И турецко-подданного сына
Прокатить на «Антилопе Гну»,
Чтоб он с пролетариатом слукавил
С помощью шахматной доски
И во сне кадык сефардский подставил
Под бритву обритого Ки-
сы Воробьянинова, дабы воскреснуть,
С людоедкой присесть на канапе
И чертой оседлости треснуть
По границам Российския импе-
рии, где истории скрижали
Покрывали высокой славой – и
Божий люд до друга Гришки держали
В подобающе кротком бытии.
23.I.
СОНЕТ
ПРИСКОРБНОКУЛИНАРСТВЕННЫЙ
Сонет про то, как скумбрия и сельдь
В кастрюле вновь октоиху радеют
И сходят за изысканную снедь
Для чтущих православную идею
И русские посты. Ни встать, ни сесть:
Сего не поднесли бы Берендею:
И как ни пересчитывай, их шесть –
Недель, что скорбным стомахом владеют
И усмиряют оный, яко Корм-
чая по-византийски указует,
Аскетски выделяя скудный корм
И питие, достаточные на
Афоне, где монашили не всуе...
О век, о батюшки, о ни хрена
До первыя звезды! У мусульман
Уставщики нашли бы пониманье,
Но им иной талан пощенья дан,
А нам – иной: смиряйся и терпи,
Доколе эзотерику молчанья
Не оборвет голодный вой в степи.
Ну, что же... На обочинах Руси
Житейское отложим попеченье –
Но, Господи, не мимо пронеси
Торт, кекс, конфеты, пряники, печенье!
23.I.
БОЖЬЯ КОРОВКА
О божия коровка! Парафраз
Изысканной чернофигурной чаши
С краснофигурный пиалой, как раз
Такою, как любили кызылбаши.
Се – крапинки, подобье многих глаз,
О коих провещал пророк горчайший,
То бишь Иезекииль. Его рассказ
Перемежим с рассыпчатою кашей –
Само собою – пшенной, не совсем
Просеянной и потому пятнистой,
Как черные вкрапленья светлых тем –
Лети ж и добрый хлеб нам принеси –
Живой, вся окормляющий, душистый,
От века сый на матушке Руси!
23.I.
; MOLIERE
Когда волна друзей отхлынет прочь
И слава затрещит камзольным швом,
Месье Мольер, любите вашу дочь –
Не как отец, а как супруг. Ни в ком
Так не продлится сладостная ночь,
Как в ее плоти коконе родном,
А мемуарны сплетни превозмочь
Помогут шпага верная с костром.
А коль случится непотребный сон –
Воспомните о Лоте, что вином
Упившись, потрудился любострастно.
Утешьтесь сим примером. Правда, он
Захаживал в библейский град Содом
И надо полагать, что не напрасно.
24.I.
ИХТИОПАНЕГИРИК
Ты думаешь: этим пятнистым и голубым
Губастеньким рыбкам все равно,
Как обгрызать галеры и пощипывать дно –
Зарываясь в него или повиснув над ним?
Их много. Их больше, чем леммингов и антилоп
В самый дикий скачок
Популяции. Им не страшен всемирный потоп
И никакой морской или приблудной божок
Хоть из ханьской земли. Смотри, как они стоят
Целые геологические эры, а не века –
И никакой Вестминстерский парад
Ни сравнится с ними в слаженности кивка
И поворота. Пусть падаль ищет тибетский гриф
И гепард в Серенгети крадется, молниеносно-тих –
А у них есть Большой Барьерный риф,
И всё, что океаны к нему подкатят – всё это их.
Они эволюцию по кораллам пройдут вброд
И ночью впустят в зрачки ртутные блики звезды,
Потому что они – древней, и для них человеческий род –
Гордая плесень, замутившая святость воды.
К их плавникам приникали календари,
Эзотерической мудрости иероглифами прося,
А христиане рыбку рисовали на ветхой двери –
И потому осилили вся,
Ибо снеток и тюлька, и дюжина провесных,
И постная сельдь, заплыв в соловецкую муть,
Вялеными носами на поверхности держат их
И от избытка смирения не дают утонуть.
24.I.
ХАНЬ-ДАО
1
Куда ползет эта гусеница?
В китайский ресторан, разумеется,
где можно заказать хоть всю линнееву номенклатуру
под соусом из океана.
2
На нефритовом блюде в двадцать четыре цуня
в длину и шестнадцать – в ширину
мастер фэн-шуй уложил девять креветок
и стебельки бамбука, конечно,
так, чтобы их усики и волокна
совпадали с линиями Дракона и Тигра,
не смыкаясь и не пересекаясь.
3
Тот, кто помнит хоть строфу из Ли Цин-чжао
(все равно – в каком и в чьем переводе),
поймет, почему так громко
безмолвствует старенькая бронзовая курильница,
когда в ней догорают и скручиваются лепестки
хунаньского горного пиона.
4
Разговаривать с чашкой на языке палочек – пошло,
если ноздрями не попросить прощения
у безвозвратно тающего запаха,
утекающего под резную и расписную
изнанку кровли, сквозь которую в самом углу
проросло гинкго, чтоб сморщенным прищуром коры
полюбоваться причудливыми древними
камнями, которые собирал и описывал
церемонный Су Ши. Нерукотворная
красота тем понятней, чем меньше тебе остается
внимать ее терпкой проповеди.
5
Плавники золотых рыбок
размазывают по стеклу какие-то знаки –
и если понаблюдать за ними,
тебе наверняка станет понятнее
смысл иероглифов, забытых
семь династий тому назад –
особенно тех, которые составляли имя любимой
поэта, чье имя тоже давно не читается,
но узнается, как фотоснимок духа.
6
Тот, кому не понаслышке знакомы
острые приступы вечности,
не станет перебирать и подбрасывать
древние бронзовые монеты
с квадратным отверстием посередине,
чтобы по «Ицзину» предугадать
свое уповаемое будущее,
ибо это совершенно бессмысленно,
ибо будущее прошло прежде, чем
подброшенная щепотью монетка
долетела до верхней точки
и пророчески шлепнулась на почти не твою ладонь.
24.I.
СОНЕЧКА МАРМЕЛАДОВА
Пока отец изволит вздор молоть
И, все пропив, лезть под колеса спьяна,
А мачехе угодно уколоть
Страдалицу за пошлые румяна –
Она уходит в ночь и ветер, хоть
Зонт не спасет от знобкого тумана,
И горько повергает в жертву плоть
На алтаре протертого дивана.
И пусть ей вслед свистят городовые
И похотливствует офицерье:
Она несет молитву Богу-Сыну.
О Сонечка, премудрая София!
Господь, прости и сохрани ее,
Как спас и взвел на небо Магдалину...
29.I.
МАРМЕЛАДОВ
белый сонет
Смиренный титулярный Мармеладов –
Презренный раб в очах второй супруги –
Мгновенной смерти даже не сподобясь,
Свой бренный полутруп привез домой –
Бесценной дочке на поминовенье,
Смятенной вдовушке – на поруганье,
Надменной Людвиговне – в озлобленье
И тленной плоти – в горестный покой.
Лечь в гроб на чистый четвертной убийцы,
Речь вечно обвивать вокруг бутылки,
С плеч образ человеческий спустив,
Течь вниз по жизни, каясь и греша...
Меч, а не мир принесший нам Господь
Сечь таковых велит ли в Судный день?
29.I.
РОДЯ
Родион Романович Раскольников
(внешняя гематрия инициалов – триста,
скрытая (Иродион) – двести восемь)
проживает в каморке, редко ложится сытым,
но в Распятого – верует и с готовностью отдает
последний четвертной ассигнациями и мелочью
вдове раздавленного чиновника
и не имеет никакого касательства
к пошлому бонапартизму вкупе с исламом,
не по касательной, а нигилистски прямо
опуская топор на волосенки процентщицы.
Он – не ради наживы, но единственно
ради психологического экзерсиса
(«тварь я дрожащая или право имею»)
и – оказывается именно тварью
и тем паче – дрожащей (озноб, знаете ли),
вздрагивая, когда мать произносит «Родя»
ради памяти и утешения.
Ибо «Родя» – это почти что руда,
сиречь – кровь-руда русского язычества,
кою так легко отворить, словно врата преисподней,
коей так просто замарать подкладку пальто
(это уж вовсе мефистофельские параллели)
и чистые, незапятнанные листки газетной теории,
а отмыться тяжко, разве что –
каленым железом стихов пятидесятого
псалма и покорной сибирской каторгой.
Но ежели не отмыться – как
влачить далее Христовы иго и бремя,
«ибо грех мой – всегда передо мною»,
и хотя возможны (в теории, разумеется)
другие варианты, например – Америка,
что это изменит в судьбе гордеца,
возмечтавшего обтереть пятами душу?
«Погубивший душу спасет ее,
а спасший погубит...» – страшно даже
вспомнить, Кто это сказал. Да и разве
ради Него русский раскол, расколотый череп, расколотая
империя? А как хочется послужить Ему
и отмытарствовать право воззвать к Нему из глубины!..
Но это уже – совсем другая история.
29.I.
ТРОПАРЬ СВ.ЕФРЕМУ СИРИНУ
Како дух стяжать мирен,
Предержащих власть чтя?
Батюшка Ефрем Сирин,
Чтущим помози тя.
Высоки твои меры,
Величав твой строй струн –
Даждь нам хоть зерно веры,
Просим: тать, блудник, лгун.
Молимся, поем, плачем,
Поборая их рать –
Только вслед козлам скачем,
А не мудрецу в стать.
Выстроились и¬х рати
Выше и стройней пальм:
Руку протяни, святе,
Заслони щитом псальм,
Чтоб отпряли прочь мымры,
Канув за земной круг,
Прореки свои мимры,
Дабы посветлел дух.
Се – крыла простер Сирин,
Гамаюн вспорхнул прочь...
Батюшка Ефрем Сирин,
Помоги прейти ночь
И, склонив свои главы
В страшный и святой час,
Утре встретить луч славы
Спаса, что тебя спас.
10.II.
БЕЛЫЕ СТИХИ
Как белыми стихами ни бели
Пергаменты и плиты l’histoire –
Избранник дев и шпаг еще не стар,
Коль счастлив он, узнав, что корабли
Из южной обамуренной дали,
Где воздух переливчат, как муар,
В пузатых трюмах привезли семь пар
Красавиц и мабли (или шабли).
Мистерия фаты и флердоранжа
Одним сулит шато и тайны рая,
Другим – камзол из рыбьей шелухи.
А по другую сторону Ла-Манша,
В пургу у кельтов трепет вызывая,
Висят на ветках белые стихи.
10.II.
ПУТЬ КО СПАСЕНИЮ
Не суемудрствовать, не искать аристотелевской
логики в логиях (рекше – реченьях) геронтов –
зело неискусокнижных,
обаче давно надевших нимбы
на испаханные крестьянским трудом головы,
а просто постараться подняться к ним
по осыпающейся тропке на склоне
одного из отрогов святыя горы Афон
и – веровать, что это –
единственный твой путь ко спасению.
Это – совсем просто, даже если
ноги тебе искусают до смерти
проворные змейки, притаившиеся в кустах терновника,
взор ослепит восковой череп святого,
представший из расселины в скале,
чтобы явить пример плодов покаяния
в трех локтях от твоих колен,
а ржавая цепь (времен богоспасаемого
и пр;клятого правления Палеологов),
за которую ты будешь цепляться клюкой,
отдаст твоему рвенью
одно из своих звеньев
и – благословит тебя молитвенно падать
в бездну скальную куда дольше,
чем поднимался почти по ее склонам
и почти верил, что это и есть
тропа сокровенных старцев.
И только матовый осьминог
поймает твой крик своими присосками,
расскажет тебе перед вечным сном
что-нибудь минойско-ахейское
и через пару смен протата в Карее
поведает о скончевании твоих дней
учительным старцам откуда-нибудь
из Ватопеда или Ксиропотама,
когда ляжет перед ними в деревянной тарелке
вяленым и нарезанным на полоски
в какой-нибудь из постов.
10.II.
СОЗВЕЗДИЕ БОЖЬЕЙ КОРОВКИ
Божья коровка – летающий
Красно- или чернофигурный килик или тарелка
Для белого и черного хлеба,
Возносится ввысь, словно призрак, тающий,
Как фейерверка пятнистая перестрелка,
Где-нибудь на пороге иного мира и неба.
Смотри: ее пятнышки, словно ангелофания,
Возникая из ниоткуда, скользят по росе медвяной,
Сочетая и на воскрыльях, и в фасеточном взгляде
Хитросмысленные астрономические искания
И инстинкт, всякия твари данный
Божией славы ради.
И за полетом ее зрачками следуют
Пускай не ромеи и не лукавые греки,
Уставшие от военно-философической перепалки
Перед очередной обреченной победою,
Но тоже вполне человеки –
Ну, хоть бы ханьские хитроглазые хохоталки.
Ах, как ее крылышки стараются
Зачерпнуть вечность, унося в насекомом теле
Дар Творца и дарвиновы уловки! –
И на тверди небесной загораются
Точки нерукотворного, невиданного доселе
Звездосочетавания – Созвездия Божьей Коровки.
17.II.
ПРЕКРАСНОЕ
Прекрасное не может быть огромным:
Об этом – икебана и бансай,
И россыпь нэцкэ в уголке укромном,
Изобразившем синтоистский рай
На языке ножа и деревяшки,
Окликнувшем высокие миры.
И горка риса в неглубокой чашке,
Явившая символику горы,
Не может быть попраньем аппетита,
Но есть лишь подношенье Небу от
Не евших поколеньями досыта,
Не ведая пространственных щедрот
И подставляя замки и девизы
Суровым ласкам океана, что
Шлет на врага губительные бризы
Во славу эзотерики синто
И пропедевтики буддизма. Боги
Еды, любви, вранья и воронья
В похлебку моря опустили ноги,
Мешая варево небытия
В котле эпох, что в чаши наливают
Мирских деяний мутное вино -
И островки, как рисинки, всплывают,
Цветут и опускаются на дно.
20.II.
;;;; ;;;;;;;;;
...а я вам говорю, что Византия –
гордостное смирение, застенчивость напоказ,
И несчетные ее лаики, спафарии и святые
Суть лишь затянувшийся на тысячу лет парафраз
Всего, что только возможно зачерпнуть крестом и потиром
В нищей гордячке Элладе, в Персии, в Палести-
не, чтобы потом перед целым миром
В свои вивлиофики отрясти и перевести,
И дать отлежаться, и обличить, как ересь,
И сжечь в иконокластских кострах,
И заново открыть, в граниты афонские вперясь,
И – облобызать апостольский след и прах,
Сердцем испив лучи Фаворского света
И – веками стоять в исихастском благом бытии,
Дондеже наидет комета,
Отражая хвостатые пророчествия свои
В смальтах и апсидах храма святыя Софии,
Дабы мнихи оплакали славу имперских побед,
Не подклонивши нимбы и брады седые
Под папский униатско-экуменический бред,
И разошлись по иным киновиям и иконам
(Горнего града взыскующе, дольнего отмета-
юще), осеняя и освящая прощально-долгим поклоном
Попущенные туркам святыни и созерцательные места,
Где можно бывало пребыть в трезвеньи и в духе
Пред солеей святости на стертом пороге времен
И, более не мысля о брюхе,
Строить молитвами неотмирный Византион.
20.II.
ГАНЗА
Великолепной Ганзе не к лицу
Обмахивать своим парчовым стягом
Событий паутину и пыльцу
И нищете грозить всеобщим благом.
Ей дело – богатеть и набивать
Мошны, подвалы, закрома и доки,
И кораблей раздувшуюся рать
Стремить на Запад, холить на Востоке,
И особливо вдоль Европы. Кельт,
Финн, лях, эст, швед – встречайте эти трюмы!
Ведь главное на свете – гольд и гельд:
Имущие их вдосталь – не угрюмы,
Но праведны и всем довольны. Соль
Вдоль христианска постническа края
Способна исполнять любую роль,
И очищая все, и осоляя.
Напяливай короны, короли,
Монахи, поборайте жало плоти!
Великолепной Ганзе до земли
Нет дела: может, вы его найдете?
Она – волна, простертая в века,
Она – русалка, фея и наяда,
И кроме возлебрежного клочка
Под склад и храм – ей сей земли не надо.
Путей своих селедочную нить
Она прервет невдолге и не вскоре,
А хоронить концы и гольд хранить
Куда надежней по-варяжски – в море.
20.II.
БЫВЫЕ АЛТАРНИКИ
Пока Лужков размашисто бушует,
Свалив на склад «Колхозницу с рабочим»,
Пусть батюшка Кураев повествует
Об Оригене, Рерихах и прочем,
Не к ночи будь помянутом. Столица
Косметикою новой штукатурки
Подводит храмы, чьи святые лица,
То бишь фасады, не играют в жмурки
С баблом исламо-русских. Подмалёвок
Иконы посвятительной над входом
Бесхитростен, но семинарски ловок,
Ввыспрь воспаряя над полу-народом
И полу-Русью. Эра храмостроя
Забрасывает краны, словно уды
Во Иордан, не брезгуя порою
Большим мешком апостола Иуды
Искариота. Божия ловитва
Не знает конституций и законов –
И длится, длится детская молитва
До всплеска плоти и игры гормонов.
И бывые алтарники, упрямо
Отталкивая стопочки и блюдца,
Уходят всемером из Божья храма,
Чтоб к старости вдвоем в него вернуться.
22.II.
ВЕСЕННИЕ СТАНСЫ
Косить сквозь усы
На чай в купеческом блюдце,
Покуда часы
Смиренно и яростно бьются
В клепсидру времен,
По капле едва издавая
Мистический звон
Созвездий и розанов рая.
Но веют весной
Снега и проталины марта –
И бита с лихвой
Зимы крапленая карта.
Апрелю пора,
Одевшись в овчину, в подпаски,
Коров со двора
Повыгнать вайями Пасхи
И вновь порадеть
Святому служенью крестьянства,
Вдовицину медь
Прияв за свое постоянство
И верность лугам,
И первые грядкам поклоны,
Когда птичий гам
Над ними творит антифоны.
И всякую плоть,
И вся, яже только Он знает,
Воскресший Господь
Процветшим крестом осеняет.
22.II.
ЕЛЕОНСКИЕ МАСЛИНЫ
Очень долго стоять на ветру – рисковать простудить
Телеса, государственный миф или римский лабарум
И не думать, что Парки вот-вот оборвут твою нить,
Ибо в мире все деется недаром,
И безгрешных затмит покаянием ;тмытый грех,
И лев рыкаяй днесь не обидит и малую птаху,
И молчальник окажется красноречивее всех,
Яже в ризах с амвона провещаху.
И молиться – труднее, чем веровать в силу меча,
И прощать – несравненней, чем зло усмиряти секирой,
Посему – возмолись, и да будет слеза горяча
Пред Христовой поруганной порфирой.
Посему – истопчи сон душевный, бесстудный твой сплин,
И пока еще дышит душа и рука твоя в силе,
Помазуй себя маслицем тех Елеонских маслин,
Что отжаты во Христовом точиле.
И толпятся зде верные, коих число – паче звезд,
Времена выжигают над Гробом Господним лампады,
И миры осеняет имперский с лабарума Крест,
И инаго оружия – не надо.
НА ВЕТРУ
(вариация)
Очень долго стоять на ветру – рисковать простудить
Телеса, государственный миф или римский лабарум
И не думать, что Парки вот-вот оборвут твою нить,
Потому что сошествие Божие было недаром,
Потому что слова омываются только слезой,
Тяготеющей капнуть на плинфы и дольнее лоно,
И алтарь, оплетенный живой виноградной лозой,
Веет на предстоящих дыханьем Сиона, Афона
И горы Елеонской. А ветер есть ветер: ему
Все равно – овевать ли резные крыла фенгуана
Иль хитоны апостолов, шедших в языческу тьму
Научити языки Христу воспевати: - Осанна!
Только ветру объять Палестинский каньон по плечу
И начать Бытие со словес двоесмысленно-вечных –
И малышка, ладошкой прикрывшая в храме свечу,
Непременно поставит ее Жениху на подсвечник.
ИКОННОЕ ИСПОВЕДАНИЕ
Верлибрические терцины
Плоская лепка складок на бедрах стоящих апостол,
утешение взора – ассист:
еже есть сказуемо – блики Фаворского света,
нить бытия в приснодевственных перстах Богоматери
на апокрифическом изводе Благовещения,
лещадки с лошадками – отрада Флора и Лавра –
и, разумеется, непостижная шапочка на главе
батюшки Спиридония Тримифунтского.
Се – нетварное рукотворствие,
спасение санкирем и темперой,
молитвословие киноварью, киновия лепоты
в лапотном мире плугатарей и рыбников,
чьи старцы отличествуют от святых апостол
лишь тем, что прожили долее оных
и меньше землицы обошли,
но тоже несумнительно видели Христа Бога.
Се – исповедание для философов и простецов,
бабушек, бающих невесть что и о ком,
и глазастых кошек, усевшихся на подоконнике
посреди гераней и прошлогодних верб,
чтобы зачерпнуть ноздрями ладан,
принять одну из коптских дохалкидонских поз
и пренебрежительно – с аналоя своей чистоты –
глянуть через плечо на кудлатого пса за оградой.
И когда эти доски в закопченной олифе,
безмолвно ораторствуя, начинают чин обновления –
с яви словно сползает завеса,
и левкас, аки протоиерей с двумя «отверстиями»,
являет миру нечто бесхитростно неотмирное,
держа его своими благостными ладонями,
потрескавшимися, словно кожа на дланях мучеников,
еже умучены в Декиево гонение.
22.II.
ДНЕСЬ
Пока Лужков размашисто бушует,
Свалив на склад «Колхозницу с рабочим»,
Пусть батюшка Кураев повествует
Об Оригене, Рерихах и прочем
Не к ночи будь помянутом. Столица
Косметикою новой штукатурки
Подводит храмы, чьи святые лица,
То бишь фасады, не играют в жмурки
С баблом исламо-русских. У погоды
Со знаком минус есть большие плюсы,
По крайности – омыть сии невзгоды
И пошлые житейские искусы
Слезой «Патерика». Молитва славно
С действительным и сущим примиряет,
Покуда на забрале Ярославна
Бебрян рукав к Каяле простирает,
Масонский жест приветствия являя
Стуартам бонапартовой эпохи.
А Русь – Русь если есть, то иль святая,
Иль никакая, ибо книжны крохи
Не возродят духовную пустыню,
Средь коей Русь стоит, склонившись, ныне:
Хотя – Господь простил самаряныню,
Прорекшую о псах и о святыне.
НА ПАСХУ
Дождемся дня Святыя Пасхи
И вновь прейдем от суеты
В ту явь, где Божии подпаски
Простерли ветхие кнуты,
Чтоб упасти Христово стадо,
Востекше на церковный праг,
Его же борют силы ада
И искушает сильный враг.
И виноградник, долг железу
Платя сиянием имен,
Стоит не вскопан, не обрезан
И только верой огражден.
Но Он воскресе! Неудачи
Днесь воздаянье обретут,
И все – иное, все – иначе,
И чист и легок скорбный труд.
И скверны мира омывает
Свет, воссиявший и сквозь тьму.
Душа ожившая взывает
К Единому безгрешному.
И мы молчим, великий Боже,
И видим пред собой обрыв,
Как змеи, сбросившие кожу,
А новой днесь не нарастив.
Бог поднял прободенны длани,
Крест претворивши в торжество,
Но мы достойны ли страданий
И воскресения Его?
И, утруждая дух до поту
На винограднике судьбы,
Исполним ли Его работу
Мы, неключимые рабы?
КРИТСКИЕ ЗОГРАФЫ
Тропарь о том, что критские зографы
Изрядно подписуют Панагию,
Прочерчивая арсисны парафы
На ризах, одеявших Византию
Перед ея отбытием в иное
Пространственное измеренье духа,
Где Божий ангел, вставший к аналою,
Архиереев заменил – и, слуха
Напевов ангельских не искажая,
Поведал, как у них поют Пречистой,
И, на Афон ступивши, Преблагая,
Презрела человечески речистый
Извол о жертве слова. Исихастам
Доступнее пути к небесной сени –
И на иконах их светло и часто
Предвечный председит Богомладенец,
Явив стопой необратимый ракурс,
Прочь стерший главу змия.
Что ж не постигла ты благого знака,
Богоспасаемая Византия?
Тебе б припасть к стопам Творца и Спаса,
Лобзаньем прикоснуться к омофору –
И Бог бы вещь о те устроил в меру часа,
И всю турецко-генуэзску свору
Отринул и изгнал. Но Константину
Угоднее играть пандан святому
И повергать в прощальную пучину
Чертог, всех ближе ставший к Божью Дому.
И вся, елика бяше мозаикой
Царств – обратит священную ланиту
Всей ойкумене греческой великой
И наипаче - мученику Криту.
Чтоб он, как цата средь морских подвесок,
Сокрыл от поруганья и расправы
По оссуариям турецких фесок
Мироточивые святые главы.
СВЯТИИ ЦАРСТВЕННЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ
Мир мнихов, кощунов и богомолок,
Летишь ты в бездну, уповая ввысь.
О, Третья Рима царственный осколок,
Молись за дом Романовых, молись!
Не дожидаясь старческа совета
И при дворе обжив российский край,
Устрой сестре марьяж, Елизавета,
Завидный – и расстрел, и Божий рай.
Террор мусолит свой кровавый палец,
И тысячам державе не служить.
Влюбленный Ники, помолись за Аликс,
Чтоб ей успеть наследника родить.
Растлилась Русь что в галунах, что в схиме,
Чему не поусердствует – все зря.
О духоносне отче Серафиме,
Молись, молись за русского царя...
Иконы сплошь охаризматят стены,
Симв;лы византизма возлюбя,
И размыкание кругов измены
Державная приемлет на себя.
Черта оседлости из искры пламень
Спешит раздуть с шеольским визави.
И скоро кровь проступит и сквозь камень,
И письмена проступят на крови.
Мадьяры, немцы, латыши, евреи
Расправятся, как ждали испокон.
О критский архипастырю Андрее,
Читай за Русь Великий свой канон!
Едва мерцает свет в подвальной дверце,
И маузер подъят в реченный час
Святии царственные страстотерпцы
Молите Вседержителя за нас!
МАРФО-МАРИИНСКАЯ ОБИТЕЛЬ
Покуда по Москве плетутся конки
И Северянин брызжет свой мотив,
Ея портрет цветет в алтарной конхе,
Пречистую и Спаса потеснив.
Зде – стены белопенно-голубые
Игуменья по-ангельски чиста.
Она – и Русь, и Марфа, и Мария,
Смирением замкнувшая уста.
Покуда из кобур трефовой масти
Не хлынули свинцовые дожди,
Здесь храм воздвигнет даровитый мастер –
Российский сей римейкер Гауди.
Изыски асимметрии сольются
В двойную эзотерику креста –
И мать измается от революций,
Не проронив ни слова неспроста.
Сиянье белого – необратимо
От риз и антиминса до стены –
Но крылья серафимов Третья Рима,
Как ни мудри, все той же белизны.
И та же синева легла тенями
На ризы, на ресницы, на уста.
И плоть свята, процветши в шахтной яме,
Синеет вслед гиматию Христа.
ИДИОРИТМИТЫ
Монахам кандии и биоритмы
Вещают час из византийской мглы –
А вам, насельники идиоритмы,
Геронтствуют левкои и щеглы.
Покуда из анчоусов и мидий
Отцы узду лемаргии творят,
Вам локтем подлокотники стасидий
Не протирать по семь часов подряд.
Они смиреньем осияют лица,
Все правила исполнив и чин;,
А вам не возбраняется молиться
Хоть купно нощеденствие без сна.
Избранников служивая аскеза
Благословляет в созерцанье – в сплин,
А ваша внерегламентна трапеза –
Полжмени смокв да горсточка маслин
Четыре раза в три недели. Светел
Трикириос святой горы Афон
Для тех, кто униженья не заметил,
Стерпел гоненье и в гресех прощен
Благоуветливым безмолвьем. Ветошь –
Вот высшее роскошество души,
Истершей плоть о валуны и ветер,
Уже внимая в духе разреши-
тельной молитве. Мнишеска сноровка
Сияет панагией и мечом,
И митрами. А Божия коровка
К блаженному садится на плечо.
ХРАМ ТИХОНА ЗАДОНСКОГО
Тихон Задонский. Славушка брусяных
Русских мифологем окрай Ширяева поля.
И колокольни скудопудный вспых
Знаменует собой метатезу раздолья
Русского велегласия. Многажды сладкий звон
Не обязателен в качестве синонима многомедья
И кротость поучительных икон
С окладами из древлих дукатов и мараведи –
Так же не непременный атрибут молитвенных фраз,
Понеже молиться можно и пред бумажной
Картинкой, уловившей пересказ
Старинного лика, не слишком важный,
Но истовый. Хощешь спастись – молись,
Не рассуждая о штилях, пошибах и гласах,
И твою душу да возвеет ввысь
Благодать, сущствующая не в главах или иконостасах.
Как сладки бремена смирения, коего Спас ждет,
Как единственной жертвы сокрушения,
И коли будешь искренен – спасет
От гордыни высокоумия и книжного дерзновенья.
Постой же, покрепче запомни паклю, брус, изразцы,
Художество резьбы и – Крест, спасти готовый,
И согласись: еще не все концы
Святыя Руси обрублены и сброшены с лодки Христовой.
ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ СЛОВУЩАГО В СОКОЛЬНИКАХ
Почти над рубежом афонской ноты,
Где хоросы орлят на дольний тлен,
Резные деревянные киоты
Чернеют на белецких ризах стен.
Душе почти не надобны придирки,
Коль средь Москвы возносит свой коралл
Сочетование остзейской кирхи
С параклисом афонским в толще скал.
Манерная мистерия модерна
За гранью прореченного числа,
Введенско-коллонтаевская скверна
Сугубые святыни собрала.
Безбожников уветливая смелость
По-кобьи обобрав монастыри,
Твердыней обновленчества соделать
Приделы мнит сии и алтари.
Зде бе молебны сущим пулеглотам
И крыша мытарям и палачам:
Но Иверской честным своим киотом
Угодно было выбрать этот храм,
Очистив эти конхи и притворы,
У коих трепетаху времена,
От в храме разряжающих затворы
И прихотей горийска пахана.
И чьи бы опартиенные лица
Сквозь штукатурку не бросали тень –
Здесь так утешно верить и молиться
Хотя б за свой – уже недальний – день.
СВЕТЛЯЧКИ
Если в келье богомудрого старца,
О смирении сотницу списавша,
Догорит последняя лампада
И свеща последняя дотлеет –
Ему не придется вполугласа
Задремавшего послушника кликать,
Ибо Божьи светлячки вмиг слетятся
И на кончик пера его воссядут,
Чтобы старец, умиленно восплакав
Чистыми теплыми слезами,
Снова понял, что водит по бумаге
Не своей десницей и волей,
Посему и Источник горня Света
Никогда его во тьме не покинет.
СВЕРЧОК
Если к пятому часу литургии
Келлиот, привздремнувший прошлой ночью
Два часа в промежутках между бденьем,
Опершись о локотники стасидий,
Вновь едва не задремлет и заслужит
Гимнастическу сотницу поклонов
На студеном полу октябрьской ночи,
На стене полустертый образ старца
Незаметно взмахнет своим синдоном
И сверчка повыгонит из щели,
Повелев сослужить ему ныне
Старинную службу аколуфа,
Сиречь посланника – и Божья
Тварь своим протягновенным треском
Христова работника избудит
Из тонцего сна, из погрешенья,
И, сев на его худую ризу,
Так на Страшном судище и предстанет,
Вереща на манер шестаго гласа.
ТРОПАРИОН УМИЛИТЕЛЬНЫЙ
Свв. Страстотерпицам Ольге, Татиане, Марии, Анастасии
Кто их надоумил и сподобил,
этих дивно – на всю Российскую империю – прекрасных
девочек, из коих ни одна
не пойдет под венец (ибо инаго венца взыскуют)
родиться не под гербами Нарышкиных или Юсуповых,
а восприять державное – Романовы?
Кто им судил ласкаться к папе,
доброглазо-задумчивому,
словно на серовском портрете (помните?),
называя его не как все про все
(батюшка, тятя, папенька),
а кратким и кротким: Государь?
Кто их учил
неизменно носить не панамки с платочками,
а круглые ленты по благолепокудрию
и круглые, непременно круглые,
(с розами или бантами), именно круглые шляпки,
похожие (да что там) прообразующие нимбы?
Кто их впервые протитуловал мученицами,
их, гордо и с провидческим смирением
отдергивавших пальчики от эрцгерцогских уст,
и даже отбиваясь от нестиранопортяночной солдатни,
веровать, что они хранят себя только и единственно
для Творца и Господа Всяческих?
Кто домыслился так заснять их
в ссылке, в Сибири-Зауралье,
с хрупкими шейками и обритыми головками,
так дивно – на всю Российскую империю – прекрасных,
словно готовя их к выкрестовской гильотине
или тем паче – неподступной афонской костнице?
Оле благоверия врагам твоим, Государю Николае!
Оле наследникочаяния твоего, императрице Александро!
Оле велемученичества твоего, цесаревичу Алексие!
Вам же како хвалу сплести, цесаревны?
Сколько жен при Кресте Христовом стояло?
Вот и на Русской Голгофе тот же счет...
ЕЖИНАЯ РАТЬ
Ныне напрасно промысл радеет адов:
И ты, телевюга, объективом трогать не смей
Крестовый поход ежиков против ползучих гадов
Геральдических змеев и подколодных змей.
Не бойтесь, маслята и рыжики, и яблочные дикушки:
Ныне вдохновенная ежиная рать
Не заметит вас на опушенной пихтой опушке
И о ваши щиты не станет иглы марать.
О, кроткие рыцари, воздевши свои стяги,
Миролюбиво и беспощадно пройдут
По реальным оврагам, а не гламурной бумаге,
И одолеют мышино-гадючий редут.
В праведной пре против мультяшных оргий
И детоосквернительных книг
Русские ежики, помоги вам святой Георгий,
И полк стратилатов, и Божий Архистратиг.
И пусть малышка в безвременье звериного рынка
Напоит их не «Колой», а святым парным молоком,
Как русские женщины, протягивавшие крынки
Русским, бить супостатов шедших с «КВ» и мечом.
ПОКЛОН ФЛОТОСТРАТИГУ
Под парусами российского флотостратига,
Ныне же во святых Феодора Ушакова
Отоманския славы венециибившая книга
Расселась до основы
И превратилась в лохмотья, что от Чесмы до Кинбурна
Плыли по Элевзинскому понту.
А новую гишторию тщатся склеить, как урну,
И навязать российскому победному горизонту
Жовто-блакитные и красно-черные тряпки
Единоверных приамериканенных семинаристов,
Что давненько не получали трёпки
От кожаных канчуков и сверхзвукового свиста
«МИГов». На русский Крым благодатный огонь нисходит,
И на севастопольском рейде с русскими крейсерами
Чайки играют на восходе,
Знать не ведая о державном сраме,
И на иконах носителя русской имперской мощи,
Воплотившего Божьей помощи непобедимое чудо,
Сияют в ковчежцах всепобедные мощи:
Подходите, прикладывайтесь хлопцы-кацо, покуда...
АРЕЛАТСКИЕ ПРОПОВЕДНИКИ
Пока августы арки великие
Громоздят из гранитов и злата,
Нефы ждет из Египта с Киликией
Именитая Арелата.
Ждут работы блудницы и медники,
Легионы добычи чают.
Арелатские проповедники
Рим просевший изобличают.
Средь прекозненности еретической
Обличают лукавых тварей
Слог, как меч занеся профетический
Гонорат, Иларий, Кесарий.
Стынет кровь и густеет золото
Здесь, где хаживала Приснодева,
И единство державы расколото
Крестом – молотом Божьего гнева.
Слава Галлии не упрочится,
Храмы вырастут на откосе.
Зде на царство венчаться восхочется
Константину и Барбароссе.
И когда приговор содеется
Магдалине святой и суровой,
На гробнице отпечатлеется
Светлый след от Стопы Христовой.
И следа того ради по-прежнему
Повлекут сюда реки и тропы
Через горы и всхолмья снежные
Прах державный со всей Европы.
И владычицы герцогств с фьефами,
У возков навостривши лыжи,
Будут рваться сюда вслед за нефами,
Мня улечься к Нему поближе.
Чтоб, наследники и проповедники
Райска сада средь мерзостной были,
Арелатские проповедники
Яже смогут – всех отмолили.
И Ван-Гоги и прочие всадники
Из апокалипсической дали
Арелатские виноградники
На ромейский витраж набросали.
QUEST ЗА ГРААЛЕМ
Благоуветливое послание
тезоимените Фотинии Палестинской
Света за Святым Граалем
В кельтско-святоземску тьму,
Неизвестно почему,
Шедши в АСТовские дали,
Вшед в украиньску корчму,
Где ни гербовой окрошки,
Ни доспехов, ни секи-
ры – лишь глиняные плошки
Да цветные рушники.
Но Господь, меню листавшу,
Свету въумил и помог,
Про вареники и кашу
Позабыть среди тревог
И покинуть сей чертог,
Прах отерши о порог.
Пусть казак чуприну с саблей
Изгибает напоказ –
Это боле не для нас,
Ибо, дмя москальский глаз,
Распахнули двери «Грабли»
С постной трапезой как раз.
После ж чинных поеданий
Рисово-чесночных сил
Quest and search, стезю исканий
Филолог благословил.
И, за сканером корпея,
Старины храня уют,
Нас дождалась либерея
В коей книги продают.
Веницейски кривотолки
Подливая в кельтский бред,
Том с Граалем с книжной полки
В нашу сумищу прешед.
Изданный не слишком щедро,
Вот оно, точнее – он,
Том, где палестински недра
В Middle Ages сладкий сон
Изливают испокон
Тайну тайны всех времен.
Там, где воинство Гавейна,
Парцифаль и Ланселот
Светин взор благоговейно
Проскользнет и – не уснет,
Ибо с выставки церковной
В седми тысящах шагов
Тянет книжностью духовной
И аскезой пирогов –
Тамо, где напротив входа
Всех сретает, как привык,
Люд московский в давни годы,
Иверской надмирный лик,
Перед коим не остыл и
Свеч и слез благой удел,
Как бы м.Саакашвили
Притушить их ни радел.
Взор Ея сияет раем:
Перекрестимся и в путь –
Весь Грааль мы прочитаем:
Аще токмо б не уснуть.
РАКУШКИ
Ракушки – оболочки бытия,
Что сброшены мистической спиралью,
Продлившейся туда, где ты и я
Когда-нибудь и очутимся, дабы
Полюбоваться греческой эмалью
И перламутром тонкого труда
Иберо-готтских мастеров, собравших
Вдоль кромки Средиземного пруда
Свинцово-розовые, отливные
Былые облики моллюсков, ставших
Искусством, артефактом, слепком тел,
Давным-давно избавленных от тела.
Вопрос лишь в том: совсем ли отлетел
Их дух от сих комочков – иль вернется
Во день Суда и Страшного Предела
Времен. Глаголя проще: возжела-
ет ли Творец, создавый вся живая,
Вернуть всем тварям стебли и тела,
Бездушный известняк и тухлый камень
С воздушным и живым сочетавая?
О раковины, слушал ли вас Бах
Или, куда ни шло, хоть Монтеверди,
Запечатлевшие в своих тонах
(Внемли ушной, коль серьги не мешают)
Гармонию пластов земныя тверди?
Вы – деньги и труба, вы – существа,
Названием заблудшие в латыни
Там, на запретной грани естества –
Но то ли вы и впрямь на самом деле,
Чем кажетесь и выглядите ныне?
;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
Карине Каспаровой
1.
Пока Ефрем сирийской окариной
Гармонизирует Давидов стих,
Дивеево общается с Кариной
Мощами вновь прославленных святых.
И батюшка, суму взвалив на плечи
И всласть томя томящего его,
Заводит с нею ласковые речи
Мироточеньем лика своего.
И лепетом источника. Канавка
Последняго удела Пресвятой
Творится, как евангельская главка,
Средь святости и мерзости земной.
Зде бытия несуетная мера
Мерцает аскетично, как свеща.
Латины всуе мнят «Cum spiro – spero»:
«Cum spiro – credo» греки отвеща.
А инокини русские, сердцами
Не прилежа ни скарбу, ни рублю,
Текут смиренномудрыми стезями,
Чтя заповедь «Пока дышу – люблю
Христа и всех Христовых». Райску крину
Дивеевски радеют клобуки
И верит в трудницу Екатерину
Ученье Серафима и – Луки
Епископа, средь большевистских капищ
Восставша вслед евангельской строке,
Воздев крест парамантный, аки скальпель;
В блаженной архипастырской руке.
2.
Celtic poetry… Dready and nice
And inspired by saints and by elves;
Rough like linen and burning like ice
In volumes standing tough on bookshelves…
None is gone. In the castles of Moon
Everwonderful mystery dwells.
Cattles leather makes sacred as soon
As it is covered by druid’s spells.
Time is dream. In the sidh under oak
Enters Finn. Mystic mists fall on shores.
Red like blood, flies in vain Scottish cloak
In the hills left by gods and fomores.
None is gone. – even the idols all across,
Even st. Patric and each Celtic Cross…
В КЕЛЬЕ У СТАРЦА
ХТОНИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ
СО СКРОРОСТЬЮ ВРЕМЕНИ
Куда им спешить – сплющеннолобым майя,
Обходящимся без колеса и лошади,
Но знающим наизусть звездную книгу:
Ведь их годы отсчитываются со скоростью
Отпиливания каменных плит
Для очередной пирамиды Тегусигальпы и Теночтитлана.
И им тоже незачем торопиться –
Манипулам и легионерам непобедимого Рима:
Они и шагом успеют изрубить этрусков,
Растоптить Парфию и взять Иерушалем,
И славу свою принесут чванным сенаторам
Со скоростью истирания медных гвоздиков на калигах
Или постройки новой дороги в Дакию.
А им уже тесновато в былых рубищах времени –
Безымянным труженикам монастырских скрипториев.
В день по две службы выстаивающим
И слепнущим над пергаментом с обличением ариан:
Они житие свое отмеряют
Со скоростью перелистывания и перебеливания
Списков блаженного Августина или Фомы Аквинского.
Но их легко и мимоходом обгонит
Время Карамзина и кулибинских самобеглых тележек,
Именитыми перьями и штыками поблескивающее
И зачитывающееся патериками и сонниками
На продымленном борту первого батискафа:
Оно ведь летит со скоростью монгольфьеров,
Со скоростью выхода бесчисленных томов Диккенса
И хлопанья парусов на чайном клиппере.
СМЕЖИТЬ ВЕКИ
В дымящемся ночном озере
Самым ненасытным кувшином – взглядом –
Зачерпну тишину – просвечивающую, как ушко девочки,
И туман зачерпну, раскатывающий свой свиток –
И уж, конечно, не выплесну из уголков ока
Пригоршню звезд, пагоду с изломанной кровлей – и аиста,
Спящего над гнездом и в кувшин этот попавшего
Совершенно случайно.
И прохладный сон времени,
Знающий, кем я был семьдесят тысяч лун назад,
Вдруг уберет прочь, в никуда
Эти леса с плеском дождей и обезьяньими криками,
Эти горы – клыки дракона, проглотить небо собравшегося,
Эти реки – невысыхающие слезы
Искавших истину или просто просивших забвения
И дали окрестные сложит, словно ветхие
Ширмы, заслоняющие от меня Предвечность.
И пока эта явь в кувшине взгляда плещется
И тянется бамбуком из просвета между древними плитами,
Я все это вспомню и попробую больше не забывать:
Ведь все, что я вижу и вырываю из памяти,
Все, к чему прикасаюсь грезами и моленьями,
Существует только во мне – а значит
Я не пришел ниоткуда и никуда не уйду, а просто
Смотрю в Себя, и ритуальный мираж времени
То сдавливаю в песчинку, то шелковой нитью растягиваю,
А век и плоть выбираю себе любые –
И мир окрестный, оплетенный лианами легенд,
Расставляю, словно ширмы с новой обивкой,
И кувшином взгляда – аиста и звезды зачерпываю,
И узнаю лики, проступающие на свитке тумана,
Да и это излишне – достаточно
Просто раскрыть или смежить веки.
ЕСЛИ ЗАПРЯЧЬ ВЕТЕР
Если запрячь ветер –
Можно обогнать стрижа и звезду падучую,
И взгляд Пустоты из-под ресниц рассвета,
И время, плещущее и каплющее,
Как тушь на последнюю вертикаль последнего иероглифа,
Как кровь с наконечника
Смертоносной стрелы, которую, разумеется, тоже
Можно обогнать, если запрячь ветер.
Если запрячь ветер –
Можно вспахать вечность и дали на древних фресках,
И тени брошенных храмов на горных склонах,
И пламя, драконьим языком явь слизывающее,
И даже ребристую рябь реки –
Бледную, холодновато-муаровую
От вьющихся водорослей и кос утопленниц и купльщиц.
А еще можно вспахать будущее,
Особенно – лемехами книжных страниц,
Из которых тянутся пагоды и бутоны багульника,
И тростниковые паруса рассветный туман смахивают,
И со строчек осыпается пепел твоего «Я»,
Почти не остывший за четырнадцать тысяч лун,
Так что в нем можно испечь лепешки –
Все можно, если запрячь ветер,
Особенно если сумеешь найти узду
И удержишь ее в руках, и на ногах устоишь
По эту сторону яви.
НА БЕРЕГУ ВРЕМЕНИ
На берегу времени Мухаммед поет свой аят
И Кришны длань прорастает из лотосового семени,
И клепсидры не калюют,
И все куранты стоят
На берегу времени –
И идут только лани за Орфеем вслед чередой
И дети Ниобы – встретить смерть возле ног матери –
И скорбные Данаиды
За неизбывной водой
В туниках черных на треснувшем красном кратере,
Чтоб зачерпнуть кровавых пространство вино
Пристально-ненасытным кувшином мгновения
И обреченно выплеснуть
В бездонное дно
Имена и века, проклятья и откровения,
И отразить в нем свой лик и направить вспять
Хлопающих сандалий неторопливость крылатую,
И на глиняной стенке
Тенью своей занять
Контур случайный – и стать безымянной датою
В непреложном потоке судеб, событий, тел,
Чей черепок под пятою нового племени
Только что о бессмертии
На прощание прохрустел,
На берегу времени,
На котором и ты с Горацием плавишь медь
И подпираешь витийственными столбиками беспечности
И колоннадами вер
Иступленный порыв – посидеть
На берегу вечности.
ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЕ НАИТИЯ
ЖУК
Всплеском воскрылий размашисто трепеща
Во избавленье от анабиозных простраций,
Жук – летающая праща –
Сам себя выстреливает в пространство
И на шершавом свитке туманных седин,
Которые клювом цапли разматывают болото,
Каллиграфически вписывает в закатный «Даодэцзин»
Хрупкий иероглиф полета,
Где туши и тушь исполняют полураспад
И линия жизни изламывает колени,
А странная точка продлевает твой взгляд
За грань чистоты и вожделений,
В триипостасное сопряженье разъятых времен,
Где гусеница гурманствует, ненасытно-живая,
Куколка кутается в сон
И трепещущий жук лунную пряжу обживает,
Прежде чем ринуться в разъятую звездную пасть,
Благословив и прокляв бренного бреда бремя,
И пращою крыла неумолимо попасть
В лоно Вселенского Будды – и упразднить время.
ДЕВЯТЬ КАПЕЛЬ
Девять капель свисают с резной крыши,
Вспоминая берег, ивы под ливнем – и девушку,
До чьей шеи они так и не долетели.
Девять учеников восседают рядом с учителем,
Обмахиваясь раскрытым веером изумления
Перед огромным закопченным котлом,
Где кипит время и раковины созвездий плавают.
Девять капель одна за одной ринутся
На истертый камень у подножья стариной башни
И принесут ему холодновато-бесцельное знание
О зрачках и лучах, в них заглядывающих.
Девять слов старый учитель скажет,
Девять жестов от его скрюченных пальцев
Оторвутся и станут более чем истиной.
Девять учеников распрямят пружины плоти
И, обтерев босые ступни об ужас,
К котлу подойдут и в разъятый зев прыгнут.
И первые шестеро станут вопящим варевом,
Мучающимся более всего от того,
Что они не исполнили заповеди учителя,
Ибо он велел им вернуться
После того, как они побывают по ту сторону яви.
А двое других пролетят над кипящей бездной
И не коснутся ее – и будут вечно печалиться,
Что не исполнили заповеди учителя,
Ибо не побывали по ту сторону яви.
И только девятый, оттолкнувшись левым мизинцем
От кипящих пузырьков – улетит в будущее
И поймет, что и он не исполнил заповеди учителя,
Ибо ее и не надобно исполнять,
А просто ею, словно вязальным крючком,
…
ЗА СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬЮ СЛЕЗА В СЛЕЗУ
каменья в куншткамере разглядывая
Голубой брызжет из-под ресниц Прелесты,
Светится в васильках на ее кудрях
И тягостно перетекает в синюжно-синий –
Под цвет мундира почтмейстера,
Приносящего письма от любимой –
Такие упоительные, такие редкие!
Розовый просвечивает, словно ушко Плениры
Под лучами рассветного благоволения,
Как башмачки, что она носила отроковицею,
И долго густеет и запекается,
Становясь красным, пурпурно-красным, как кровь
Из рваной раны над правой бровью супротивника,
После дюжины кружек рдеющего бордо
Посмевшего усумниться,
Что Пленире нет равных в Питере.
Зеленый мерцает и растекается разводами,
Словно малахитовая столешница столика,
За которым отвел душу элегиею
И, проигравшись, подписал оборотный вексель,
И робко сочится дымчатой празеленью –
Точь-в-точь мох на безвременном камне
Над Миленою, умевшею быть верной,
Но не посмевшей преступить волю родителей…
А белый… Впрочем, какая уж тут фата
И подвенечное платье из Первопрестольной,
Когда Милена в могиле!.. А черный
Осыпается пеплом с руин счастия,
Мечется галками над ее отпеванием
И более ничего не значит.
слушая рассказ монахини
В угловой башенке монастыря
Рядом с часовней во имя образа Всех Скорбящих Радости
Как раз насупротив кельи игуменьи
Скорбная монахиня жительствование имеет,
Томные флоксы поливает
И на исходе маия с особливым рвением молится
Перед древней иконою Константина Равноапостольного.
И когда под осень, алую лампаду затеплив,
Игуменья назначает ей послушание –
Вышивать бисером фелонь и пелену напрестольную
(В том она преотменная искусница)
Она садится и трудится, но иногда замирает,
Словно кем-то нежно и нежданно окликнутая,
И иглу до узора не доносит,
И на щеках ее, бледных, словно мартовский снег,
Забытый румянец проступает –
Такой пылкий, мирской (прости, ей Господи!).
И когда соседние трудницы
Окликают ее: Что с тобой, мать Евлалия?
Она оборачивается, не успев поприкрыть ресницами
Блаженство, очам ее представшее,
И келью обводит взором изумленным,
Словно не понимая – кого это спрашивают.
И долго не хочет в поклоне переламывать
Стан свой, в стансах и сонетах оставшийся
И рука ее в забытьи к печальной груди тянется,
И письма от милого ищет, и медальон, от коих
Давно отреклась, как и от имени «Элоиза» -
И только от нежной памяти не смогла отречься,
Как ни изъязвляла чело поклонами.
Ты уж прости ее, Царица Небесная!..
в роще прогуливаясь
Скатный жемчуг и брызги росы утренней –
Вы милы и для глаз отменно приятственны
На рытом бархате и листве атласной,
Но вами пускай другие любуются
А я не унижу тщетным сравненьем с вами
Слезы из очей Миловзоры и Лизаньки!
Как они светятся из-под ресниц вздрогнувших,
Обещая верность До и После могилы,
Поутру в день венчания затмевают
Сиянье паникадил и шандалов
И в дорожную пыль при разлуке капают
Точкою в конце мадригала.
Земля российская умела любить и верить,
Но – плакать… Плакал отрок, забывший
Осьмой стих в двунадесятом псалме,
Плакала вдовица, меж двор прося подаяние,
Голосила вопленно по убиенном сыночке мать
Да рыдал, шапку о семи соболях топча,
Боярин, коего за царской трапезой пересели.
Но так – плакать от полноты сердечной,
От умиления, от голубиной ласки,
От письма милой, под вечерний благовест прочитанного –
Увы, вам, гордых славян правнуки!
Да что там плакать – даже писать, как надобно
Это блаженное, это чистое слово «слезы»
Не разумели ваши чопороные начетники
И подъячие, перья о плешь чистившие.
Так что и за это – благодарный поклон
Незабвенному Николаю Михайловичу.
отстояв обедню
Зажги свечу на пироге именинном:
Их много, а ты зажги особливую –
Нежно-розовую, хрупкую, тоненькую,
Как стан твой в пятнадцатую весну, как счастие,
Чью полуразбитую несбыточность
Она воском оплывающим оплакивает.
Зажги свечу на окне полуночном:
Пусть ее пламя – встрепенувшееся,
Как сердце твое вечор в мазурке –
Протянет бледные пальчики лучей
Прямо во тьму твоему милому,
Чтобы он взором истомившимся
Перецеловал их – и в уголке зрачка
Унес твою тень в просвете между гардинами
И до утра в смятых сиренях блаженствовал,
Извлекая из ножен и кошельков доводы
Противу недовольства волкодавов и сторожей.
Зажги свечу Победоносцу Егорию,
Когда милый прыгнет в седло – и эскадрон тронется
Полошить палашами Полумесяц,
Свободить христиан, цыганкам в степи подмигивать
И подставлять под фелицыны каблучки
Измаил с Очаковым – и иные ступеньки славы.
А когда фельдкурьер. Перекладных загоняя,
Привезет эстафет о достославной виктории,
И протодьякон, благодарствие возгласив,
Милого за упокой помянет –
Не падай в обморок (он не любил этого),
А раздай нищим приданое – и в дальней обители
Присмотри себе келью, и, принимая постриг,
Зажги свечу.
за ломбером
Верному наперснику полагается
Сердце чувствительное, голос ласковый,
Прищур сквозь лорнет (лучше всего двойной),
Бледность меланхолическая
И терпение, особливо терпение!
А еще ему непременно надобны
Камин с кованой аугстубргской решеткою,
Напоминающей сны или задушевную доверительность,
Креслы, а еще лучше – канапе-угол для друга,
Память, в Эммина и Стерна вцепившаяся,
И губы, хранящие очертания фразы:
- О, коль блаженно дружество!
Верному, искреннему наперснику
Очень к лицу кротость и снисходительность,
Профиль эллинский, кудри слегка взъерошенные,
А не коса в кошельке с бантиком,
Полуоборота на каблучках изящество
И как можно меньше звезд на камзоле,
Дабы не поцарапать ланиты друга
Перед долгой (может быть – роковой…) разлукою.
А еще ему потребен галантный слог
И садовник, лелеющий рденье роз
И лилии, непременно лилии! –
И приносящий барину в Троицкую субботу
Охапки сирени, которые непременно надобно
Положить на омытый слезами камень
Над вечным покоем друга: ведь это
Последнее утешение, а наипаче – долг
Истинного наперсника.
сбираясь на званый вечер
А знаете – я совсем не хотел верить,
Будто от любви умирают,
И улыбался, ветхую шагрень гладя,
Усматривая нечто совершенно противоестественное
В объятьях Эрота и ангела смерти.
Но – как же тогда мне быть с облачком
В речной дремоте, в котором просто грех
Не узнать длинный белый рукав утопленницы,
С березовой вязью, сложившейся в имя «Варенька»,
С Лизиным прудом, в котором ивы купаются,
А лебеди из рук берут бублики,
И с Марьиной рощей, разумеется?
И когда липы Кускова или Архангельского
Кисточками текучих теней на дорожках
Милые профили выписывают –
Я узнаю их, узнаю сразу же,
Словно они только что соскользнули
С разрумянившихся ланит и бровей смутившихся
Читательниц «Аонид» и «Аглаи».
И как только в Димитриевскую субботу
Старенький дьякон дребезжащим баском затягивает:
- Помяни, Господи, усопших рабов Твоих…
Я невольно подсказываю: Софью, Елизавету,
И Нину, и Эраста, Эраста…
И впрямь – им достаточно просто имени
Да обжигающего, как поцелуй, эпитета «милые».
Все прочее – совершенно не обязательно.
майским закатом любуясь
Позвольте, я присяду в эти протертые кресла
И, вздохнув вполгруди, соглашусь с вами,
Апостолы нежной чувствительности:
Любовь – доблесть, на земле едва ли не высшая
И, прежде чем обронить на лист с филигранями
Перьвую строчку правдиво-печальной повести,
Где героинями почитаются Элоизы и Софьюшки,
Влюбленные в Леонса, изредка – в Парамона,
И в Эраста, в Эраста, разумеется! –
Право, совсем не грех полистать
Скитские патерики и апокрифы о достойнейших,
Чтобы милые саженцы меланхолии,
Шагреневыми корешками кичащиеся
По обе стороны Ла-Манша,
На Руси прижились и распустили листики
Несумнительных агиографических подробностей.
И пусть эти листики между страниц высохнут
И прожилки на их душистой ветхости
Поведают, что милые сыздетства были задумчивы,
Любили левкои, нянюшек и партесное пение,
Взоры имели томные
И полюбили после первого же из них,
Но родители – особливо мачеха –
Воспротивились, предоставив им выбор:
Жить в разлуке или сойти в Аид вместе.
И они – выбрали! Боже милостивый!
Уж если ты попустил им сделаться самоубийцами –
Не изливай на них чашу суда людского ,
Ибо – не ведали, ибо – были не в силах
Отчленить одну половину «я» от другой,
Ибо – слишком любили, а любовь – Ты ведь знаешь – доблесть,
На земле едва ли не высшая.
НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ
Предвечный уврачует души паствы
От скверны, избирая монастырь,
Как цельбоносный милостивый пластырь,
Наложенный на суетный пустырь
Пространства, исполняющего волю
Владычеств, вожделений и услад,
Обитель духа предавая полю,
Как руки умывающий Пилат –
Спасителя под бич легионеров
И злобной скверной брызжущие рты,
Чтоб душ людских оцепеневший нерв
Распятьем исцелить от слепоты.
И вот она, повелевая жестам
Окончиться у левого плеча,
Стоит, как неневстаня невеста,
Как господу зажженная свеча,
Лучи которой, претворяя меру
Стихий и долов в благостный напев,
Любовью чистой поверяют веру
Пред образом Смоленским Девы Дев,
Где не прейдет евангельское слово,
Где так легко не ради плоти жить
И в сердце книгу яви заложить
Травинкою с могилы Соловьева…
ПЛЕНИРА
Ах, поручик, об вашей об отваге
Всем и так уж известно с давних дней:
Что ж вы лезете под картечь, на шпаги –
Или в рай вам угодно поскорей?
Лучше пейте! Ведь вы – пиит и воин:
Ваши вирши – и в «Трутне», и в «Пчеле».
- Я Пленирой пленен – но недостоин
Этой светлой отрады на земле.
Ах, поручик, да что ж вы так сутуло
С пистолетами возитесь опять?
Свою грудь лишь под вражеское дуло
Офицеру пристало подставлять.
Пусть денщик скусит пулю: он спокоен
И умеет Лепажи заряжать.
- Я Пленирой пленен – но недостоин
Даже веер ее поцеловать.
Ах, поручик, уж март весну встречает:
Черт понес вас галопом да по льду.
Ваша матушка в вас души не чает
И не вынесет этаку беду.
Лучше пейте! и – слово офицера –
Мы давно уж не слышали ваш смех.
Разогните-ка к вечеру Вольтера:
Он ведь пишет, что время лечит всех.
- Я Пленирой пленен – но недостоин
Станцевать с ней житейский менуэт.
Что мне время? Коль нет ее со мною –
Кто мне скажет: живу я или нет?
КЛАРИССА, или ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ
В гордыню геральдики слегка влюблена луна
И бусинки барбариса,
Куда ты уходишь по кромке прибоя сна,
Умненькая Кларисса?
Над склепами Стюартов кружится воронье,
Но о гребни церковных кровель
Все равно распорол надменное горло свое
Железнобокий Кромвель.
Иисусовы заповеди купает лондонский свет
В постельной и винной пене,
А у чистой души за душой зачастую нет
Кроме веры, ни четверти пенни.
Но солнце недаром карабкается в зенит,
Целуя дольнее лоно,
И все еще сбудется, ибо счастье твое звенит
Шпорами Грандисона.
Из ярдовых ямбов он слагает сонеты миль
Вслед Галлеевой долгой комете
И оставляет сентиментальную пыль
В сердцах всех дев на свете,
Кроме тебя. Ты с ним избери тропу к алтарю,
Ибо выбор и суд Париса –
Единственно верный: это, как брат, тебе говорю.
Умненькая Кларисса.
ЖИЗНЬ КАК ФАРС И РОКАЙЛЕВЫЙ ЗАВИТОК
ТАБАШНАЯ НЕВОЛЯ
Сын тишайшего, как ты люб и крут!
Под каблук твой Московия простерта.
А ей-богу, раскольники не лгут:
Дым пускать изо рта – потешить черта.
Образа осуждающе глядят,
Но в себя государю не забаву
Неотменно придется – рад не рад –
Набивать эту бесову отраву.
Дым не хочешь глотать – так истолки,
И, с негаданной встретившись прорухой,
Жуй, покуда не вывернет кишки,
Или в ноздри набей и нюхай.
Царь велел – а ему всегда видней:
В заграницах он до седьмого пота
Спину гнул на закладки кораблей
И уродов в спирту привез без счета,
Вник во все и на все теперь горазд
И к боярской погибели он вскоре
Непременно такой указ издаст,
Что е просто укор – а горем горе.
Ведь и так уж по горло в срамоте,
Да спасибо, хоть немцы меру знают,
И зазорное это декольте
До подола пока не прорезают.
И парик не беда, коль череп гол –
Царь небесный за это не осудит.
А недавно суровый слух прошел:
Государь скоро в Индию отбудет.
А уж там-то средь башен и словнов,
Как Никитин писал в былые годы,
Все как есть щеголяют без штанов:
Слишком жаркие, вишь, у них погоды.
Царь и это мотнет себе на ус
И его искупает в звонких чарах,
И любой иноземный стыд и вкус
Первым делом проверит на боярах.
Вот тогда-то позора не избыть,
И вспомянуться шуточки Европы…
Нет, уж лучше обратится да курить;
Ну-ка трубку боярину, холопы!
ШУТЫ
Куда деваться от этой срамоты?
Опять, в ендовы и бубны приударяя,
Среди застолья бесстыжие шуты
Скоромным видом потешат государя.
Да, отовсюду их бесы нанесли:
Тот – бас, звериный, тот – ирод шестипалый,
А этот нехристь откуплен из петли,
А рядом с ним – Голицын, князь бывалый.
Тот спит под лавкой, тот клянчит рубль на чай,
Дать жаль, а нет – расставайся с бородою,
А в эту рожу заглянешь невзначай –
И впору очи промывать святой водою…
А этот речь проведет про умолот,
Подсядет рядом и смотрит так учтиво,
А отвернешься – за шиворот нальет:
И слава Богу, коль это будет пиво…
Ну, что за шутки, когда холопий сын
Перед иконами Вакха представляет
И вдоль боярских высокородных спин
На четвертеньках да с плеткою гуляет?
Всю эту бу нечисть скорей в рекруты сдать
Аль в Соловки отослать на покаянье –
А тут старайся погромче хохотать:
Благодарим, мол, за царское смеянье!
Да царь и сам-то (хоть и грешно сказать,
Да, видно, вправду стих Пустосвята сбылся…)
Сам учинился шутам своим подстать,
Все к иноземцам душою прилепился.
Ему по нарву зазорный сей галдежь:
Сидит, как шкипер, да шевелит усами
И так глядит, что не сразу и моеймешь,
Кого в сей зале
Считает он шутами…
ЛЕВКОИ
И снова левкои,
Виновато потупив ресницы
И ветхие стиллебены в резных багетах дразня,
Застенчиво-бесстыже, как камеристки Фелицы,
Поглядывают на меня.
И вновь менуэтсвуют скрипки
Осьмого на десять века,
И Пчелы с Трутнями вязнут, нырнув в европейский мед,
И в паричке пудреном некий парнасский калека
Растапливает камин
Выспренним пламенем од.
И дамы – обворожительные,
Как сколок с парижской мерки,
Впорхнув и втиснувшись в позы Левицкого и иных,
Протягивают мне насмешки и табакерки –
Но мне уже не до них.
Перу надоело
С моцкворецким шармом
Размашисто грассировать возле Парни с Грессе,
Суворовской тенью кланяться фридриховским казармам
И шелестеть в гравюрах,
Как мышь в овсе.
А на прощанье – зайду
В рокайлевые покои,
Где аахенский механикус трели подсказывает соловью,
И в богемский кристалл, где доцветают левкои,
Свежей воды налью.
ФЕЙЕРВЕРКИ
Не спесивься, аргон в плену стеклянном
И неона холодный пересверк:
Погляди, как размашисто и рьяно
Полыхает петровский фейерверк,
Как, фортуны избранных окаянный,
Во дворцы заходя, что в свой ломбард,
По червонцам Бирон шагает с Анной
Вполприщура взглянуть на блеск петард…
…Нет, довольно в баталиях и спорах,
Истерзавших земную благодать,
Изводить понапрасну жаркий порох:
Он ведь может светиться и писать,
И фрегаты, и башенки, и лица
Без чернил и пастелей выводить,
И змеящимся вензелем Фелицы
Пыл сияния северного скрыть,
И вразлет пред самой Елисаветой,
Столь охочей до кантов и чудес.
Расписаться искрящийся ракетой
По аспидному бархату небес,
И, презревши конфузы и невзгоды,
Заглянуть в ледяной потешный дом,
Продымив Ломоносовские оды
Кунерсдорфским и хотинским огнем,
И, спеша во чины или на плаху,
Поглядеть, что готовит нам судьба –
И пуская, замолитвовав со страху,
Староверы полезут в погреба.
Пусть… Лишь только б звезда твоя и сила
Проблеснула на миг из цепкой тьмы.
Что ж с того, что Пальмире бы хватило
Н; год этого воска и смолы?
Жизнь мелькнет, словно искра золотая:
Нынче – случай, назавтра – лихолеть.
Так, судьбину за вечер прожигая,
Ужли свечи да золото жалеть?!
Сгиньте, недруги, скорби и недуги:
Не навеки душа у вас в плену!
Пусть вспорхнет и рассыплется лусткугель,
И нырнет, зашипевши, под волну,
А пока он летит слепящей тенью –
Мир прекрасен в чаду своих утех!
Так трещи, фейерверк, и дли мгновенья:
День грядущий застанет нас не всех…
ТРОПА К СЕБЕ
ЗАНОВО
Ронять на календарь то кровь, то пот,
И путь свой обреченно-честно вымостить
Высокой бесполезностью забот
И неотвязностью необходимости,
И, словно прах скитаний – на порог,
Стряхнуть с души случайные пристрастия,
И все, что в мире зачерпнет зрачок,
Испить до дна, как горькое причастие,
И стать причастным к лепету дождей
И к танцу голубиного пророчества,
И опираться на тропе своей
На неподъемный посох одиночества,
И – с трепетом сломать его
О взгляд
Той, в твою душу заглянувшей, скромницы,
Что сквозь тщету утрат или отрад
К судьбе твоей нечаянно притронется,
Песочные часы перевернет,
Прошелестит случайными страницами
И – заново судьбы твоей отсчет
Начнет, взмахнув пушистыми ресницами.
ЧТО НАС ЖДЕТ
Ни холодка разлуки, ни неотвязной печали,
Предречено-негаданной, как первый снег на Покров,
Не было в той старинной церкви, где нас венчали –
В самом благословенном
Из россыпи моих снов.
Строгий покой с купола стекал тиховейной дремой
И радость кружилась в мареве потрескивающих свечей,
И милая была ослепительно-незнакомой
В струящемся платье.
И пес сидел рядом с ней.
И длани святителей простерлись над ней из мрака,
И розы позолотила странного света струя.
И я удивился: откуда в церкви собака?
И – вдруг оказалось,
Что эта собака – я.
И кольцо обручальное на пальце моем стало
Разрастаться, позванивая, словно колокола –
И милая вошла в него, словно проем портала,
И ветхую книгу
Бережно принесла.
И я еще слышу, слышу, как шелестят страницы
И как скрипит золоченый кожаный переплет.
Господи, почему сон лишь однажды снится!
Что мы прочли в той книге?
Господи, что нас ждет?
ЖАРЕНЫЙ АРАХИС
Китайский запах жареных орехов,
Открещиваясь от родства фасоли,
Звучит, как кулинарный гимн успехов
На поприще преодоленья воли
Зерна к совокупления с землей.
Его впускают в ноздри по спирали
Те, кто во многолетье поневоле
Аскетами-подвижниками стали
На поприще попранья жадной воли
Зубов к орехам, стомаха – к белку.
Их имена, уставшие скитаться
По плотям и устам в мирах без края,
Раскрыты, словно строки медитаций,
Твой дух неторопливо приглашая
Совлечься эго и прозреть Себя,
И ауру избавить от огрехов
Средь сонмов душ в надвременной пустыне,
И полугорстью жареных орехов
Немного притупить клыки гордыни,
Торчащие из строк твоих и глаз.
Но твой язык как чинный медиатор,
Коснувшись струн скептического долга,
Поймет лишь то, что повар-медитатор
Орехи дзэна чистил слишком долго
И противень в огне передержал.
МАРКЕТРИ
День за днем прорастаешь
Сквозь дороги и календари,
Не спеша примеряешь маски, мантии, рубища, тоги –
И себя набираешь, как старинный паркет маркетри,
Из самшита покоя и карельской березы тревоги.
И орнаменты рока
И скитаний твоих лепестки,
И все то, что ложилось и заполнило душу до края,
Снисходительно топчут лапти, шлепанцы и каблуки,
О наборные розы равнодушный прищур вытирая.
А когда проступает
Твой единственный, главный узор
По наитью любимой на ладони счастливого часа –
Кто-то вдруг на паркете разжигает чадящий костер
И стирает пеленки или жарит кровавое мясо.
И тебе остается
Только вспомнить забытый свой грех,
Подбирая устало обгорелые щепки сандала,
Как застывшие слезы и вчерашний обугленный смех
И судьбе поклониться – и с улыбкой начать все сначала.
Набирая бутоны
Или райских павлинов крыла,
Или россыпи ягод из блаженного детского бреда,
Чтоб по ним поскорее твоя дочка вприпрыжку прошла
И смеясь рассказала все, что сам о себе ты не ведал…
НА КРАЕШКЕ БРЕДА
На самом краешке бреда
Как в вольтеровских креслах, пристально посижу,
Пока свои стиллебены неспешно-подробный Хеда
Поставит на спинку котенка, танцующего по ножу.
И в башне замшелой скрипнут стрельчатых окон створки,
И филин плетеную лестницу протянет на мой зов,
И апельсинные гроздья цыганских романсов Лорки
Архар принесет на ритонах надтреснутых рогов.
И безголовые гуси стрелой с отсыревшего лука
Вспорхнут – и уткнут в грязь фонтаном плеснувший страх,
Стряхнув кровяные бекары на партитуру Глюка
И на хитон Орфея от выхода в трех шагах,
И шмель шепеляво-шершавый – инопланетный робот –
Над воплем моим расправит витражное крыло
И в шею мою отпрянувшую запустит такой хобот,
Какой не снился ни Босху и ни Калло,
И ящерица-русалка, хвоста расправляя звенья,
Блеснет наготой обморочной и позовет в грех,
А липкие спрутовые щупальца омерзенья
Горло мне обовьют и выдавят только смех,
Который едва-едва
Всколыхнет студенистую жижу
В чавкающем болоте, всосавшем мой век и след…
Ах, господи, откуда я все это помню и вижу –
Ведь я еще не заглядывал
Под твое опахало, бред?
И почему мне просвечивает явь недоступно иная,
Как строки на палимпсесте, и приглашает опять
Пройтись по твоим чертогам,
Узнавая и вспоминая
Все то, о чем я не помню и не могу знать?..
ПО ТЕЧЕНИЮ
Звуки не трогать, не мешать прорастать в словах
Тени любимой
И предвечному их значенью,
Не обрекать мышцы на тщетный взмах:
Плыть по течению.
Рядом с собой угадывать в медлительной быстрине
Лики и жесты служивших
Благости и отречению,
И, задевая ресницами клочья веков на дне,
Плыть по течению.
И, со скалы соскальзывая в предвечную Пустоту
В зов ее зева,
Дарящий и обрекающий,
Ни за соломинку, ни за вопль, погасший во рту,
Не цепляться душой
В яви, зрачки обтекающей.
И из ее осколков выплеснется на ил,
Чья бахрома обшила двух истин пересечение,
Тот, кто в тебе обитал
И весь век исступленно плыл
Против течения.
СТЕНЫ
Сквозь розовую, изрезанную прожилками
Стену лепестка войду в розу и в гладиолус,
Сквозь зазвеневшие трещины хрусталя – в вазу,
Сквозь стену сосулек и ресниц первых травинок
Войду в весну: в ее разомлевшем долгоденствии
Так хорошо читать ветхие книжицы
И сквозь обкрошенные стены их рыхлостраничности
Входить в любые чертоги и времена,
Чьи строители записали свои надежды и знания
Пророчески беззащитной вязью храмов,
Сквозь стены которых я тоже непременно войду
Скорее всего – затем, чтобы опять убедиться,
Что их внутренняя удушливая ослепительность
Мне так же чужда, как и внешняя скудость.
Сквозь стену тьмы войду в Свет,
Сквозь стену слова – в предвечную неизреченность,
И обязательно выломаю руками или молитвой
Стену пространства, стоящую между мной и Светом,
Ибо лишь Свет, и ничто иное,
Поможет мне одолеть стену Бесцельности,
Стену Предсмертия и стену Ухода,
И – одну за другой – все остальные стены этого
На редкость старательно разгороженного мира,
Одолев предпоследнюю из которых,
Я упрусь душой и лбом в самую несокрушимую,
Но одолеть ее и шагнуть Сквозь и За
Уже не смогу – не потому, что измучился
Или бросил на полдороги лом и молитву,
А всего лишь потому,
Что ее просто не существует.
АПОЛОГИЯ
Как упоительно, когда цветы
Растут из всех обрядов и обочин
И отменяют формулу запрета
Спасительным призывом – быть собой
И в пустоте небесно-голубой
Не ожидать и не искать ответа
У тех, чей дух небесным озабочен,
Не замечая звезды и кресты.
Левкои млеют, ландыши звенят,
Жасмины жмутся к чистому уюту
И розы исцеляют от печалей
Явь, сбросившую рубище веков.
А странники из сада мудрецов
Уносят вечность на шлепках сандалий
И пьют уста любимых и цикуту,
Богов благословляя и за яд.
И все, что было, канет в свой черед,
Просыпав пепел памяти и веры
На лики, откровения и раки
Из старых трубок Хеды и Петра,
А бытие рожденной из ребра
Спасает дольний мир, пока во мраке
У стоп Пречистой, голеней Венеры
Хотя б один бутон еще цветет.
ЕСЛИ ЧАСТЬЕ
Если счастье заключено в ласковом ливне,
Наполнившем изжаждавшиеся нивы и ивы над мостиком
И смываешь пыль с тысячелетних стел –
Оно ускользает с последней его капелькой.
Если счастье – это неумолимая правда,
Полная, словно чаша благоволения,
Значит, под луной нет никого счастливее
Смертника, обреченно знающего,
Что его цепь состоит из семидесяти трех звеньев,
Которые прогремят о придорожные камни
Ровно сто девятнадцать раз – по числу шагов к плахе.
Если счастье обитает в косах любимой
И витает над явлью на крыльях ее ресниц –
Значит. Оно испуганно упорхнет в прошлое,
Когда любимая уйдет следом за колокольчиком сердца,
Звенящим так ласково, но – не о тебе.
Если счастье обручено с умением
Читать письмена созвездий и книгу Ветра Облаков,
Значит, все простертое и реющее под ними
Лишено всякого смысла – и тщетно
Колосится рис, пляшет пламя, журавль взмывает
И караван ниточку пространства разматывает.
Если счастье – это непреходящая молодость,
Бесконечная, словно цепочка бывших и будущих воплощений,
Значит, он зря заводит речи о счастье –
Этот старик, принесший в хижину отшельника
Лепешку, свиток стихов и тысячу восемь лун…
А он ведь был счастлив – иначе откуда же
Взял он, что поистине счастлив лишь тот,
Кто просто был тем, тем он пришел в мир
На этот раз – и так ни разу и не задумался:
Что же такое счастье…
***
Когда в глазах стоят слезы – им ни к чему холсты
И перышки рифм, и командорский шаг прозы;
И тщетны любые заповеди, а розовые кусты
Распускаются втуне,
Когда в глазах стоят слезы.
И простертость трехмерная кутается в пелену
И так боится и хочет обрести четвертую меру,
И сосны ее и храмы вписываются в одну
Вогнутую полусферу,
В самом центре которой – упоение или боль,
Выдавливающие из сердца и из глазной орбиты
Обморочно-бессонную соль
Для просфоры бытия и каравая быта,
Которые так мучительно пережевывать и глотать,
И, судьбу вталкивая в случайные маски и позы,
Помогать взгляду
Во всем читать Благодать,
Даже когда в глазах стоят слезы –
Лучистые, словно фаустовский кристалл,
Вбирающий сны, хранящий память иную,
Чтоб душе посветлевшей хоть на мгновенье предстал
Свет исцеляющий,
Заполняющий явь земную…
ЭККЛЕСИАСТ
Трудятся стрелки и капли,
Но душе ничего не даст
Тщательность умножения и вычитанья сроков
Ибо все утекает в будущее, ибо Экклесиаст –
Более всех пророков.
Ибо приходит время дарить и яд, и сирень,
И время избрать ложе и поклониться порогу,
И время сбрасывать с плеч
Свою неотвязную тень,
Словно изношенное кимоно и тогу,
Чтоб ее за тобой поднял и залатал
И ею облек водопад улыбок своих и жестов
Тот, кто умеет в связках плескать металл
И лукаво покачиваться в качалке блаженства,
А тебе она больше не ко времени и не под стать,
Ибо твои ходики и клепсидры
Показывают время
В иной предел прорастать
И обрубать скверны, как головы лернейской гидры,
Которые вновь отрастут и наполнят рты
Кровью детей, опиумом и непреложным заветом,
И ничего не изменится –
Просто отныне ты
Будешь ни духом, ни сном не повинен в этом,
Ибо закат подводит розовую черту
Под тяготеньем звездных зверинцев к востоку,
А камень через плечо брошенный в пустоту,
Через миг или век обыщет твою щеку,
Ибо слово вымпелом хлопает и давит, словно балласт,
А устье не забывает спиральный выплеск истоков,
Ибо не все бессмысленно,
Ибо Экклесисаст –
Более всех пророков.
ИМЯ
Белизна вопиет о пере обленившемся
И о снеге, исчерченном скрипами лыжными.
Тишина вопиет о гавоте приснившемся,
На прощанье небрежно увешанном фижмами
Зеркала, торопливые тени и облики
Провожая, взывают об их ускользании,
И скала, утонув в нахлобученном облаке,
Вопиет о лазурном надмирном сиянии.
Немотою томясь, опустевшая звонница
Вопиет в Рождество о несброшенном инее,
А моя, исцелившая душу, бессонница
Вопиет о любимом светящемся имени,
О котором немоствует торжище дольнее,
В зазеркальный предел белой музыкой вплавленное,
И витающий снег над пустой колокольнею,
И скала. В бирюзовую дрему оправленная.
И пока оно светит нездешним сиянием
Средь воскресших святынь и распада московского,
Я не тану его осквернять называнием
И шепну лишь: - Читайте баллады Жуковского…
ЕВРОПЕЙСКИЕ БУРЛЕСКИ
МИЛАЯ ФРАНЦИЯ
Милая Франция, как ты роскошно устала
От Ришелье, гугенотов и всяких Луи!
Сколько размашистых шпаг и иного металла
Вгрызлось в дворцы, равелины и груди твои…
Ах, как к лицу трехлилейному солнцу корона,
Если глядеть сквозь фужерное это стекло,
Вечер прободрствовать с бурным бурлеском Скаррона
Или вздремнуть от ехидных сатир Буало.
Дамы твои кардиналов умело ласкали,
Федру в фестоны и фижмы рядил сам Расин,
Маршалы бились, писали Рамо и Паскали,
И Куперен вдохновенно терзал клавесин…
Ах, отдохни, помолись или душу порадуй
Милой прогулкой с Ватто по Версалю. И пусть
Чванные квакеры вновь завладеют Канадой,
Мудрость Христа и Давида твердя наизусть.
Ты поброди беззаботно в Ронсаре, в Корнеле,
Стяги заштопай и ржавчину вытри со шпор,
И оброни в акварели свои и пастели
Все, что забыли поведать Дидро и Шамфор.
Темным бордо своим спаржу запей и капусту,
Выспись блаженно, покуда листки Аруэ
К славе готовят Марата, Дантона, Сен-Жюста
И Робеспьера, - и прочих достойных месье,
Тех, что в старушечьи мягкие, дряблые вены
Франции милой вонзив якобинский ланцет,
Изобретеньем механикуса Гильотена
Деве-свободе готовят непостный обед,
Чтобы она пировала под буйные клики,
Став куртизанкой податливой в жарких руках,
И умерла, истекая, от родов владыки,
Что скоро втопчет ее в окровавленный прах
И распластает судьбу свою в гордом галопе,
Повод Фортуны натянет случайной рукой –
И роковую кадриль по простертой Европе
Милая Франция, лихо станцует с тобой.
ПЛАСТИКА БЛАГОДАТИ
ИЗОГРАФ СИМОН
Ах, Симон, Симон, куда ж ты бродил взглядом!
Разве место твоим брюхатым немчинам,
Объевшимся ливера и ветчины, рядом
С апостольским тяблом и диесусным чином?
И неужели эти оплывшие телеса,
Лелеемые купчихой или арбатской просвирней
Хоть что-нибудь душу за собой позовут в небеса
К предвечному свету, к славе надмирной?
Ну, кто ж тебе поверит, будто эти кудрявые
Парни из Китай-города, бабники и пропойцы,
Чуть-чуть присерьезнившие губищи свои лукавые –
И есть истинный образ
Живоначальной Троицы?
А может, твои кисти не слишком и повинны
В том, как плеснулась охра и растеклись белила?
Ведь чванная Первопрестольная Никоновы новины
Все-таки приняла и почти полюбила.
Иному глядеть грешно,
Иному – хоть в пляс – смешно,
И так и тянет скорчить поозорней рожу,
Пока в мехах старинных новое бродит вино
И треплет и корежит оцепеневшую кожу.
А когда оно выплеснется, чистое, как откровение,
Словно душа – скорбью, очищенное брожением –
Губы, хулу извергавшие, прошепчут благословение,
И пальцы сами сомкнуться трехперстным сложением,
Как будто уши, оглохшие в дольней грязи и сраме,
Вдруг различили оклик ангельского напева –
И к незрячим глазницам чуть прикоснулась перстами
Ослепительно-незнакомая
Пречистая Дева.
ДЬЯЧОК
Возле церкви Троицы на Пятницком кладбище.
Где который уж год спит моя бабушка,
Так любившая подставлять душу
Под знаменный распев и напев Оптиной пустыни,
Горбатенький седобородый дьячок,
Родившийся еще при последнем царе,
Протянул мне крашеное яичко
(Была Фомина неделя),
Сияя такой ослепительной радостью,
Какую мне, наверное, не испытать никогда,
И тихонько сказал:
- Христос воскресе!
И, поклонившись, тихонько пошел на паперть,
На вывернутую ногу прихрамывая
И обратив к ветру серебристо-белую бороду,
Длинную, словно свитки с пророчествами
В десницах отрешенных святых,
Распятых легионерами за Назаретского плотника
Или принесших в Рим весть о его воскресении,
Или вкупе с александрийскими толковниками
Принявших догмат Троичности,
Ариан проклявших и утвердивших те самые
Никейскую эпакту и вруцелет,
По которым и ныне отсчитывает Пасху и Троицу
Этот ветхий дьячок, чьею скрюченной дланью
Византийские паламиты и ассирийские столпники
И киевские насельники ближних пещер
Положили в мою ладонь это яичко,
По-крестьянски крашенное луковой шелухой.
А я, словно окликнутый кем-то из запредельности,
Так и не успел в ответ ему поклониться
И просто поглядел вслед этому
Праведнику, труженику, хранителю истины –
И на бабушкиной могиле помянул этим яичком
И ее, и тех, кто в последние десять веков
Русскую землю строил и заслонял ее
Грудью и молитвой от скверны и одичания –
И скорлупа, в пальцах моих треснувшая,
Отшелушилась на дотаивающий леденец льда,
Как смальтовый покров Одигитрии
Со сводов Софии Киевской…
ЛАВРОВЫЙ ВЕНОК ФАУНЕ
БЕСТИАРИЙ
СЕКВЕНЦИЯ ПРИГЛАСИТЕЛЬНАЯ
Негоциант из Кельна и Равенны,
На перец и имбирь поднявший цену,
И ты, в бою изрубленный калека,
Живая четвертушка человека;
Румяно-бритый ксендз, несущий свято
Прелатства крест и тяжесть целибата
При помощи двух прихожанок Божьих
И трех малюток, так на вас похожих;
Супруги мастеров и подмастерьев,
На чьих чепцах – букет павлиньих перьев,
И вы, в любом краю не иностранцы –
Иоанниты и доминиканцы,
И те, кто смехом глотку надорвали,
И те, в чьих душах благовест печали –
Зайдите к нам: у нас – верблюд и кречет,
Поет цикада, кобра жало мечет;
Ждут лицезренья ваших и суждений
Посланцы трех вселенских измерений,
И вы прочтете в письменах их плоти
Фантазию Творца в ее полете.
Да, это не ковчег прапредка Ноя –
Но мы и обещаем вам иное:
Апостольским числом господних тварей
Вас развлечет наш скромный бестиарий.
ВИНОГРАДНАЯ УЛИТКА
Извольте любопытствовать: огромная улитка!
Она в воде не плавает и ползать не скора.
Но – вот ее старания сквозящая улика –
На листьях виноградника погрызы и дыра.
Она на лозах дедовских, как кости на абаке,
Созданья беззащитные, свисают там и тут –
Но Божьим изволением их не едят собаки
И вороны крикливые и в голод не клюют.
А в солнечной Авсонии под небом Ариосто,
Где кармелитки шествуют босыми круглый год,
Синьоры с синьоритами с ней подступают просто:
Макнут в подливку острую, оближутся – и в рот…
Ползет глупышка скользкая навстречу зубкам лисьим:
А может – это движется, роняя влажный след,
Живой комочек времени, скользящего по листьям
Событий и Евангелий, и наших тщетных лет.
Они вдвоем скитаются по всем земным дорожкам
И дружба из надежнее и старше пирамид.
Притроньтесь, мисс, булавкою, к ее прозрачным рожкам:
Она свернется кренделем, - а время-то бежит,
Спешит судьбу отщелкивать для трав, людей и тварей,
И вы спешите властвовать – Бурбоны, Валуа,
Пока не перебрался весь наш славный бестиарий
На натюрморты Снейдерса и в рот к Гаргантюа…
КОЗЕЛ
Мы его здесь лелеем не со зла,
На мужей на рогатых намекая,
Ну, какая потеха без козла?
Каждый падре вам скажет: никакя.
Он не ценит ни денег, ни чернил,
Пожевав где – олив, где – кипариса.
Он в тимпаны вакханок рогом бил
В непоседливой свите Диониса.
И, копыта поставив на обрыв,
Был и в блеянье мастер преотличный
За охапку соломы уступив
Свое имя трагедии античной.
В спор софистов вникать он не готов,
Но зато упрекнут его едва ли
В том, на что молодых своих ослов
Древнеримские дамы соблазняли
Да, порою смердит он – нету сил!
Но зато ведь, служа не хитрым шуткам,
Одиссея он, встретив, угостил
Его всласть своим жареным желудком.
И как только взгрустнется вам опять –
Крупной солью себе посыпьте пятки
И козел вас заставит хохотать,
Соль оближет – и станет все в порядке.
КОБРА
Курфюрст, не торопитесь кинжал сжимать недобро,
Кюре, присядьте на медвежий пуф:
Смотрите, как прелестна танцующая кобра,
Вкруг шеи опахало распахнув!
Ах, как она ныряет размашисто и шало,
Шипя, как белый лебедь, напоказ,
Швыряя длинный росчерк раздвоенного жала
В звенящий ужас ваших фраз и глаз
Чувствительная фрау, синьора всех нежнее –
И вы, у кромки обморока, мисс:
Хотите – кобра бантик сплетет на вашей шее
И хвостик по груди опустит вниз?
Ах, мерзость, говорите? Ну, ясно, вам виднее.
А вот индус с пятном на смуглом лбу,
На дудочке играя пред коброю своею,
Любил, шельмец, испытывать судьбу.
И где там лыжник с Гарца или лихой испанец,
Стальным клинком кончающий с быком –
Он сидя танцевал с ней неумолимый танец
И даже зуб ей гладил языком,
Жаль, мучался, бедняга, когда он, не обманщик,
Ошибся в первый и в последний раз…
А эта ведь беззуба, как вы, месье шарманщик,
И по годам куда дряхлее вас.
УГРЬ
Не змея и не рыбица – сокровенная тварь,
Как тире протяженное в Божьем миропорядке.
По ночам она светится, как волшебный фонарь,
И каленые обручи плавниками гнет в кадке.
Ах, лукавая панночка, в облаках воркотни,
И квашня-бургомистерша, отложившая пяльцы:
Любоваться – пожалуйте, ручку в воду – ни-ни,
А ни то эта тварь у вас сыщет лишние пальцы.
А в волнах она носится, задевая наяд,
И ворует из раковин блеск туманных жемчужин.
А вот повар эрцгерога третий вечер подряд
Умоляет продать ее господину на ужин.
Разумеется, надо чтить властелинов земных,
Но уж больно и тварь сию уважают зеваки,
А она морду высунет, и взирает на них,
Как латинский грамматикус на китайские знаки
Так что пусть себе мечется, как крещеный еврей,
Между теми и этими берегами людскими,
Мы, конечно же, слышали про копченых угрей –
Но ведь мы не кухмистреры: не торгуем сырыми.
МУРАВЬЕД
Шумный майстерзингер и тощий ландскнехт –
Слыхивали вы о таком муравьеде?
Ну, а если нет, разумеется, нет:
Доставайте денье и мараведи.
В день, когда создатель свой труд завершил
Двери вертограда захлопнувши круто,
Тварям любопытным он нос прищемил –
Вот и вышел он с носом на два фута.
Только этот зверь умывать не привык,
И, змеиным жалом песок раздвигая,
Вырастил себе подлиннее язык,
Чем у вас, мать игуменья седая.
Ну, а вы, почтенный месье винодел,
Вешающий наплечь язык до обеда,
Можете почти устраниться от дел –
Заимейте лишь только муравьеда.
Он, в бочонок рейнского сунувши нос
И нащупав дно у галлоновой фляги,
Мигом разрешит неотложный вопрос
О достоинствах рома и малаги.
Правда, он гурманствовать будет, нахал,
Выпустив в портвейн муравьиного яда,
Да и спиться может, как ваш кардинал,
На зато ведь платить не надо.
КРЕЧЕТ
Бюргеры и синьоры, слышите, как скрипит
Стальная моя рукавица?
Это ее когтит и под колпачком шипит
Кречет – державная птица.
Как грозно она выписывает клювом разящий параф
На крыльях гусиных смятений!
И стоит она, конечно, любезный мессир маркграф,
Десяток ваших владений.
А там, за пенным Босфором, куда однажды и нас
За зверем носила трирема,
Один паша предлагал за кречета, щуря глаз,
Всех звезд своего гарема.
И надо бы соглашаться (сделка и впрямь неплоха!)
Да черт принес тамплиера –
И он пошел нам доказывать весь ужас такого греха,
И – отговорил, холера!
Зато теперь не угодно ли отведать последний стон
И крови дымящийся запах,
Когда крольчонок трепещет, заживо расчетверен
В смертельно сведенных лапах.
Ликуйте, что божья мудрость лишь в двадцать дюймов всего
Ростом ее сотворила:
А будь покрупней эта бестия – всех нас бы до одного
Птенцам ненасытным скормила.
ГИЕНА
Славный Гамбург и Брюгге, и Болонья с Сиеной –
Ведь у вас благородство в части:
Не угодно ли с этой полосатой гиеной
Вам знакомство поближе свести?
В роде – кошка и кошка, вроде нрав ее кроток
Разве только визжит по ночам;
Но она перегрызла восемнадцать решеток,
Пока мы довезли ее к вам.
Мы ее откупили у скитальца араба –
А уж он нам рассказывал всласть,
Что она и ленива, и труслива, как баба,
И охоча до падали: страсть!
Потому и купили. Ведь в Альпийских отрогах
И во Фландрии мор и война,
И куда ни поедешь: на путях и дорогах
Вздутобрюхая падаль одна.
Не ночуешь в трактире, не подступишься к ценам:
Всюду мытарей злых воронье.
Видно, в бедной Европе лишь к попам да к гиенам
Благосклонно бытие и житье…
МЕДУЗА
В античном зное солнцу лень пылать,
И розовое облачко не тает,
Перетекая в свой косматый отблеск.
Еще немного – и в него вольется
Галантная галактика медузы;
Мерцающий осколок протоплазмы,
От внешней ойкумены отрешенный
Ресничкой нуклеарной бахромы
И тенью локонов Пенорожденной.
Вода в воде, не слившаяся с ней,
Смеется над рассудком, что глазам
Претензии тревожно предъявляет
За леность в отыскании границ
Между монадой матовой и мета-
физическим соитием двух газов,
Избравшим форму жидкости. Вздыманье
И оседанье внешнего обвода
Ритмично, как заявка на патент
С изображеньем помпы. Но медуза
Чуждается помпезности. Ей больше
По нраву побывать округлой линзой,
Вбирающей закат – и облизать
Лобзанием безгрешным губы нимфы
Под бушпритом старинного корвета,
В чьем трюме время дремлет, словно спрут,
Мальков ментальной дерзости пугая.
МОРСКАЯ ЗВЕЗДА
Погляди, как отнюдь не от стыда
Пунцовеет в стеклянном тесном мире
Тварь морская, рекомая звезда,
Пять ветвей – или лапок? – растопыря.
Любопытна – очей не оторвать,
Как от злата в алхимиковом тигле!
А скотом иль травой ее считать –
Латинисты покуда не постигли.
Может, это – осколок горних круч,
А верней – нидерландские раввины
Могендовиду обломили луч
И пустили в солнечные пучины,
Чтобы он всякой рыбой детворе
И русалкам, хвостом торчащим в мифе,
Рассказал о Давиде, о Торе
И о гордой красавице Юдифи.
Вот и вы на затейный примитив
Поглазеть снисходительно извольте,
Для начала, понятно, заплатив,
Зильбергрошен, песету или сольди,
Ибо ей не мужицкая еда,
А изысканный ворох пропитаний
И морская свежайшая вода
Непременно потребны – скользкой дрыни.
ПОПУГАЙ
Какие непочтительные звуки
Из клювика разносятся опять!
Он у корсаров плавал на фелюке
И мастер клювом пробки открывать.
А после в клетке вольных приключений
В Московии набрался, обормот,
Таких благопристойнейших речений,
Что даже дыбом лысина встает.
И вас, обворожительная донна,
Что глазками и поступью тиха,
Без «Новеллино» и «Декамерона»
Обучат он всем тайностям греха.
Он не забыл альковые анналы
И оседлает взмах моей руки
Пернатою находкой для фисклов –
Так что не распускайте языки!
И если кто купить его желает –
Мы не запросим лишнего, о нет:
Сей хриплый дьявол слишком много знает
И – Боже упаси! – накличет бед…
ПОНИ
Что за грохот раскатистый наши своды потряс?
Кто там ржет – кирасиры или кони?
Это выпало зрителям увидать в первый раз
Нашу прелесть косматенькую – пони.
Верно, ей, разумеется, не с быком наравне
Плуг ворочить по отчим нивам милым,
И мортиры подтаскивать при осаде к стене
Ей, капризнице хрупкой, не по силам.
Но недаром отпущено каждой твари свое
И флейтисты ведь тоже музыканты…
А какая изысканность – усадить на нее
Семилетние прелести инфанты!
Или бой гладиаторский, римской славе подстать,
Воскрешая зимой под рокот лиры,
Войско карликов герцога в седла пони загнать
И устроить потешные турниры.
То-то вспыхнет побоище – не найти горячей:
Щит – кастрюльная крышка, копья – палка!
Не дочтутся убогие, кто зубов, кто очей,
Да и пони, сказать по правде, жалко.
Глаз лукавый – с прожилками, лучший градусник – нос,
Роскошь гривы затмит любую пряжу.
Подойди, моя умница; вот моченый овес –
Кушай, кушай, а я тебя поглажу.
ЦИКАДА
Нет-нет, сеньор кондотьер: это не меч и щит
Беседуют друг с другом средь бранного раздолья,
И, разумеется, это не в ваших ушах шумит
После ночного застолья,
И ты, паломник, не думай, что это – колокола
Зовут преклонить колени из горнего вертограда:
Это свою альбу в угоду вам завела
Проказница-цикада.
Это она в склянке вашим вниманьем горда,
Внученька той самой, о которой со слов Эзопа
Двадцать веков посмеивается, в греческом нетверда,
Богоспасаемая Европа.
Как сладко она переводит свой си-минор в писк,
Скрипки, как кабальеро, не слишком дружны с гитарой,
Точь-в-точь Августин блаженный или святой Франциск
В часах на ратуше старой.
А если кому не по нраву ее обглоданный вид
Или считать угодно, что писк ее тешит беса –
Она уж скоро кончит: ведь Гамбург ваш – не Крит
Или рощи Пелепоннеса,
Где ей так умилительно расталкивть облака
И навевать крылышками овидиевы туманы,
Скользя по ниточке трелей с правой ноздри Быка
На левую грудь Дианы.
СЕДМИТРАВ
I. ТЫСЯЧЕЛИСТНИК
На опушках непроглядных дубрав
Или в поле чернопаровом с края
Он вассальных не наследует прав,
Золотник блёклых лепестков распуская.
Тот, кто немощью утробной разбит
Или плотью утучняется хило,
Пусть отведает его: он хранит
Победительное имя Ахилла.
Из бесценных авиценновских дат
И с галеновой почтенной страницы
Его тысячи листочков торчат,
Словно копья боевой колесницы,
Угоняющей безмолвной толпой
Род Иакова от высей сионских
На поросшие священной тоской
Берега плакучих рек вавилонских,
Где рыдать Иеремии под стать
Даже внукам – и навстречу туманам
Эти тысячи листочков опять
К незатянутым прикладывать ранам.
2. ЛАВАНДА
Вот и снова, прозрачна и светла,
Как строка легендарного «роланда»,
Предвечернюю даль обволокла
Томной негой лиловая лаванда.
Ей обвит и старинных хроник бред,
И заглавные буквы – для веселья.
Ею, высохшей, как седой аскет,
Тонко веет монашеская келья,
Чтобы мысли греховные, легки,
Не напомнили (сохрани нас, Боже),
Что гетеры и лоно, и соски
Умащали лавандою на ложе.
И, быть может, она, воздев крыла
Напоенного негой аромата,
Целомудренной Руфи помогла
Соблюсти начертанья левирата.
Лишь лаванде присуща благодать
Годы стряхивать с рубища скитаний
И священным дурманом отмыкать
Все врата в кафедрал воспоминаний…
3. КУВШИНКА
Смотри, как в оловянных бликах вод
Чертя свой слабый след, как паутинка
Надтреснувшею амфорой плывет
По облакам сквозящая кувшинка.
В нее роняют зори и века
Падучих звезд мерцающую крошку,
А скользкий венчик трогает слегка
Купальщицы нефритовую ножку.
Венчая струи девичьих кудрей,
Она, всплывая из темницы шаткой,
Чурается плебейских камышей
И распускает свой бутон украдкой –
И утренний отшельник соловей,
Встреча день готической осанной,
Подглядывает вкрадчиво за ней
С плакучих вод, как старцы – за Сусанной.
4. РОЗА
Паломник, смахни с капюшона святой палестинский прах,
Музикус, сбрось с виолы влажные лакримозо.
Имеющий очи да видит, и сразу на всех языках
Восклицает «Какая роза!»
О ней, чалму пиита и суфия свесив до плеч,
Газели и муссадасы слагал персиянин речистый,
И, конечно, она достойна в западном нефе лечь
Первой из первых к золоченым стопам Пречистой.
Гордые храмовники в лучах прелестниц своих
Рубили друг друга надвое таких лепестков ради,
Покуда в Сорбонне спорили: с шипами или без них
Розовый куст прозябает в Божием вертограде.
Но ведь младенцу ясно: какие розы в раю?
И это легко доказать: впервые обнявшись с Евой,
Адам о шип уколол бы особливую плоть свою
И матерь человечества могла бы остаться девой,
И не было бы на свете ни герцогов, ни пап,
Ни вас, именитый медикус и королевин любовник,
Ни ласковых обожательниц железных и черных шляп,
И, кончено, ни вас, мессир королевский садовник.
Но всеблагой не хотел губительного конца,
Милуя нас и шипами розы свои минуя…
Летите, смычки, по виолам: теперь восславим Творца
За этот розовый образ первого поцелуя!
5. ПАПОРОТНИК
Завитками упругими впившись в марево мая,
Угощеньем изысканным он слывет на Востоке,
В первотравье медвяное тень резную роняя,
Как ресницы прелестницы, опушившие щеки.
И цветок его призрачный колдунам на потребу
Ищет клады старинные, все оковы срывает
А игумен увидит в нем свою лестницу в небо,
По которой вскарабкаться ему чрево мешает.
Веера изумрудные расправляя понуро,
Комаров отгоняет он чванным жабам в забаву –
И лишь тяжестью каменной глыба угля из Рура
Возвещает загадочно его древнюю славу.
И, быть может, под шелестом его лапы косматой,
Чьи графитные оттиски так размашисто робки,
Исав брату лукавому уступил, простоватый,
Первородство за мисочку чечевичной похлебки.
6. МАК
Одни в этом всплеске света, таком испепеляюще-пылком,
что его на себе вынести не посмеют ни шелк, ни бумага,
Узнают развевающуюся победоносную мантию
римского императора или зороастрийского мага.
Бывшие на Тибете сразу узнают в нем
лучащийся щедрой яростью зрачок золотого дракона,
Бродившие по Испании вспомнят подол, клубящийся
вокруг точеной ножки, продетой сквозь перила балкона,
Погонщики караванов не усомнятся назвать его
костром, на ветру пляшущим посреди безлунного марка –
Но я больше согласен с теми, кто этому сгустку пламени
Почтительно преподносит титул Алого Мака,
Который можно сравнить разве что с райским гроздьями,
Растущими из заставок допетровского «Златоструя»
Или с губами любимой, блаженно полуоткрытыми
После мимолетного – длинною в ночь – поцелуя.
7. ЧЕРТОПОЛОХ
Он возвещает осень и отгоняет страх,
И треплет листопада шкуру лисью,
Как богомаз, под купол забравшись на лесах,
Расписывая даль лиловой кистью.
Заглядывая в Альбы и в скальдову строку,
Он дерзко не изволит поклониться
Ни бравому барану, ни черному быку,
И даже с кабаном договорится.
Сквозь память продираясь, как лось сквозь ивняки,
Шепнет он романтическим эпохам,
Что рыцари Вуали и Раненой Руки
Гордились на гербе чертополохом.
Он лекарям помощник, а резчикам готов
Засесть колючим росчерком во взгляде.
И, обдирая ветер, стоять среди снегов,
Как гордый замок Ричарда в осаде.
А если конь ваш лучший предастся суете –
Под хвост ему пучок чертополоха
Подвесьте на ночь глядя – и в вашей правоте
К утру он убедит его неплохо.
ПЕРЕПЕЛКА
Среди колосьев, свисающих, как лошадиная челка,
С макушки русского лета и шишкинских холстов,
Куда ты убегаешь, скромница-перепелка,
От солнечной паутины и от моих очков?
Я обопрусь о посох, под стать китайскому старцу,
А ты, распустив перышки и крылышки ввысь и вкось,
Пройдись с гарцующей грацией гордого горца с Гарца
(Впрочем, это – из Гейне и здесь к слову пришлось),
А из зрачков выплесни промельки и туманы,
Чтобы по их ступеням мой взгляд и стопа
Хоть на мгновенье взошли под купол той нирваны,
В которой ты бродишь с тех пор, как треснула скорлупа.
И вспарывающий тебя кривой ястребиный коготь,
И ловкий лис, причмокивающий в кроваво-сладком бреду,
Право, совсем не цена за право клювом потрогать
И выпить из василька росинки в блаженном саду,
Где ты привыкла порхать без колоратур и арий,
Ниточкой пересвиста сшивая сон и полет,
И где не бывать тому, кого Творец всех тварей
Крылышко твоей яви переломить пошлет.
ВЬЮНОК
Прорентгененный солнцем сердечковый листик вьюна,
С перегнувшейся плети свисая почти из-под крыши,
Разумеется, помнит, какая на ощупь стена,
И какая из вишен, закат подпирающих, выше.
И петляющий стебель, надежный, как старый засов,
Снисходительно слушая пчел и шмелей антифоны,
Разумеется, знает, где вывесить цепкость усов
И подставить заре розоватых цветков граммофоны,
Чтоб они поприкрыли карниза щербатый изъян
И мелькнувшее в стеклах распахунто-юное тело,
Чтоб тугая коробочка кучку упругих семян
От синиц сберегла и к медовому спасу созрела.
И в проснувшихся стеблях спирально-извилистый ген,
Через год проступая сквозь клочья российской метели,
Прозорливо припомнил замшелость готических стен
И аттических портиков цоколи и капители,
По которым змеистая воля объятий плюща,
В гулкость кратера бросив щепотку октав окарины,
Заплеталась в венок, что с кудрей соскользнет, трепеща,
Словно самый последний наряд ослепительной Фрины.
А Исонда-Изольда, наполнив востоком зрачок,
Неутешную арфу прижав к лебединому стану,
В безнадежное завтра заглянет сквозь влажный вьюнок
И – уронит его на волну, как посланье Тристану.
ЯВЛЕНИЕ ЯБЛОК
Явление яблок на старинном чеканном блюде
Не прибавляет, в сущности ничего
К византийским витийствам о блгодати и чуде,
А попросту являет его
В меру умения сока избрать форму
Двояковоплощенной сферы и сотворить помин,
В силу желания кожицы дать фору
Темпере, именуемой киноварь и кармин.
Впрочем, уменье подыгрывать сразу ноздрям и глазу
Вторично и скучно, как договорная ничья,
Для внепредметной сущности, цитирующей фразу
Кажется, из третьей главы «Бытия»,
Где прапредок ее безгрешно вложил надежду
На всепрознание в Евины глупенькие зрачки
И – потянулся к губам, чтоб стеной воздвигнуться между
Помыслами религий правой и левой руки…
А эта девчушка, не блуждавшая в зодиаке
И даже не листавшая «Библию для детей»,
Общается с яблоком языком и зубами, без всяких
Метафизических окликов и затей.
Но когда она в блюдо снова роняет с края
Недоеденное полуяблоко – за и над ним
Вспыхивает венец, подсознательно напоминая
Многое, но более всего – нимб.
ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ЛУГА
Закат свой кисель малиновый выплеснул из берегов
И на лугу неспешно кончают с дневной закуской
Три-четыре коровы в кривых коронах рогов –
Самые философствующие обитатели земли Русской.
И две из них зрачками ваьяжно бродят по мне,
Покуда копыта их мыслей, поправ земную бренность,
Отправились разузнать, каковы клевера на Луне,
Или на вкус попробовать марсианского сена,
Или в метафизическую изжеванную даль
Хвост запустить, а бока вручить травяному дивану;
А может быть, их учили Лейбниц или Паскаль,
И тибетские ламы, проповедующие нирвану.
Они – эпикурейцы, довольные всем в судьбе,
И их перпетуум мобиле – во сне не спящая челюсть,
Пережуют абсолют, и монаду, и вещь в себе,
И Генделя, и любую шеллингианскую прелесть…
В этом их даже Бердяеву превзойти нелегко,
И, чтоб себя перед ними не чувствовать виноватым,
Я уж давно не пью ни сливки, ни молоко;
Пусть его больше достанется бодливым теплым телятам,
Чтоб они выросли мудрыми, на подбор - один к одному,
И кожица их пошла на переплет опоек,
Для книг, где обо всем, решенном формулой «Му»,
Спорят конфуцианец, Кант и античный стоик.
КАРТИНЫ, ТИПЫ, ДАГГЕРОТИПЫ
СКОМОРОХИ
Купчины и холопы на час забудут вздохи,
А протопоп раздует гнев в очах:
Куда они уводят – лихие скоморохи –
Медведя на цепи и в бубенцах?
Куда влекут их лапти и рубища худые?
Не зря ведь им из эллинской дали
Надменные скомархи суровой Византии
Козлов дионисийских привели.
А может – жрец охрипший Траяна и Перуна
И ветхий волхв, читавший между строк,
На гуслях и на домрах им натянули струны
И в рот крикливый вставили гудок?
А может – бес велел им, скитаясь по Расе,
Точить о сытых бритву языка
И шпильманам ганзейским, и ляшским лицедеям
Внахлест намять бывалые бока.
И о семик, на святках окладистый боярин,
Что бочкой чрева еле шевелит,
С супругою им будет отменно благодарен
И, может быть, ефимок уделит.
И даже и вполсыта их удаль не иссякла,
И незачем смирять ни плоть, ни дух,
И славно мимоходом – в честь подвига Геракла –
Из красных девок ладить молодух.
Пусть бранью и ухватом их привечает слава,
И медь и плеть летят в дорожный прах –
Зато какая почесть: среди статей Стоглава
Торчать, как кость у постника в кишках!
И пусть потом справляют монашенские овцы
Епитимтью, молитву – да в постель.
Гой вы, языкотворцы, бродяги, срамословцы,
Примите и меня в свою артель!
Я, правда, кистенями и сайкой не владею
И не спляшу вприсядку по ножу,
Зато спою стихиру и сочиню рацею,
И кус ковриги честно отслужу.
А срок придет расстаться - прощальному словечку
Велю лететь к ракитову кусту,
И в ваше поминанье извилистую свечку
Затеплю за расхристанных – Христу…
СЮРЛЕПОРТЫ
Этот мир просвещенный – и божий, и ничей –
Так богат красотою и прелестью просторной,
Но она ускользает от девичьих очей,
От лорнета старухи, что дремлет и шали черной.
И газон бирюзовый, что под луной простерт,
И влюбленные розы, и томные левкои
Неотменно подметит и вставит в сюрлепорт
Упоительный мастер наметанной рукою…
Гиацинты увянут и клены облетят,
И куртины укроет бесшумный саван снега –
А на легких проемах летящих анфилад
Ни на миг не прервется
Сиреневая нега.
И зимой безысходной так сладостно опять
Полистать у камина Горация и Плавта
Или к чаю собраться – и взором обласкать
Этот масляный призрак
Любезного ландшафта…
И пуская у соседей съезжают парики,
И зрачки заискрятся игривей и моложе,
А змеистая рама напомнит завитки
Кос холопки прелестной
На жарком барском ложе.
Согреши и покайся , и сладкой суете
Заплати на прощанье ненищенские дани –
Ты ведь служить лишь этой мгновенной красоте,
К ней одной простирая холсты, пути и длани.
Лишь она дверь печали закроет на засов:
Но сама она тоже – всего лишь только рама
Для поблекших лохмотьев надежд и парусов,
Для случайного счастья и будничного срама.
ЗЕМСКИЕ ДОКТОРА
Отменно-любезные или суховато-занятые
Уездные докторы в бородках и помятых манишках
По пульсу безошибочно определяют гонорар,
С сигарой в зубах пагубность курения доказывают,
Имеют двуконный выезд и приличную практику,
Искренне презирают гомеопатию,
О разных хворях привычно советуются
С лекциями Пирогова и сочинениями Достоевского,
А о дамских мигренях – с ветхой знахаркой
(Шарлатанка, конечно, а вот на тебе – разбирается!..),
И все крестьянские хворобы узнает с первого взгляда,
И рекомендуют лежанку да баньку погорячей,
А при насморке у губернаторской доченьки
Умоляют не рисковать и созвать консилиум
(Надо же помочь неблагоденствующим коллегам
Заработать ужин и четвертной…),
И поблескивая пенсне и отменной латынью,
Которую почему-то едва поймет немец-аптекарь,
Клиентам своим предписывают:
Опухшему купчине, животом скорбному –
Не кушать больше полсотни блинов на ночь.
Чахоточному студенту, на уроки плетущемуся –
Лавровишневые капли да баранину пожирней,
Заскучавшей вдовушке – замуж или хоть друга дома,
Отцу-протодьякону, от многолетий охрипшему –
Спустить фунт крови да хоть полдня не заглядывать
В шкапчик с наливками и патриаршим полпивом,
Статскому советнику, запустившему карьеру и печень –
Съездить на воды (разумеется, в Ниццу:
В Бадене теперь уж совсем не то общество…),
А всем прочим – поболее моциону
Да остерегаться холеры и сквозняков.
А если это не поможет –
Можно посоветовать зарыться в древние книги,
Стать обожателем актерок заезжей труппы
Или прикладывать новенькие империалы к подкладке кармана
(Многим это отлично помогает…):
Ведь лишь немногим по силам выдержать
Без наркоза суеты, веры или влюбленности
Эту бесконечную хворь, эту невыносимую операцию,
Которую каждый называет по-своему:
Кто – жисть,
Кто – жительствование,
А кто житие…
СЕРОВ – «ПОРТРЕТ ИДЫ РУБИНШТЕЙН»
Не только в пенной влаге и не в тюльпанах мая
Таится луч спасительного света:
Нет, красота умеет змеиться, ускользая,
И ящерицей прыгать из багета.
Почти смеются губы, а из очей сочится
Неутоленной пылкости обида.
Ах, ласточка и кобра, голубка и волчица,
Над пустотой распластанная Ида!
Надменно-беззащитна, как лепестки акаций,
О чем поет рука ее, владея,
Той тайной, что так чтили шумеры и аккадцы
И в гневе проклинала Иудея?
О чем роняют на пол роскошных мантий груды
И Клеопатра, и Семирамида?
О чем на хрупких ножнах мерцают изумруды,
О чем нефрит холодной плоти, Ида?
О чем молчат и плачут колючие колена
И, словно лань, трепещущее лоно,
Как иероглиф страсти, не ведающей тлена,
Начертанный рабами фараона?
О том ли, что все земли Амона и Аллаха,
И хмурые обители Аида
Не стоят даже вздоха, не стоят даже взмаха
Твоих ресниц, мучительница Ида?
О нет, не зря он длится – оцепеневший танец,
Из клетки жестов душу выпуская:
Не все, что было прахом, бесследно прахом станет,
Не все развеет суета людская…
У ВРЕМЕНИ НА ПОВОДУ
ДИ
Осень над Хайлендом кропит проржавевший лейкой
И кельтские волки, щетиня шерсть на груди,
Воют, как содомит над разбившейся прелюбодейкой,
Помеченной нимбом белокурой принцессы Ди.
Бриз, обрезая лохмотья британской пены,
Косится на бравых стражей и угодливых египтян.
Кудри Гиневры и профиль леди Ровены
Помнят волюмы Кембриджа и Тауэровский туман.
Либидо головешкой чадящей на горизонте
Травестирует солнце, топорща лучи-усы
Барышшни Джейн Остин, феминистки сестричек Бронте –
На что кружева и манеры изяществу пошлой джинсы?
Что перины Вестминстерские, что резиновые матрацы:
По-ганноверски хмурится шляпственная свекровь.
Не зря запасали камеры стервятники-папарацци:
Вот она – королевская порфироносная кровь!
Маятник, кончив маяться между гетерой и девой,
Завис под парижским мостом, стрелки не шевеля.
Но та, кто мотаясь по свету, не успела побыть королевой,
Лежа в могиле, станет матерью короля!
СРЕДЫ И ПЯТНИЦЫ
… а по средам и пятницам – подъем:
Днесь не грешим обшибкой и оплошкой,
Зане сыров и агнцев не жуем,
А утешаем стомахи картошкой
Наредкость сладкой редькой. Огурцы,
В щербатой банке возлежа спросонок,
Не усумнятся стяжевать венцы
Прикусов в оспе пломб или коронок,
И потому спешат избрать судьбу
Классические рыбные селянки.
Метафора белка в сухом грибу
Послушна фразе. Коею поляки
Свершают чин умеренности. Рис,
Косящатое детище ислама,
В попытке к плову чопорно раскис,
Понеже кулинарственная дама
Не соблюла пропорцию воды
И, как всегда, перебрала с изюмом.
А сомика не спрашивай – куды
Плывет он, бывший ус доверив думам
О сковородке с постным маслом. Мак,
Взбухая в аскетическом рулете,
Проникся медом и попал впросак,
Поскольку пуговицы на жилете
Не выдержат напор седми кусков
И экспансионистских планов брюха…
О пост, гряди царьградских из веков
И чрево сотвори слугою духа!
СВЕТАНДР
Сказка о Присолнечном государстве,
о пророчествах обезьянки
и о медведях, небо облизывавших
Когда приходит сказка – ей не надо
Ни триумфальных арок, не порталов,
Ни подвесных и разводных мостов:
Она вершит свой путь, как Клеопатра,
Пушистой кошкой прыгает на пони
И – забегает в гости, если слышит
Классический зачин.
Давным-давно
Под пламенным и жизнедарным Солнцем
Была страна, пронизанная зноем
И напоенная звенящим светом.
Она звалась Присолнечной (не надо
С китайской Поднебесной ее путать:
Китай здесь совершенно ни при чем)
И солнце иногда на землю эту
Лукаво изливалось сладкой лавой
И застывало, липкое, любуясь,
Как глупые неведомые звери
О четырех рогах, с тремя глазами,
Каких не в каждой сказке повстречаешь,
В той клейкой лаве вязли, а тюльпаны
И колокольчики в ней утопали
И не звенели. Жили там и люди,
Умевшие растить горох и мышек,
И сладкую развесистую клюкву.
И строить кафедралы и дворцы
И дерзкие причудливые замки,
Которые от зноя растекались
И превращались постепенно в нечто
Халвообразное, и люди, чинно
Печалясь о тщете своих трудов,
Халву съедали, а на месте замка
Узорный камень ставили – на память.
И вот однажды юноша СольМада
Давным-давно и преданно влюбленный
В дочь богача, построившего замок
В готическом и чуть романском стиле
С налетом среднерусского ампира,
Вполне изысканный и простоявший
Под лаской Солнца целых три недели,
Так что владетель пир решил устроить,
Устроил – и на радостях… скончался –
Так вот, СольМада с трепетом пришел
К опекуну и дядюшке невесты
И, преклонив колени, попросил
Руки своей любимой. Опекун
Нахмурил лоб, вздохнул и – согласился,
Поставив непременное условье,
Чтобы отцом невесты посаженным
На свадьбе было Солнце. Нареченный
Жених покорно голову склонил
И вышел за ворота городские
(Но если вы подумали, что он
Отправился в далекие скитанья
И побеждал грифонов и циклопов,
И девять лет дышал дорожной пылью,
И всласть направился по всем волнам –
Вы слишком начитались Буссенара
С Майн Ридом и Жюль Верном). Впрочем, нам
Здесь надобно сказать о том, что люди
В Присолнечной издревле научились,
Благоговейно поклоняясь Солнцу,
Блюсти простой и мудрый ритуал:
Они носили вышитые шляпы,
Широкие, как небо на рассвете,
И если кто-нибудь из них хотел
С мольбой и просьбой обратиться к Солнцу,
Он должен был всего лишь выйти в поле
И шляпу с головы сорвать, и Солнце
Зрачками ослепительных лучей
Читало все надежды и смятенья,
И просьбы благосклонно принимало,
(И выполняло их – почти всегда:
Оно ведь было лесковым). Так вот,
Оно услышало мольбу СольМада
И согласилось, и лучом звенящим
К руке невесты нежно прикоснулось,
И повелело ей готовить платье
Крылатое, и свадебную шляпу
(Фата была в Присолнечной не в моде:
К тому же там не верили в судьбу.
А только в счастье).
И настал день свадьбы,
И солнце величаво сочетало
Невесту с женихом венцом сиянья,
И поднесло в дар новобрачным власть
Свершить на свете семь благодеяний
(Их все мы здесь перечислять не станем –
Достаточно сакрального числа их
С упоминаньем, что отец невесты –
Благодеяньем Солнца – жив в садах
Присолнечных – и пьет благоуханье.)
И был обряд сияющим и долгим,
Как первое мгновенье поцелуя.
Когда же он окончился, супруги
Спустились по ступеням прямо в волны
Улыбок, песен и гирлянд цветочных
Длиной в четыре солнечных луча
(Что составляет триста тысяч стадий
И очень много поприщ, ли и лье)
И гости на пиру преподнесли им
Узорный камень для закладки дома,
Гребенку для расчесыванья света,
Когда он слишком плотен на закате,
Венок из звезд и обезьянку в клетке,
И целый ворох умных-умных книг,
Из коих выделялась толщиною
Одна – с простым названьем «Домоводство»
(Да, да, в Присолнечной такая книга
Была издревле: там весьма ценилось
Уменье чистить плащ и шляпу мужа
От липкой лавы солнечной, и даже
Уменье не спеша варить варенье
Из птичьих трелей и теней на листьях,
И прочие полезные познанья,
Которыми невесты отчего-то
Так легкомысленно пренебрегают…)
И нежные супруги благодарно
Всем кланялись.
Вдруг обезьянка клетку
Умелой лапкой ловко распахнула
И прыгнула на шляпу жениха,
И по-присолнечному прокричала:
- Ах, супруг, да что ж ты медлишь:
Надевай скорее шляпу,
А не то жена увидит
Твой прелестный лик и облик
И от зрелища такого
Убежит обратно к дяде!
Ну, а ты, невеста, слишком
Красотой своей не хвастай:
Время скачет, как кузнечик,
Пестрой бабочкой порхает
И ключом колючей лапки
Дверцы яви открывает,
И как только распахнется
Ослепительная дверца –
Ты увидишь все, что скрыто
В масках яви, в сердце сердца…
Жених согнал со шляпы обезьянку,
А юная СольАве (так невесту
По воле материнской нарекли
А мы ее представить вам забыли,
За что теперь приносим извиненья…)
Легко и беззаботно посмеялась
И – с трепетом и странною тревогой
Припомнила, что так и не успела
В сияющем лучистом ореоле
Узнать, увидеть жениха, когда он
Предстал пред ней и Солнцем без личин
И ретуши привычек и обрядов,
И был таким, каким она его,
Быть может, никогда уж не увидит,
А будет лишь угадывать по тени,
По эху смеха. С этой странной думой
Она вступила в брачные чертоги,
А поутру проснулась – и запела:
Мне кажется порой:
Я – мальчик, и танцую со свечой,
Хоть вижу в зеркалах
И в ласковых светящихся глазах,
Что путь и выбор мой –
Быть матерью и нежною женой.
Мне кажется порой:
Я трижды приходила в мир земной
И трижды я была –
Ребенком, что глядится в зеркала,
Невестой под венцом,
Старухою с крошащимся лицом.
И в мой наставший день
Из прошлого глядит седая тень.
И сквозь мои слова
Растет тысячелетняя трава.
А я пою, пою
У времени и яви на краю
О том, что через год
Иль через тысячу весна придет,
И вспыхнет солнца медь,
И все равно – уснуть иль умереть,
Шагнуть в дурман-траву
И матерью проснуться наяву,
И нежно, не спеша,
Учить словам и звездам малыша,
И будет он расти
И в мире этом выбирать пути,
И напевать порой:
- Я – мальчик и танцую со свечой…
Пока она допела эту Альбу,
Минувшее с грядущим сопрягая –
Цепочка жизни тихо удлинилась
На несколько счастливых звеньев-лет,
Свершилось несколько благодеяний,
Дарованных СольАве и СольМада
Все не было и не было покоя,
И даже счастье призраком казалось
И ускользало от нее, как лик
Супруга.
И она предстала Солнцу
И сбросила с кудрей волнистых шляпу:
- Солнце, солнце, помоги мне!
Ты ведь знаешь, отчего я
В счастье счастия не знаю!
Дай усидеть мне лик мужа,
Заглянуть сквозь очи в душу!
- На детей взгляни любимых,
Пристальней прочти их лица:
Ты найдешь на их страницах
Строки о чертах супруга.
- На меня они похожи:
ты ведь знаешь это, Солнце.
Словно в зеркало гляжусь я,
Их улыбками любуясь.
Помоги мне, Солнце, солнце!..
Но солнце более не пожелало
Выслушивать ее печальный голос,
И рощицу неведомых деревьев
В подсвечники мгновенно превратило
Своей кипящей лавой.
И СольАве
Домой вернулась грустной и усталой
И на ночь рассказала детям сказку
О волнах меда, захлестнувших небо,
Так что большим и ласковым медведям
Пришлось на нем пролизывать орбиту,
Чтоб солнце утром не увязло в меде
И путь свой продолжало. С этой сказкой
Она уснула сладко и блаженно,
А на заре проснулась – и узнала,
Что в город их король и королева
(В Присолнечной, да будет вам известно,
Всегда была монархия. Престол
Наследовала младшая из дочек,
И высшим чином в табели о рангах
Считался не фельдмаршал и не канцлер,
А Заплетательница Кос Принцессы:
Так жуткий процветал матриархат…)
Да, в город их король и королева
Пожаловали просто для прогулки,
И первой выбежала им навстречу
Та самая хитруля-обезьянка
С песочными часами на цепочке,
Что почиталось дерзостью – ведь время
В Присолнечной отсчитывали только
По лунным бликам в глубине колодцев –
И шуточки подстать «Декамерону»
И Апулею отпускать пошла
(Откуда Апулей в «Декамероном»
Знакомы ей – нам тоже непонятно,
Но мы не вправе скрыть ее знакомство
С такими классиками). Королева
Разгневалась совсем как моралисты,
И, увидав хохочущие лица
Во всех дворах, воротах и окошках,
Своим особым именным указом
Впредь жителям смеяться запретила.
А город королю и королеве
Решил устроить праздничную встречу
По ритуалу – с пиром, с маскарадом
И музыкой (В подсолнечной издревле
Играли, как на лире или арфе,
На солнечных лучах и на тягучих
Застывших каплях солнечных.) Так вот,
По строгому приказу королевы
На маскараде все явились в масках
Кикимор, леших, нечисти болотной,
Чтоб не предаться суетному смеху.
И горожане знатные, увидев
Такое «благородное» скопленье
Изящныейших клыков, хвостов, оскалов,
Переглянулись и – расхохотались
И мрачных масок хмурые прищуры
Вдруг превратились в легкие узоры
На пестрых крыльях бабочек воздушных,
Которые вспорхнули, закружились
В галантно-беззаботном менуэте,
Под потолками мило потолкались
И в золоченом своде дверцу яви
Чуть приоткрыли. И СольАве сразу
Увидела светящийся лик мужа
И тотчас поняла, что это – Он,
Ее Единственный, ее Любимый,
Что приплывал к ней на ладье рассвета
Под парусами сонных облков.
СольАве подошла к нему, боясь,
Что это сон и все опять исчезнет,
Но это был не сон – и обезьянка
Из клетки к ней со смехом подбежала,
Шепнула:
- Ну, теперь-то ты довольна?!
И, на бегу не слушая ответа,
По праздничному залу промелькнула,
Ехидно королеве подмигнула
И принесла нам пышное перо,
Которым здесь пора поставить точку.
Ну, вот и все. На мягких лапах
Неведомых зверей, на каблучках
Невесты, на текучих нитях света
От нас уходит сказка, облачившись
В кафтан и талес, в кимоно и тогу
Из книжных шелестов и лоскутков.
А если здесь послышались кому-то
Херасков, Лафонтен и Компанелла,
И мифы об Амуре и Психее,
И сладкий голосок Шехерезады –
Мы, расставаясь, вам шепнем на ушко:
- Они здесь совершенно ни при чем!
МУЗЫ КАТОЛИЦИЗМА
ЧИМАБУЭ
Рокочущей клепсидры бесшумная струя –
Ну, что ж ты вечность источаешь всуе?
Помедли, ускользая капелью бытия
По золоченым фонам Чимабуэ,
Курчавого Младенца с очами как миндаль
Уносит изумрудная Мадонна,
И от копыт осляти расстрелянная даль
Как слог Вульгаты, царственно-бездонна.
И древние пророки, роняя горний бред ,
Стигматы белым рубищем прикрыли,
И в ливне алых жестов пирует пируэт
Из лебединых ангельских воскрылий.
А взор благоговейный скитанием палим,
Избрав в мираклях славную причину
Сквозь Рим полюбоваться на Иерусалим
И сквозь Палермо вспомнить Палестину,
Где, над стеною Плача раздвинув облака,
Цветет венецианская маслина,
И с падре Пьетро спорят Джованни и Лука,
И плачет синьорита Магдалина…
У скинии завета влача блаженство бед,
Не слыша прений об аджорнаменто,
Они уже надели береты и корсет
Младенчески-беспечного дученто.
И агнец в ореоле – святая чистота –
Звеня копытцем, радости не прячет:
Ведь прошлое – вернется, и опалит уста,
И властной линией переиначит
Уютный мир, где сладко ловить и смех, и стон,
И слиться в серафимском поцелуе
С предвечностью, пролившей блаженный свет и сон
На золотые фоны Чимабуэ.
СЛУШАЯ ШУБЕРТА
Трепет свечи расплывается в масляном ореоле,
И лохматый туман поймал в свою частую сеть
Лимонную дольку луны, как кусочек доли,
Которую каждому доведется отведать впредь.
И вкрадчивый вечер – вальяжный вельможа в шубе –
Развалившийся в креслах по обе стороны сна,
Ждет, когда в партитуру уткнется очками Шуберт,
Откинет фалды рояля и кисти уронит на
Клавиши – пышную лестницу в старинном чертоге,
Мрамор скользких ступеней струящую ввысь –
Туда, где Христовы ангелы и римские боги
Крылышками и трубами на потолках сплелись
И благосклонно склонили свой слух и спины,
Невесомо свивая из бархатной темноты,
К терциям, напоминающим дантовские терцины
Или готических замков разводные мосты.
Которые опускаются на ржавых цепях менуэта
И расстилают звуки как приглашение на пир
К Вальтеру с птичьего луга, а Босху в нездешнее лето
И в достославный Вартбург на именитый турнир,
Где каждый миннезингер от дамы своей в подарок
Получит улыбку и розу. Которой нет цены,
Ведь время – детский сон, пока слезится огарок
И Шуберт перебирает клавиши старины.
Свидетельство о публикации №114111407457
