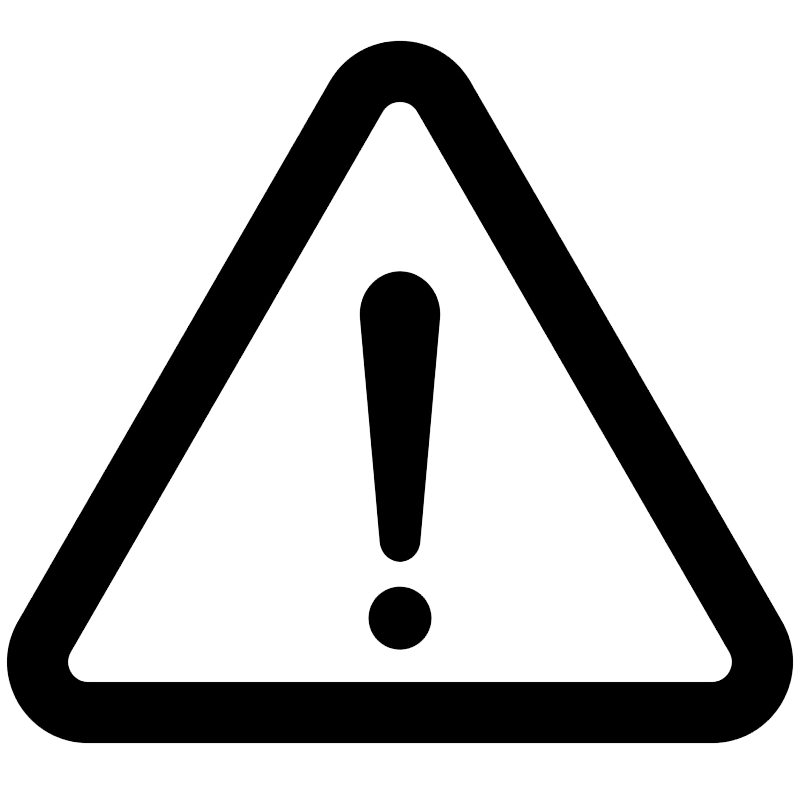
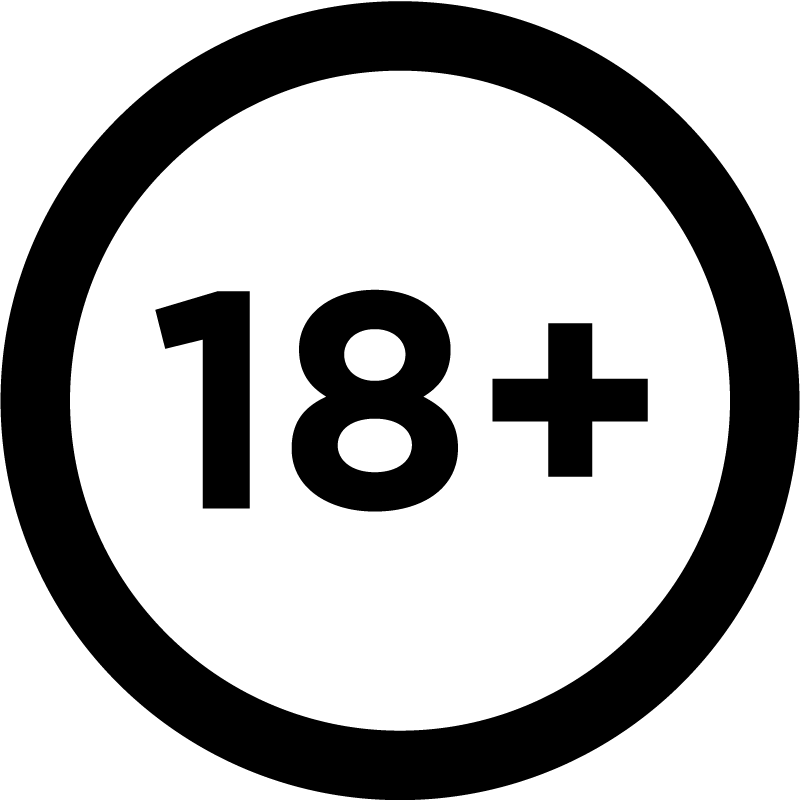 Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Андрей Голов Клиопись
КОРАЛЛОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ,
заключающее в себе 26 нитей по 26 зёрен
одно зерно на каждой нити имеет тайный второй смысл,
образующий сквозную 27-ю нить
h
1. НЕЖНЫЕ 2 1
Нежные как шерстка котят
Хризантемы от инея ёжась
По твоим ресницам грустят
2. ВОТ 1 9
Вот и догорела свеча
Но темней не стало мне ведь светит
Лучик от твоего плеча
3. БАБОЧКИ 1 2
Бабочка и свиток Басё
Счастье не дробится на осколки
Или ничего или всё
4. ВЕТЕР 3 1
Ветер заблудился в дожде
И умолк лишь голос твой поможет
Наконец-то вспыхнуть звезде
5. СЛОНИК 1 5
Слоник прислонился к лучу
Стынут звезды ломтик поцелуя
Все что под луной я хочу
6. ВЕТРУ 1 3
Ветру стало флейтой жнивье
Ласточки на радугу садятся
И не улетают с нее
7. ИНЕЯ 1 3
Инея пушистая нить
Светит очищеньем и прощеньем
Нет не будем Будду будить
8. КАРПЫ 2 4
Карпы на отмели стоят
Явь благословляя плавниками
Даже ветер кивнуть им рад
9. ВЛАЖНЫМ 1 8
Влажным язычком шевели
Лягушонок слизывая с влаги
Лунный блик длиной в триста ли
10. ДАЛЬЮ 1 16
Далью дышит дождь где-то там
Льнет к стопам и надеждам дорога
Будто дух мой к твоим следам
11. В ДРЕВНЕМ 1 15
В древнем храме гонги звенят
Крест над новым отпирает небо
А предвечный свет всюду свят
12. ПОЛДЕНЬ 3 10
Полдень по колено забрел
В молоко тумана и не хочет
Подобрать свой царский подол
13. СВЕТ 2 14
Свет не забывай свою роль
Мрак гадальщик по небу недаром
Звездную рассыпал фасоль
14. ГУСЕНИЦА 2 2
Гусеница древней стены
Ползает по сопкам и эпохам
Но глаза бойниц не страшны
15. КАМЕШКИ 2 11
Камешки возвышенных слов
Сыплются под крылья и копыта
Муз мудрецов или ослов
16. ЦАПЛЯ 1 15
Цапля над зеркальным ручьем
Держит змейку вечности и знанья
В клюве иномирном своем
17. ВИШНЯ 2 1
Вишня на заре расцвела
Может хоть она согреет души
И удержит крылья от зла
18. НЕБО 1 4
Небо превращая в опал
Розовое облако заката
Ежик на иглы нанизал
19. ПУТЬ 3 8
Путь твои глаза и уста
А весь мир цветы на обочине
И великая пустота
20. ВАЗА 1 5
Ваза расплескивает свет
Из бутонов розовых и каждый
Сразу и вопрос и ответ
21. ЛЕПЕСТКИ 1 10
Лепестки жасмина и чай
Поступь стрелок преданная кругу
Лучше всегда невзначай
22. ДЫНЯ 1 1
Дыня припадает к ножу
В чашу пространства вместе с молитвой
Веру и любовь возложу
23. Я ТЕБЕ 2 6
Я тебе тюльпан принесу
Лишь котенку да стрижу по силам
Выпить из тюльпана росу
24. ЗАПАХ 1 15
Запах тишины и весны
Бродит в кронах на лапах бельчонка
Милая войди в мои сны
25. ВЕРНА 2 4
Серна на рожках принесла
Паутинку ее не тревожат
Оклики меры и числа
26. В ДРЕВЕ 3 10
В древе дремлет времени бред
Годовых колец сквозные квинты
Слышат лишь сверчок и поэт
ВОСЕМЬ ОПАВШИХ ЛИСТЬЕВ
В самом конце месяца облетания
Последних листьев с моей любимой сакуры,
Когда первые скудные крупинки снега
Обжигают и тяготят её воздетые ладони
И с ресниц сосен талыми слезинками капают,
По склону времени, странно напоминающему
Склон Фудзи и румяные щёки малыша.
Два путника куда-то брели вслед за посохом.
И когда один, из последних сил выбившись,
Прислонился к каменной стене.
Старинными знаками и трещинами испещренной,
Она подвинулась, словно ворона на ветке,
Скрипнула, как соломенные сандалии монаха,
И пригласила их обогреться и отдохнуть
В тесную пещеру отшельника.
В ней пахло жасминовым чаем, звоном
Горного родника, тихой сосредоточенностью
И неотступным присутствием вайрочаны.
Хотя в пещере кроме дымка жаровни
И сверчка, ветхие свитки перебирающего,
Не было никого из живых
И путники уселись возле огня – но ему
Вскоре надоело плясать на поленьях,
Отблески по стенам расплескивая,
И он решил отдохнуть и спрятаться в уголья
И оттуда изредка поглядывать на гостей.
И когда он исполнил это – путникам
Стало невыносимо холодно – и они принялись
Разбирать груду опавших листьев в углу
И бросать их один за другим в жаровню.
И постепенно от всей огромной груды,
В которой легко укрылись бы с головой
Барахтающиеся бамбуковые медвежата,
Осталось всего восемь листочков,
Таких сказочно красивых, что путники
Были просто не в силах отдать их пламени
И бережно подняли и поднесли к глазам
И – замерли, читая узор их прожилок,
Написанный то ли кроткой кистью Басё,
То ли взглядами, следившими за воздушным змеем
Над ветвями, с которых они опали.
Сонм солнц смотрит
В росинку на лепестке лотоса,
А ее ночной зрачок отражает
Лишь золотые уши лунного зайца.
Вслушивающегося в шорохи вечности.
Вечер ворчит на ветер:
Он так долго из облаков и радуги
Вышивал свой волшебный фонарик,
А ветер косматым опахалом
Потушил в нем весёлую свечу.
Ежевика приютила ежонка
И фиолетовыми бусинками на иголках
Передала привет его маме,
Чтоб та не беспокоились – и ужат
На ужин ежонку не искала.
Тень от тины танцует
На песчаном дне рядом с крабиками
И лягушонок хочет ее надеть, как кимоно,
И удивляется – почему кувшинки
От нового его наряда отпрянули.
Ласточка на ладони лужицы
Начертала крылом линию исчезновения.
Но дождь, даже не догадавшись об этом.
Смыл с нее излом линии –и лужицу научил
Быть зеркалом, гранью и запретом.
Айва отважная расцвела,
Когда еще пруд гордился слюдой льда,
Старики размышляли в саду камней,
А девушки заплетали косы. Кто же
Кудрям ее розовым обрадуется?
Невод неба несет небытие,
А монах и гриб возле старого пня
Сморщенными шляпками от него закрылись
И сосредоточенно шествуют каждый своим путем,
Не делая ни шага.
Аисты остью колючих клювов
Клюют города и легкие песчинки мгновений,
А хризантемы хранят свой хрупкий
Контур на столике – и помогают лучиться
Солнцу и ресницами любимой.
И пока путники эти знаки разглядывали,
Их тени смешались с тенью отшельника,
Который наконец-то вернулся из самого себя,
Согрел над жаровней оцепеневшие пальцы
И тронул капелькой киновари
Первый знак на каждом уцелевшем листке
И показал их моей завороженной пристальности
И снова побрел вслед за собой.
;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;; ;;;;;; ;;;;;;;
I
НА БЕРЕГУ ВРЕМЕНИ
БРЕД ПАМЯТИ
...а памяти медитативный бред
Цитирует влюбленно и сурово
Петров корвет, и Моцартов спинет,
И строки Алексея Хомякова
О том, что православие - право
В истолкованьях воли Саваофа
Гораздо больше, чем аббат Прево
И лютерова гордая Голгофа;
О том, что время любит вытекать,
Как следствие неявленной причины,
И теребить аттическую прядь
На дерзких геммах Августа и Фрины,
Пока глагол врастает в лабрадор
Без помощи резца и логаэда,
И выщербленных киликов узор
Вещает, что опять близка победа
Подробности краснофигурных глин
Над сплином целомудренной морали.
Но цельбоносной дланью Дамаскин,
Кивнув на Моисеевы скрижали,
Безжалостно разжалует зрачки
Из сотворив тибулловой эклоги
В афонские послушники строки
Матфея о Триипостасном Боге,
Смежившем суемудрию уста,
От римских логий исцелившем гений
И воспарившем на крылах Креста
Превыше всех ментальных дерзновений.
ВРЕМЯ
У времени - странная привычка
Быть несвоевременным и несовременным. Так
Мотыльком или факелом притворяющаяся спичка
Лишь обжигает пальцы, не отстраняя мрак;
Так, эспаньолкой Гете кивнув, Мефистофель,
Завернувшись в гиматий и корзно русских князей,
Демонстрирует залу безупречный пробор и профиль
Эпохи Агаты Кристи и трумэновских затей
Вокруг Ямато, согласной, что время - струйка дыма,
Непричастная даже пламени, - и потому
Имеет не большую ценность, чем пепел Рима
Или курган, перед коим покоился тьму-
тараканский камень с русскими письменами
И вопросом о подлинности. Так сложение дланей над
Кришнаитскими “харе” и католическим “амен”
Означает готовность к отказу от координат,
Где сгоревшая спичка встает на котурны абсциссы,
А ординате оказывается на удивление по пути
С Меркуриевым кадуцеем - и его оплетают нарциссы,
Не спросившие вечность: пора ли им расцвести,
Ибо им скучно комментировать Гесиода
И утренней свежести свысока предлагать ничью,
Ибо их лепесткам довлеет святая свобода -
Быть параллельными времени и бытию.
ЗАБЕЛИН
Забелин. Зяблик зыбкой старины
Сидит на свитке, сны храня от сглаза.
Пустые щи легенд забелены
Беловиком монаршего указа;
Седой монашек распростерся ниц
Пред Иверской с нездешними очами,
И череда царевен и цариц
Торит сафьяновыми сапожками
Тропинку в том невиданном саду,
Где на свинцовом золоченом скате
Жасмины обнимают резеду
И льнут левкои к Золотой палате,
Где горлицы садятся напрямик
На ерихонке царской, на плече ли,
И к куполам на Троицкий семик
Взлетают тяжко Софьины качели.
А богомольцы с Соловков пришли
В двойных лучах Савватьевского чуда,
И первые Петровы корабли
К усладе мамок чертят чашу пруда.
Пещное действо к сводам тянет дым,
Гранат растет из виршей Симеона,
И против шерсти гладит Третий Рим
Двух византийских львов, что спят у трона.
Но этот слишком благостно возлег
На горностаев у порога славы,
А тот подставил солнцу левый бок
И отдал зубы за штыки Полтавы...
РИМСКИЕ СОУСЫ
Римские соусы. Масло, чаша вина,
Горстка муки из сушеной рыбы, орехи
Да на стенке кувшина катулловы письмена,
Чтоб было чем приправить огрехи
Повара, пережарившего кабаний окорок для
Люция и Лавинии, любящих власть и оленей,
И каждый день начинающих с нуля
Священнодействие на тему формулы лени,
Ценимое аристократами эпохи упадка импе-
рии, ибо главное на этом свете - приправа,
Ибо потерю Дакии и сбой на второй стопе
Кое-как можно вынести, и древняя слава
От этого не померкнет. Но если тунец
Втуне взвалит на стол тридцать фунтов блаженства
И соус его не спасет - значит, настал конец,
И можно не спрашивать о смысле Марсова жеста
На алтаре у авгуров и в Парфии, ибо ответ
Будет еще безнадежнее и нелепей,
И даже легату придется жевать в обед
Лепешку - сухую, как эти сирийские степи,
В качестве соуса к коим можно подать Дамаск
И Пальмиру, где славно пылала главная площадь...
А впрочем - новый цезарь не ценит нёбных ласк
И с удовольствием обойдется жарким поплоше,
Да побольше. И ему, пока он храпит во рву,
Можно вместо Иберии (впрочем - о чём жалеем...)
Последний ломоть империи к идам и Рождеству
Подать с христианским соусом, сиречь - елеем.
ЛИШЬ ТОТ
Проходит дождь и вскользь целует лоно
Земли, приявшей бытие как страх;
Проходят злые боги Вавилона
На старческих негнущихся ногах;
Проходит критский Бык, на рог азарта
Насаживая печень гордеца;
Проходит ненасытная Астарта,
Дымящуюся кровь не смыв с лица;
Проходит вся египетская стая
Набросков к Абсолюту черновых;
Проходит Дионис, не воскресая
Из киликов коринфских расписных;
Проходит дуб, у коего дравиды
Майтрейю ждали, длани вознося;
Проходят даже боги Атлантиды
След в след за бодхисаттвами Тянься;
Проходят бон и Ману, как расплата
За порицанье арамейских глав;
Проходит Мухаммед, в полу халата
Чужих бессмертий иверни набрав;
Проходят смыслы эр и зодиаков,
Суфийских власяниц и хеттских стел;
Проходит даже тот, кого Иаков
На берегу потока одолел -
Лишь Плотник тот, над чьим крестом и ныне
Не гаснет Вифлеемская звезда,
С избытком дарит жизнь земной пустыне
И в сердце остается навсегда.
СКАРАБЕЙ
Помолчать над папирусом вне времени и пути,
У гусей на гробнице отнять свой пристальный взгляд
И стрелки зодиакальных созвездий перевести
На четыре эры назад
И стать фараоном шестой или двадцать седьмой
Династии, высекшей нубийскую складку у рта
Сфинкса - и к Абсолюту обращаться истово: - Мой
Ра, Озирис, Пта”;
Радоваться, что диск Амона, бессмертно-пунцов,
О шеи рабов выравнивает свой изъян
И подстилать под восторги воинов и жрецов
Тень жирафов и обезьян;
В храме Анубиса созерцать целебные сны,
Исцелившись от возраста и жажды спорить с судьбой,
И захватить только чучело любимой кошки жены
В Западное царство с собой,
Дабы и там она распустила усы,
Омоченные в молоке семи священных коров,
И кончиком хвоста поторопила часы
В сторону грядущих миров,
Где лотосы распускаются, как волосы юных дев,
И голуби грудь Изиды целуют белым крылом,
И скарабей к звездам карабкается, воздев
Две лапки над Млечным Путем.
ИКОННОЕ УМОЗРЕНИЕ
Не спрашивай пробившийся левкас,
Сквозь темперу пробившийся на ране,
В каком пределе и в который час
Труба Суда архангельская грянет.
И не проси сусальный лепесток,
Над взлобьем Павла рдеющий сурово,
Назвать итог, когда настанет срок
Реченьям Иоанна Богослова...
Он знает только то, что у креста
Цветет аримафейская маслина,
И воздает в стопы, но не в уста
Лобзание Мария Магдалина.
Цветущий неотмирный вертоград
Почти вместив в земную плоть и раму,
Три Юноши за трапезой сидят
И крылья преклоняют к Аврааму.
И Стефан чашу искупленья пьет,
Скорбящих утешает Приснодева,
И уберечь рожениц от невзгод
Пришли с Екатериной Параскева.
И Спас Нерукотворный долгий взор
Струит в простор распавшийся российский,
Которому целебный омофор
Протягивает пастырь Мирликийский,
Чьи пальцы упраздняют право зла
Врываться в мир в пурпурном ореоле
Над временем, вбирающем тела
В звенящую лампаду горней Воли.
NOTTURNO
Твой стул скрипнул и качнулся,
Утомившись пребывать на
Одном месте - и сладко потянулся,
Как котенок на излете сна.
Чураясь Петровских политесов,
Твой полураскрывшийся том
Кротко осенил кого-то из “Бесов”
протяженным достоевским крестом.
Стрелки чопорно влачат свое бремя,
Как дерюгу через Невский проспект,
Измучившись спрягать время
Превращеньем футурума в перфект.
Прост, как никейская эпакта,
С пианино свисает, словно плед,
Разобранный до шестого такта
Моцартов мерный менуэт.
Березовых крон сквозная пряжа
Приютила звезд пчелиный рой.
В эту пору в Риме третья стража
Шла, позевывая, на смену второй.
Но день не унес моих смятений
И оставил спорить - Бог весть, о чём -
Двух ангелов, две воли, две тени
За правым и за левым плечом.
С ЭККЛЕЗИАСТОМ
Итак - Экклезиаст.
Фрондерство фразы
Исходит, словно пена изо рта,
У бесноватых
(Он на всё горазд -
Мир, этот царь в пастушеских заплатах)
А мудрость правит мессы и намазы
И горько говорит: “Всё - суета
И ловля ветра”. Но “томленье духа”-
Вполне возможный
И даже непреложный перевод,
Покуда явь, к тельцам склоняя ухо,
Стезей своей божественно-безбожной
Шагает вброд, идет в водоворот
Смертей бессмертных и иссохших вод -
Туда, где воинами фараона
Хлябь Чермная обет свершила свой
Во время оно,
Запечатлев немой пустыни лоно
И разомкнув пророческие веки
Метафорою Воли неземной,
Стекающей в крови с подножья Трона,
Как всеблагой извол о человеке,
Обрезавшем о кромку бытия
Судьбы своей воскрылья и края,
И, голову заламывая ввысь
И дух переводя тревожно, часто,
С неутолимой памятью бредущим
На срезе между прошлым и грядущим,
Душою и ладонью опершись
О первые стихи Экклезиаста.
ПЕРСИДСКАЯ МИНИАТЮРА
На той миниатюре, где Хафиз
Газель ведет за рожки в Божье лето,
А минареты чтущий кипарис
Работает под деву и аскета;
На той миниатюре, где стихи
Мерцают кораническим сакралом
На каждой блестке рыбьей шелухи,
На каждой стычке изумруда с лалом;
На той миниатюре, где я сам
Прилаживаю годы, как заплаты
На свой халат, чтоб не мешать усам
Вплетаться всласть в суфийские цитаты -
На той миниатюре лепет лоз
Творит иносказание колодца,
А в счастье пролито так много слёз,
Что для любви их и не остается;
И тот объект благих метафор - Бог,
Натягивая алефы, как струны
На грифе дней, - садится на порог
И - слушает влюбленного Меджнуна...
ПРОЗРАЧНОСТЬ
Прозрачность пустоты. Дождем листвы
Омыты холодеющие дали,
И, заморозком тронута, рябина
Горчит о скорбной памяти рожденной
В день Иоанна Богослова. Свет,
Рассеянный и тихий, как склероз,
Прощально обуявший пленный дух
Серебряного голубя - летит
Сквозь зрак пространств, совлекшихся своих
Березовых и тополевых риз
И ежащихся в танце наготы
От штайнеровой эвритмии. Ветер
Зачем-то наспех комкает остатки
Воздвиженских стиллебенов. Дождю
Неловко на неделю отнимать
У луковок московского барокко
Роль доминанты в городском пейзаже.
А сам Андрей юродивый опять
Привлекся из Второго Рима в Третий,
Посозерцал Пречистенский Покров,
Воздетый высоко над русской комой,
И - снова навострил дорожный посох
К фрагментам Византии над Босфором,
И, сопричастен сразу двум мирам,
С порога, уходя, залюбовался
Резным листком, к кладбищенской стене
Прижатым, как листовка террористов
И - манифест кузминского кларизма.
ДЖОТТО
Горациевы синкопы ауфидовой струи
Стали каменной солью, словно супруга Лота.
Но - ради Распятого! - куда так спешат твои
Синие кракелюры, фреска синьора Джотто?
Кисточки лавров шепчутся ни о чём,
Жертвенную скверну стряхнув с алтарей Пергама:
Но - что же мне делать с агнцем за левым плечом
Кого-то из сынов Авраама?
Звездную плащаницу ночь напролет до утра
По-эллински умащают маслины-Голиафы,
А одному из двух гефсиманских мечей Петра
Есть дело до уха дерзкого раба Каиафы.
К Данииловым дланям ласково льнут львы,
В ангельских трубах томится генделевская тема
И ради Ирода странствующие волхвы
Рогами корон задевают звезду Вифлеема.
А Тому, кого не вмещают ни небеса, ни земля,
Еще слишком просторны вертеп и ясли -
И Он, в ладонях Марии ножками шевеля,
Спит, пока еще не погасли
Лампады ветхозаветные в Соломоновом храме, пока
Благодатно и необоримо
Медью Вульгаты Исаиина строка
Будет греметь посреди пантеонов Рима
И укротит кротостью Юпитеров и Венер,
И разъятым зрачкам поведает что-то,
Чего не помнят ни боги, ни ветхий веер вер,
А только любовь - и Джотто.
АФОН
Афон. Исход крылатых горных кряжей
Из плоскости античных аксиом
Нетороплив, как проповедь бессмертья,
И, четки валунов перебирая,
Готовые вспорхнуть, как птичья стая,
Рассказывает всем, что исихазм -
Обряд эсхатологии исхода
Излишнего - из тела и души,
И подлинного знания - из мира,
Вконец запутавшегося в своих
Империях и эмпиреях. Вера
Одна возносит к Логосу свои
Онтологические вертикали,
Седую твердь у моря превращая
В суровый благовещенский подсвечник,
Зажженный пред стопами Приснодевы
В знак благодарности за дар безмолвья
И подвиг умолчания о том,
Что, в явь врываясь бденьем и крестом,
У неземного на земном пороге,
Ты можешь обрести в себе самом
Светящееся веденье о Боге
И перестать дробиться на слова,
Скитанья, жесты скорби и блаженства,
И досягнуть за гранью естества
Недосягаемое совершенство -
Прозрачное, как знание икон
О том, что смертный взор не прозревает,
Как небеса, в которые Афон
Моления и нимбы упирает.
ПАТРИАРХ НИКОН
Душою в иерусалимских росах,
А сердцем к анзерским лесам приник он.
О чём он опирается на посох -
Великолепный Никон?
О том ли, что недаром воссияла
Звезда Москвы из греческого мрака,
А чаду, Богом взысканному, мало
Аскезы, митры, брака,
Как мало быть борцом необоримым
И ноги мыть убогим и юродам,
И править самовластно Третьим Римом,
Как бы своим приходом,
И простирать над плачущей столицей,
Запомнившей суровую науку,
Свою, не раз царями и царицей
Целованную, руку,
И в горний Иерусалим, как дети,
Играть, творя трехперстное сложенье,
И расстилать апостольские сети
На берегу гоненья,
Чтоб вновь в виссон облечься, умирая,
И двинуться страдальцем и тираном
К бессчетнокупольной иконе рая
Над Истрой-Иорданом,
И там, где долы благостью согреты,
Всех искренних встречая благодатью,
С Романовых не снять хвостом кометы
Пророчество-заклятье.
СТАРООБРЯДЦЫ
Их Павел направил, их Спаситель прославил
За губы, сожженные в никоновых кострах,
За кнуты, как парафы из синодальных правил,
Выжигающие на спинах никео-царьградский догмат,
За горчичное зернышко веры, что явь - прах
И в Первопрестольной, и на Керженце диком,
За непоклонные души и плечи,
Простертые перед Пречистым ликом
Приснодевы, пред коим судьбы и свечи
Средь скверны немецкой по-византийски горят.
Их Никола избрал претворить гоненье во благо,
Освятить кровью языческие места
И в богоносное царствование Александра Втораго,
Восемь концов креста умножая на два перста,
Получить семь миллионов, из коих целых двенадцать
Целковиков уделить томлению плоти бренной,
Тюремным страдальцам протягивать кошельки,
А остальное отпустить по банкам скитаться,
Дабы в дедовской, траченой страхом, моленной
Встали в тябло иконы писем евангелиста Луки,
Как оправдание этой отступнической вселенной.
А их бритые дети будут учиться в Ницце
И петь тропарь на голос “франком франк поправ”,
Пока архиереи, ставленные в Белой Кринице,
Над пеплом народнического спора
Отрешенно цитируют макариевский Стоглав
И строгие правила Пято-Шестого собора,
Дабы их паства не смела к Оптинскому порогу
Прикоснуться и, блаженно шествуя мимо
Кафе-шантана и Маркса, привела к Распятому Богу
Всё, что осталось от соборной души Третья Рима.
МОТИВ МАЛЫХ ГОЛЛАНДЦЕВ
Как хорошо, что ландыши - цветут
И хлеб грустит по пыльному мешку,
И золотистый вермут, как батут,
Подбрасывает блики к потолку.
Чеканная серебряная лань
Диане улыбается из тьмы
И веры снисходительная длань
Поглаживает дряблые умы.
Наперерез усталому мечу
Евангельская тянется строка
И гасят одинокую свечу
Вечерние спирали мотылька.
И сетуют тяжелые ковры,
Что сырный дух исходит от ножа,
Без Бухары и вкрадчивой жары
От амстердамской сырости дрожа.
Камин в золе и трубка на столе
Исходят аскетическим дымком
И вымпелы спускаются во мгле
На завтрак с ежевичным пирогом.
Куранты с десяти и до зари
Отсчитывают формулы любви,
И жизнь - блаженна, что ни говори
И Галилеянин благослови!..
ШИЛЛЕР
Торжественный Шиллер в мастерском переплете,
Похожем на шелест сентиментальных аллей,
Напоминает мальчишку, с рукой на отлете
Читающего что-то из “Ивиковых журавлей”
Или “Разбойников”. Синкопы вальса свободы
Или мазурки (всё же - осьмнадцатый век)
Волнуют вздремнувшие народы,
Словно пристальный взор из-под опущенных век
Верховного Существа, о коем столько таланта
И крови истратила якобинствующая рать,
Вместо того, чтобы портретик Канта
Чинным багетом надкаминно окантовать
И - успокоиться, отпив из чаши лазури
Глоток мудрости с зельтерской, ибо звёзды - горят,
А мнение тевтонских дубрав о буре
И натиске - обстоятельно, как парад
Голубоватых плутонгов непобедимого Фрица,
Русскими гренадерами загнанного в боло-
то, откуда пудреная косица
Торчит элегическим дистихом, цитирующим Буало,
Как заздравная драма, увязившая в русской репе
Три зуба Лже-Дмитрия или осколки плинф,
Покуда при факелах в нищенском склепе
Гете язычествует, покинув Олимп,
Чтобы прозреть аттически-чистое лето
В желтом зиянье Йориковых глазниц
И чинно постичь иномирную мистику Света
В готической восьмерице, к переплёту приникшей ниц.
В ЭТОМ ЯНТАРЕ
...а в этом янтаре я помолчу,
Затеплю невечернюю свечу,
И, продлевая к правому плечу
Жест ставрофорных пальцев, отрешенно
Почувствую, как третий глаз во лбу
Заглядывает искоса в судьбу,
Чураясь и гордыни, и поклона,
И видит лишь текучий сон во сне,
Не оскверненный милостыней яви,
И сей янтарь, причастный тишине
До разделенья тьмы и света, ибо
Он лишь о ней поведать духу вправе,
А о сиянье умолчать, как рыба
Молчит о тайне Чермноморской хля-
би, кротко плавниками шевеля
По эту сторону запретной меры,
Чтоб смертью через миг начать с нуля
Преображение и подвиг веры,
И, ускользнув от ночи на заре,
Прощально отразиться в янтаре,
Чтобы запомнил он и сохранил,
Как голограмма, пышущая славой,
Надменный мрак египетских могил
И колесницы под волной лукавой,
И лики Рока, вплавленные в ил
И ставшие мистической оправой
Для знанья, что янтарь из года в год,
Вскользь задевая крылья и копыта,
Ладошкой детской к бытию несет,
Роняя блики на ступени быта.
РОМАНС ЛИЗЫ И ПОЛИНЫ
...Полина и Лиза благоговейно поют
Строфы Жуковского для дряхлой Пиковой Дамы,
И рейнской романтики прохладный уют
Стекает на русские хоромы и храмы
И - напоминает, что время любить - пришло,
Как приходит весна и письмо от друга, чей кивер
На Военно-Грузинской покачивается тяжело,
Или там, где остзейский сивер
Располагает к аскезе и чтенью лённротовых рун
За созерцательной кружкой английского грога,
Пока в карамзинских волюмах кровавозубый Перун,
Оглядываясь с порога на византийского Бога,
Плывет - и не выдыбает во вневременных волнах,
Заслушавшись возле готического карниза,
Как поют, приютив лунные блики в кудрях,
Скромницы Полина и Лиза,
Чьим пальцам есть дело только до струн да пера,
Чтобы ответить другу, забытому в сельском сплине,
И поднести табакерку из версальского серебра
К правой ноздре просыпающейся графини,
Пока ее левая, осьмой десяток верна
Томным кельнским последствиям диалога
Жасминов с левкоями, спросонок чихает на
Добрую половину Просвещенья и Декалога.
АПУХТИН
Лёля Апухтин. Серый уютный пустырь
Духа - желанен, как парк - усталым монадам,
И пешком с посошком шествует в монастырь
Юноша, коему не суждено стать монахом.
Ибо судьба непостижимо слепа
И глуха к возмечтавшим о безгреховной неге,
И в Мариинском, выронив ствол Лепа-
жа, жалкий свой жребий вверяет бельканто Онегин.
А любимый его арап, закатив глаза,
Хохочет пылко и сладостно, как все полукровки,
И каждый зуб в оскале подает безусловно за,
Словно белый шар в баллотировке,
В пользу примата эроса, плоти, страстей,
Вписанных наискось в рокайли Брюллова и Греза.
А размашистый век военно-амурных затей
Обезножел, обрюзг и оставил всего лишь позы
Для заполнения салонов и канапе
Крепостной меланхолией, культуртрегерской комой,
Дабы в крыловских ямбах ближе к шестой стопе
Не спотыкались избранные, особенно - некто Обломов.
ИЗБРАННИК
Старушка-чиновница, коей Вл. Соловьев
Посылал коробочку фиников
Всякий раз по приезде в столицу,
Давно уж отслушала канареек и соловьев,
Избавив досужих циников
От удобного повода самоудовлетвориться
Хлыстиком мистики. Оптина оптом прощает грехи,
Прогрессисты потрясают идеями,
Как векселями о банкротстве России,
А истый философ с разбрызгом пишет стихи,
Католичествует и любуется арамеями,
Медитируя о вечной Софии
В тени пирамид и гностиков, за Шеллингом или Шил-
лером беседуя с панмонголистской Японией,
Броненосцы подтягивающей к русским порогам,
И не думает каяться, что всегда и всюду спешил
И чуть-чуть переборщил с иронией
В своем идиллическом и пылком романе с Богом,
Не прошедшем бесследно, ибо старец из тонкого сна,
Знанья печать преломляя с горними силами,
Об Антихристе пишет - и избраннику надо
Лишь обвести его незримые письмена
На листе своем то ли рифмованными чернилами,
То ли хохотом, вспорхнувшем из ада.
МОДЕРН
Дианы брат, как пылко завязал ты
Мистические бантики модерна
На властных шеях Фордов и Уайльдов!
Смятение готических свечей
Не распугает кобр на витражах
В овалах окон. Локоны Плевицкой,
Карсавиной и Иды Рубинштейн
Воспроизводят линию судьбы
Гетер упадка Аттики. Генезис
Кинжальных вертикалей и картушей
Стекает с пирамид Аменхотепов.
Власть линии, избавленной от тела,
Порхать и благодушно обтекать
Остатки форм в Помпеях духа, впрочем,
Порой заходит слишком далеко,
Но скоро возвращается обратно,
Из созерцательной Ниппон и Бирмы
С собою прихватив дремоту Будды
И гусеницу хобота слона,
Который обречен, как знамя, реять
Над рыцарями Круглого Стола,
Когда они встречаются с Кун-цзы,
Как равный с равным. Битые кетоны
Пунцово источают ностальгию
По черным танцам нимф. Истома бреда
Сгущается, как варево колдуньи,
В пророческом котле - и мятый пар
Маховики вращает. Заратустра
Пытается проснувшегося Ницше
Избавить от реальности - но тот
Отдергивает руку и уходит.
МОСКВА НАЧАЛА ВЕКА
А. В. Малюгину
Мальчишка кувшином лимонада
Ловит Троицкий свет (осторожнее, не разбей...),
А старенькой богомолке от купцов ничего не надо,
Разве что - моченого горошка для голубей.
Первые клубы автомобильного пара
Пополняют кремлевский доромановский алфавит,
И главками своей церкви мученица Варвара
Масленичное варварство кротко благословит.
Арбуз дразнит будочника. Бритый татарин
К немцам спиной деловито творит намаз,
И к матушке Иверской вчистую прожившийся барин
Шествует по обету в двадцать четвертый раз.
Вдоль по Ильинке телесами плывет мамона,
Лихач в евдокииных лужах спешит искупать седока,
И на Никольской часовня целителя Пантелеймона
Исцеляет от хвори и тоски в уголке зрачка.
Преображенцы проносят знамя петровского дара,
Нанизывая рассвет на скобелевские штыки,
И Русь к рубежу подходит, как выстоявшаяся опара:
Добавь пару фунтов местечковой муки - и пеки,
Ибо недаром мачеха от крови не прополощет
Пеленки, в коих спит до срока безгрешным сном
Тот, кто первым опустит лом на колокольни и мощи
В Чудовом и Страстном.
НА КРАЮ ВРЕМЕН
Османы, в уменьшительном от Павла
На слог вперед перемещая арсис,
Агонию Второго Рима за-
ключили эвтаназией ислама -
Суровой, как реванш монотеизма
Пред ликом Троицы. Но минареты
Над чистой чашей купола Софии
Четверократно проницают явь
И к Абсолюту тянутся, как свечи,
Просящие простить детей Аллаха
За слепоту и дерзость. Голоса
Прилежных рецитаторов Корана,
Сочась пучком семитских интонаций,
Являют миру их стремленье стать
Козлами отпущенья. Но Аллах,
Одну стопу поставив на Европу,
Сметает с рубища азийский прах
И не велит иссохшему иссопу
Пространной благодатью окропить
Сухой ломоть сакрального пространства,
Мистической преемственности нить
Перерубив секирою гордыни,
Испитой, словно чаша арианства,
Среди безбожной жаждущей пустыни,
Где череда племен и патриархов
Творит молитву на краю времен,
И, стоя на пути, пути не видит,
И, заслонясь от солнца рукавом,
Напрасно смотрит в сторону, куда
Ушел с апостолами Назарянин.
II
ПРОБЕЛЫ
КОЛЬЦО
Под нимбом обручального кольца
Скрыт перст судьбы. Текучая свобода
Играть в слова и губы погружать
В благую чашу пустоты и яви
Обычно ни о чем не говорит,
И любопытна только как попытка
Постичь предназначение свое
В слепых бобовых россыпях поступков
И панцирных разломах линий рока,
Несущих, словно смальты Византии,
Осколки знанья о Неизреченном
И Недоступном знанью. Два кольца
Две половинки вечности смыкают,
Пытаясь бесконечность обозначить
Своей велосипедностью на пальцах,
Воздетых с верой к Господу, чтоб Он
Пред этой бесконечностю надежды
Поставил плюс - а минусу велел
Искать себе иное примененье
И, надвое распавшись, стать крестом,
Хотя бы - придорожным, пред которым
Усталый путник строго сотворит
Несуетное крестное знаменье,
И хлебы дня преломит - и пойдет
Дописывать своей негромкой тенью
Троичный комментарий горней Воли
К двухмерной мере века и пространства
И к жесту обручального кольца,
Любовно обтекающего явь
Своим неоскверненным ободком.
ФИЛОСОФЕМЫ БЫТИЯ
Итак, философемы бытия,
То бишь этногенез. Китай, как старец,
Покоя ищет за своей великой
Стеной и памятью, перебирая
Триграммы с ускользающим значеньем
И костяные четки городов.
Гул гуннов сгинул. Воины аллаха,
Чалму разматывают по спирали
Вокруг Каабы с черным, словно ночь,
Осколком Божьего престола, и
Пекут на пепле византийских храмов
Лепешки султанатов. Вездесущий
Пресвитер Иоанн творит свою
Несторианскую державу из
Осколков чаш безусых степняков,
Подков уйгурской конницы - и смеха
Плененных персиянок, а монголы,
Зачатые от чистого луча,
С оттягом рубят даосских аскетов,
Учителей хорезмских медресе
И все, на что ложится тень “Ясы”-
И кружат, словно беркуты Берке,
Над заревом истории, чей свет
Румянит щеки тихих русских скромниц
И трансцендентные инициалы
На свитке, что архангел Гавриил
Хранит у входа в каждый русский храм
И с отрешенной горечью молчит
О часе исполнения пророчеств.
КИРЕЕВСКИЙ
Киреевский. Монаси в клобуках
И оптинские схимники седые,
На посохи аскезы опирая
Мерцающие нимбы и астралы,
Пришли развеять Лютерову ересь
На аугсбурсгском диспуте - и купно
Послушать, что же с кафедры гордыни
Глаголет Гегель - скудный, как богатство
И диалектика. Усы Петра
Топорщатся над тенью Третья Рима
И избавляют жизнедарный крест
От четырех концов. Евгений бедный
У финских скал элегии слагает
И проливает греческую урну
С фалернским счастья. Фамусов уклад,
За ломбером лаская невпопад
Податливые прелести холопки,
Спешит цилиндру предпочесть халат
И ищет не пути, а хоть бы тропки
К прозренью смысла сквозь дворцы и фразы
Европы и Востока. Хомяков
И дружные Аксаковы в ермолках
Забавны, как раскрашенный коллаж
На тему православия. Дорога
Набрасывает петли на судьбу
И надевает крестики на шею
Исправного чиновника. Холера
И мода собирают дань свою
С души и тела. Впрочем - дольний срок
Пьет чашу веры, знанья и печали,
А оптинской могилы бугорок -
Не точка, а отточие в начале...
ОТТЕПЕЛЬ
Извол зимы Крещение избавить
От яростной морозной молотьбы
И кованого серебра сугробов
Непререкаем - и благословенен,
Как царственная щедрость наготы
В плафонах рококо. Соски наяд
И бедра недоступные Дианы
Цветут великолепным пылом плоти
И приглашают княжеских портних
И главного закройщика двора
Чуть-чуть прикрыть их праздничной скуделью
Гиматиев и туник золотых.
Но он стоит - Креститель и Предтеча,
В неизносимом рубище из шкур
И ждет над зябкой хлябью Иордана,
Когда, пресытясь золотом и блудом
И пол-глотка раскаянья отпив
Из чаши дольней яви, целый мир
Сойдет в седые волны вслед за Спасом
И выйдет на берег иных времен,
Крещен водой и Духом... А зима
По-прежнему творит нововведенье,
Переводя морозный старослав
На просторечье оттепели. Лед
Сбривает всласть щетину сухотравья,
Смеясь по обе стороны нуля
Над Влесовой династией примет -
И воробей, вразлет ныряя в лужу,
Свой грех пред Назарянином смывает.
СРЕДНЕВЕКОВАЯ МИНИАТЮРА
Багряный плащ мессира кондотьера
Сопровождает клинопись подков
И преданные псицы неизвестной,
Но искренней породы. Рукава,
Томимые летящей ностальгией
По бабочкам и ангельским воскрыльям,
С досадой францисканской отмахнулись
От саранчи докучных сарацин,
Запрета “не убий” - и обязательств
Перед двором Луи Капета. Храп
Великолепно белого коня
С отчаяньем и чопорным причмоком
Вплетает в лес курчавого треченто
Двустишие из старопровансальской
Баллады о Флуаре. Протазаны
Уже прияли векторную волю
И возмечтали мачтами себя
Для нефов, увозящих в Палестину
Тяжелую фрустрацию секир
И проповедь о том, что взявший меч
Смерть примет от него. Глазницы звезд
Так глубоко запали под бровями
Аркад и сводов Кордовы и Кельна,
Так тяжело ворочают зрачками,
Что нагота античная трех дев,
Купавшихся на отмели и в грезах
Почтенного аббата - остается
До срока непрочитанной, как Иов
Или Овидий, к варварам зашедший
Запить сухой ячменный хлеб изгнанья
Тягучим козьим молоком свободы -
И так и не вернувшийся обратно.
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ
Ну, вот и все. Стремленье колеса
Покинуть ось - и спицам ощущенье
Корпускул скорости преподнести
Обычно завершается надломом
И полосканьем горлышка валторны
Микстурой траурных октав. Пространство
Свою подслеповатую слюду
Вставляет в витражи лесов апрельских,
Тревожно транскрибируя ветвями
Текучие фонемы облаков.
И ветер, поправляющий чупрыну
Дымка над влажным лбом локомотива,
“Тупейного художника” Лескова
Наверное, листал. Гримасы станций
И гипсовые слепки городков
Умеют так галантно представляться
Гирлянде глаз транзитных поездов,
Что твой привет косит под комильфо
И начинает спотыкаться о
Грассированье и прононс. И только
Трехглавье уцелевших барабанов
Над старой церковкой напоминает,
Что и сюда когда-то приходил
С апостольской артелью рыбарей
Тот Назаретский Плотник, о Котором
Благоговейно теплятся лампады
Незамутненных старческих зрачков
И ласточки щебечут, задевая
Крылом давным-давно снесенный крест.
МЕДУЗА
В античном зное солнцу лень пылать,
И розовое облачко не тает,
Перетекая в свой косматый отблеск.
Еще немного - и в него вольется
Галантная галактика медузы:
Мерцающий осколок протоплазмы,
От внешней ойкумены отделенный
Ресничкой нуклеарной бахромы
И тенью локонов Пенорожденной.
Вода в воде, не слившаяся с ней,
Смеется над рассудком, что глазам
Претензии тревожно предъявляет
За леность в отыскании границ
Между монадой матовой и мета-
физическим соитием двух газов,
Прикинувшихся жидкостью. Вздыманье
И проседанье внешнего обвода
Ритмично, как заявка на патент
С изобретеньем помпы. Но медуза
Чуждается помпезности. Ей больше
По нраву побывать округлой линзой,
Вбирающей закат - и облизать
Лобзанием безгрешным губы нимфы
Под бушпритом французского корвета
Или разбитой Ксерксовой триремы,
В чьем трюме вечность дремлет, словно спрут,
Мальков ментальной дерзости пугая.
КОПИРАЙТ
Итак, вопрос о подлинности. Савл,
Известный больше как апостол Павел,
Пристыжен Косидовским и Ренаном,
Откажется от авторства пяти
Своих посланий - и его гонцы
Поедут по церквям и синагогам
С пустыми поясами, лишь привет
Передавая верным. Иоанн
Начнет дробиться на две ипостаси,
Апостольски-пресвитерским пером
Рассказывая о Воскресшем Агнце
Куда подробнее, чем Иисус
Знал и догадывался о себе.
И легендарный Ареопагит
Обязан жить четыре лишних века,
Чтобы в шестом расставить по чинам
Весь сонм небесных сил - и упорхнуть
За слово, отделяющее вечность
От времени. Лучатся купола,
Мерцают цареградские лампады,
И пламя, пожирая имена,
Лелеет только истину, с которой
Себя отождествляя, Назарянин
Благоволил ответствовать Пилату
И прах своих сандалий вновь отряс
На искупительно-напрасный спор
О подлинности Торы и Исайи -
И Сам поставил вечный копирайт
На все, что мир узнать о Нем достоин.
ОПИСАТЕЛЬНЫЕ РОМАНЫ
Эпоха описательных романов...
Безжалостность жасмина укоряет
Степенной белизною двух дебелых,
Но все еще не выданных, невест.
Хромой моряк стучится деревяшкой
О филантропию и паперть. Ветер,
Пропахший славою и Сингапуром,
Уподобляет паруса фрегата
Раблезианским формам капитанши,
Поднявшейся в парижском пенюаре
Умыться на фордек. Три старых стряпчих
Смеются всласть над клерком, позабывшим
Вписать “без оборота на меня”
В свой первый вексель - и теперь готовым
Отплыть в Канберру или хоть в Калькутту.
Седая повариха-негритянка
Старательно прожаривает ростбиф
Для пастора, вздремнувшего под ужин
Над толкованьем Девтероисайи
И заглянувшего сквозь сон вполглаза
В оккультный смысл кладбищенских надгробий
И изгородей, оградивших Бога
От папского язычества своей
Гранитно-пуританскою аскезой.
Вдова негоцианта письма шлет
Куда-то в Грецию - и подражает
Пирам Лукулла вяленой треской
И страстью к хересу. А фокстерьер,
Троих хозяев в лодку загоняет
И разгрызает модные жестянки
С вестфальской ветчиной - и Альбион
Ведет невозмутимо за собой
Сквозь холод, хохот, хляби и хворобы.
СВИТОК ЧИСЕЛ
Не оскверняй подробной экзегезой
И толкованьем - скучным, как запрет,
И длинным, как Великая стена,
Свободные размеры водопадов
И строфику созвездий и соцветий
На свитках бытия. Погибли царства,
Явились и ушли чужие боги,
И бронзовые жертвенные чаши
С просторными реченьями Кун-цзы
Давно уж переплаавлены в футляры
Или заколки для красавиц. Небо
Легло на кровлю Павильона Мудрых
И преломило ход своих светил
Об отраженье в озере. Драконы
Истерли крылья о зрачки Цинь Ши
И исцелили всех своих потомков
От ноши жизни. Лишь сквозная ваза,
Хвостом кота разбитая в четвертый
И склеенная в двадцать первый раз,
Хранит непобедимый запах лилий,
И тигр, уснувший с даосом в обнимку
Семнадцать тысяч лун назад - все так же
Храпит - и видит бабочку во сне,
Похожую на пятую жену
Седьмого Сына Неба из девятой
Династии. И ласточка все так же
Подковою Небесных Скакунов
Пятнает небеса на ветхом свитке,
С которого ссыпаются века -
И старец с посохом взирает важно,
Как легкий дым, имен, эпох, заветов
Над медною курильницей плывет
И помогает вечности забыться.
ТУРГЕНЕВСКИЙ МОТИВ
Грачи зовут Саврасова. Лучи
Скользят по пухлым томикам Жорж Санд
И быстро отнимают у Минеи
Внимание читательниц. Весна
И модная двухстволка избавляют
От зимней безысходности. Мужчины
Кой-как дождутся Фоминой недели,
Из Пушкина припомнят пару строф
И развезут по клубам и охотам
Истории и бакенбарды. Смех
Пойдет с грехом привычно рифмоваться
И отберет вконец у старых дев
Надежду на замужество. Цветы
Еще побудут в выцветших альбомах
И пышно покрасуются на шляпках
Прямехонько из Нижнего и Ниццы
Под вальс Ивана Страуса. Портнихи
Фасоны получают из Парижа
И не берут охулки на иглу,
Преображая тело. Лишь душа,
Как дым осенний накануне нови,
Пребудет невостребованной, словно
Стихотворенье в прозе о собаке
И воробье. Лишь нежность и любовь
Протянут бытию крупинку смысла
На пальчиках, чей жест для поцелуя
Протянут - а закончится крестом:
Владимирским в петлице мужа - или
Тяжелым парамантом на груди
Игуменьи в монастыре, чья тень
Дрожит на рельсах, мчащихся в Европу.
ПЕЛИКАН
В разбитых вазах обитает сон
И знание букетов о надежде,
Лишенной веры. Горстка черепков
Уже не составляет ничего,
Кроме укора формулам Евклида,
Поскольку сумма всех их уступает
Любому по отдельности. Так дождь,
Напившись света лунного, не в силах
Сияньем спорить с каплей. Так тропа
Струится, словно бесконечный минус,
Поставленный или забытый перед
Пропорцией версты к вершку. Но вазы
Преодолели исступленье формы
И уступили жажде пустоты
Прорвать плеву фарфора, дабы стать
Единым целым с целокупным Дао
И эйдосом платоновым. Цветам
Осталось только скромно потесниться,
Отсутствие присутствия избрав,
И прозвучать, как странный комментарий
К Великой Пустоте, благословившей
Отталкиванье почвы от корней
И знания - от веры. Пеликан,
Зачерпывая клювом пустоту,
Творит обряд шотландского масонства
И говорит, что жажда пустоты
Несовершенна, а глоток бессмертья -
Не лишний никому и никогда,
Особенно - мечтающим срастись
Осколкам духа, времени, державы.
ПОСЛЕДНИЙ КИЛИК
Авсоний прав. Осколки римской славы
Годятся лишь для готских королей
Да пурпурных мозаик Византии,
Тяжелых, как сенаторская тога
Или аскеза этих христиан,
С улыбкой подставлявших в цирке шею
Медведям и пантерам. Галлы, гунны,
Вандалы - в общем, варвары - прошли
По всем семи холмам, и даже Рома
Пред ними снял свой бронзовый доспех
И бросил меч свой в Тибр. Аполлодор
Напрасно описал нам всех богов:
Они не помогли. Напрасно гуси
Свою живую печень на алтарь
Роняли пред Юноною: и та
Закуталась в оборванную столу
И поплелась дешевой маркитанткой
Вслед за обозом варваров. Гораций
Воспел пиры и рассказал, как лучше
Поставить ложа и столы расставить,
Но не сказал, чем угощать гостей,
Когда рабы и слуги разбредутся
По легионам и монастырям
Вдогонку за Христом. Апостол Павел
Недаром гражданином римским был
И умирать и то приехал в Рим.
А мы с тобой умрем Вакх знает где,
И вместо мраморного саркофага
На Флафиевой праздничной дороге
Наш прах никчемный примут катакомбы,
А то и просто выгребная яма,
Куда сегодня мы швырнем разбитый
Последний килик, выпитый - за Рим!..
АКВАРИУМ
Аквариум звучит как Аввакум,
Но, плавниками гуппи шевеля,
Спешит предостеречь пассионарность
От слишком резких всплесков. Акведук,
Над Лацио взлетевший, словно лук,
Имеет тоже нечто сообщить
Руинам Рима Третьего о Первом -
Но русский истовый ересиарх
Не чтит цивилизаторских изысков
И сам берет щербатое ведро,
Бредет к ключу степенными стопами
И, Дафниса и Хлои сторонясь,
Сам изливает мириады дафний
В котел дорожный закопченный, над
Которым протопопица и дети
С благоговейной кротостью молчат
И отстраняют никоновы сети,
Покуда сам суровый исповедник,
Из вервия словесного сплетая
Апостольские сети - рассуждает
Об ипостасях Троицы - и режет
Из чурбачков березовых и веры
Корявенькие крестики, на коих,
Упрятанных то в кудри, то в подол,
Распнется аскетический раскол,
И распря, осквернившая обоих
Фанатов правой веры - станет манной,
Которую подвижники и псы
Так жадно подберут с веков и хроник,
Что сам Распятый их унять не сможет.
ГЕТЕ
О, Гете знал, как нелегко найти
Предлог для беспредложной связи с веком
В лукавом эллипсе латыни! Камни,
Прожилками мерцая на ладони,
Запоминают только архетипы
Геологических эпох. Монеты
Куда красноречивей в этом смысле,
На аверсе Аврелиев портрет
Дополнив надписанием о сути
Существования цивилизаций
Вне четырех воздетых крыл креста
И скепсиса античности, чей град,
Из губ, облепленных вином и кровью,
Волчицыны соски не выпуская,
Устало медитирует на тему
Своей реинкарнации в иных,
Непредставимых хронотопах. Пылкий
И нежный Шиллер стал совсем степенным
И вздрогнул бы от ужаса, узнав
Свой дерзкий череп в мраморной оправе
На письменном столе у друга. Впрочем,
Германский гений вправе сам решать,
Где повстречать свой призрак - и в какую
Из тысячи чернильниц погружать
Перо, прикинувшееся пружиной
Из Западно-Восточного дивана,
Когда губам бескровным надоест
Скользить истомой дряблых поцелуев
Вдоль по улыбке Ульрики на гемме
И Эккерману, верному, как смерть,
Рассказывать легенды о грядущем.
УСТАЛАЯ ГОТИКА
Увы, от самых добрых пожеланий
Не вырастет ни стебелька. И все же
Не вынуждай пространство отвора-
чиваться от твоей лукавой тени,
Напоминающей распятья первых
Страдальцев о Христе, поскольку дар
Общения с библейским Абсолютом
Не абсолютен. Капающий с губ
И кончика строки смех - застывает
Мистическими слепками мираклей,
Что одинаково к лицу и бесам,
И ангелам. Остроугольный норов
Прищуренных готических соборов
На шпили нашампуривает явь
И нефы к Богу отправляет вплавь:
Но тень их убегает, словно боров,
Исламских проповедников дразнить
И пыль ушами стряхивать с мидрашей,
Вдавив копыта в заповедь, что нет
Ни эллина, ни иудея. Время
Так любит жерновами циферблатов
Молоть зерно пророчеств и событий,
Что людям остается из муки
Печь просфоры, облатки, опресноки,
Чтоб было чем с молитвой заедать
Глотки земного пойла из купели,
В которую надвратный сонм святых
Не то что не сойдет с тимпана - а
И заглянуть-то даже не решится.
ОЛЬХОВАЯ СЕРЕЖКА
Опять апрель. Недолгая возможность
Преодолеть прострацию пространства
Цыплячьим многоточием ольхи
И в крапинки орешника вкрапить
Совсем немного памяти о пестрых,
Любезных Исааку, овцах. Сок
Березовый из трещин - истекает,
Как срок великопостных паремий,
И исподволь подталкивает душу
К соблазну говорить не из себя
И ни о чем - а просто любоваться
Летающею щеточкой шмеля,
Что прочищает в воздухе страницу
Ярилиным автографом грозы,
Вразлет напоминающим кому-то,
Что все, что начинается с прощанья,
Прощаньем и окончится. Дорога
Поклонится Гермесу и Николе
И выспренней параболой скитанья
Распишется в бесцельности попыток
Умчаться от себя - и поднесет
Тебе корец березового сока,
Где плавают осколки синевы
И нежная ольховая сережка.
И ты ее отдашь босому ветру,
Раздернувшему шторы бытия,
И сок по капле выпьешь - и простишься.
ПЕЧЕНЬ ЭЛЛАДЫ
Недаром пифия дышала серой,
Зловеще невещественность вещая,
Недаром клюв Зевесова орла
Резекцию устроил Прометею,
Выклевывая печень у Эллады:
Она страдает от страстей и пассий
Бесчисленных. Зато разлитье желчи
По полюсам и полисам ахейским
В круг опыта ее совсем не входит,
И сослагательное наклоненье
На италийские императивы
Менять и в голову ей не приходит.
Не про нее веду свои анналы
Понтифики, всходя на Капитолий,
Суровые сангвиники сената
И консулы, томимые изжогой
От крови Галлии и Карфагена,
И костылем и посохом Распятья
Прощально подпирающие Рим.
Его абэцэдарии издетства
На грифельных досках, веках и судьбах
По трафарету кодексов привыкли
Писать камнями печени своей.
А дева волоокая Эллада
Грех искупает наготой небесной
И умащается, всходя на ложе,
Елеем из Афиновой маслины,
Пока ее избранник разбавляет
Хиосское, душистое, как сон,
Водою - чтобы печень не болела.
ЛАСТОЧКА СУДЬБЫ
Ирине Ковалевой
Когда фарфоровому Шакьямуни
Надоедает сопрягать собой
Предметность метафизики и духа,
И тенью головы стучаться в вазу,
Чтоб пояснить надменной пояснице
Значение поклона в восхожденье
По лествице бессмертия; когда
Мерцающие векторы магнолий
И стрелы гладиолусов влетают
В драконье горло древнего кувшина,
Чтобы собрать из веера лучей
Слепящий фокус Истины; когда
Осенний сад за ветром признает
Размашистое право обнаженья
И пагоды относятся к погоде
С непреходящим чувством превосходства,
А бабочка из притчи Чжуан-цзы
Не помнит о последствиях своей
Последней инкарнации - и плащ
Усталого отшельника взлетает
За нею по спирали бытия -
Так хочется избавить плоть свою
От памяти и вещей ноши веры
И поскрипеть серебряным ключом
В той скважине двойного подсознанья,
Где воля плоти к плотности и мере
Искуплена зияньем древних аур,
А ласточка судьбы свила гнездо,
И вывела птенцов - и улетела.
К ВЕРГИЛИЮ
Георгики. Гербарий. Георгины.
Букет великолепных пустяков,
Поставленный пророчески-случайной
Рукой любви в надтреснутый кувшин
Аскезы добровольной - бесполезен,
Как манифест ташизма для слепого,
Как истинная сущность быта. Пар
Над чайником кипящим возвещает
Готовность влаги к усвоенью смысла
Существованья чайного куста,
Но умолчит о диспуте молекул
О праве осмысления пространства
Посредством воспарения над ним
В обличье пара. Смирная ментальность
Схоластов Геттингена и Сорбонны
Зевает над мистической трактовкой
Двух мест из “Песни песней”, афеистам
Российского осьмнадцатого века
Подмигивая веком Абеляра
И Ламеттри, пока букетик яви
В надтреснутом кувшине полыхает,
Как щеки после первых поцелуев,
И взбрызгивает стиксовой струей
Гербарий бытия - и георгины,
Огромные, как чаша Колизея,
Лелеет и роняет на гробницу
Умевшего в любви быть мудрецом,
А в мудрости - любовником, о прочем
От сердца попеченье отдалив,
Как свиток недописанный георгик...
ПОРТУГАЛЬСКИЙ ПЕЙЗАЖ
(мотив Эса де Кейроша)
Два клирика в поношенных сутанах
Передвигают циркули сандалий
Навстречу длинной тени кафедрала
И дню святой Агнессы. Три ступени
Из четырех, ведущих в погребок
С невинностью и винами - хрустят
Ячменною соломой. Господин
С великолепной тростью и в цилиндре
Поклоном начинает ритуал
Привета перед стрельчатым окошком
Или балконом, дверца на который
Так выразительно полуоткрыта.
Понурый ослик шествует под арку
С корзиной свежей рыбы и редиса,
Обвязанной шнурком надежды на
Полуденный глоток из бочки сна.
Две колокольни, в небо воздевая
Крестов своих двуперстное сложенье,
Грозят кому-то, а быть может - просто
Обозначают западный предел
Для папской юрисдикции. Фонарь
Соскучился по маслу и прилежным
Рукам уборщика. Лишь синьориты,
Как скрытые пружины бытия,
Творят обряд отсутствия. А мальчик
Несет кувшинчик с козьи молоком,
Крестясь украдкой, чтобы не разбить
Высокую мечту средневековья
О камни девятнадцатого века, -
И молоко, споткнувшись, проливает.
ИЗ ВРЕМЕНИ БЕЗВРЕМЕНЬЯ
Из времени безвременья, из воли,
Темницей обернувшейся, из смеха
Очередного fin de siecle’я над
Толстовством захудалым по уездным
Гимназиям; из жажды милых дам
Преодолеть античность в одеяньях,
Но прелесть Каллипиги подчеркнуть
Курдючностью турнюров; из Ваалов,
Анапестами Надсона бескровно,
Но властно приглашенных к той эпохе,
Когда “Победоносцев над Россией”
И далее по Блоку; из псалмов,
Воспетых над всемощными мощами
Учительного старца Серафима
На государевом плече; из шкивов
Морозовских мануфактур, натерших
Добротные мозоли на хребте
России, дружно взявшейся за гуж
Державного прогресса; из спиритов,
Вздремнувших над доктриною Блаватской
И волей плоти к избавленью от
Десятословья, государств, семьи;
Из рвенья пар и пара на экран
Синематографа; из станиславских
И чеховских прищуров; из линкоров,
Надраенных на карнавал Цусимы,
И столпотворчества, и обреченной
Пасхальной феерии Фаберже -
Я выбираю слово Иоанна,
Да страсти по Софии Соловьева,
Да оптинцев предстательство за Русь,
И влажный след России уходящей,
Набухший кровью, славою и - верой...
ЗНАНИЕ ШЕСТОЙ ПЕЧАТИ
Вот - знанье, тяготящее ладонь
Мистической уверенностью в праве
Прочерчивать параболу судьбы
По бугоркам царапин и мозолей,
И даже предуказывать исход
Детей из дома и души из тела,
Но ничего не знающее о
Троичной воле времени к слиянью
С надмирной метафизикой пространства,
О крыльях Иоаннова орла
И сгорбленности старца Серафима
Под ношей всероссийского греха,
А потому вторичное, как Маркс
Или ислам. Пришедшие - пришли
На вечный виноградник Господина
И приняли в разъятые сердца
Денарии двенадцатого часа,
И ночь согрели шелестом сандалий,
И по рассвету поняли, что день
Шестой печати наступил... И ангел
Пометил нас знамением предвечным
И каждого до срока отпустил
Исполнить о себе извол Господень,
И крестной волей смертью смерть попрать
Или приять на кисть и на чело
Три огненных шестерки - три секиры,
Кроваво надсекающие явь
И вещий дуб мамврийский, под которым
Три Юноши обрядом гостеванья
Благословляют Авраамлю скинию
И преломляют хлебы, как седьмую,
Низринуться готовую, печать.
НАБОКОВ
Порхание пера над пылом плоти,
Трехмерным и двусмысленным, как явь,
Напоминает танец махаона
Или листок мистического клена,
Приосенивший девственное лоно
Нагой отроковицы. Совмещенье
В одном портрете маски герра Фрейда
И бунинской усмешки - бесполезно,
А потому незаменимо. Смысл
Столпотворенья шахматных фигурок,
Особенно - напыщенных ладей -
В готовности к отплытию туда,
Где мир не знает меры и отвеса,
Где надвое разорвана завеса
Над силовыми линиями рая,
И гордый Питер, как “экслибрис беса”,
На титуле пространства попирает
Волюмы воль, религий, интеллектов
И кровью метит каждую страницу
И каждую строку. Босой старик
На паперти читает нараспев
Акафист Богоматери Державной -
И катится держава, как арбуз,
Вниз по ступеням рока, разлетаясь
На семечки республик, чья судьба
Не прорастет сквозь русские руины.
И Сирин с буквиц старенькой Псалтыри
Летит - и покидает тень свою,
И бьет крылами в колокол щербатый,
И - плачет о грядущем вместе с ним.
ПАНОРАМА КРЕМЛЯ
Зубцы стены над Троицким мостом
Играют в колкий гребень стегозавра,
И, сыростью сиреней надышавшись,
Советуют доверчивой Кутафье
Повыше белокаменный подол
Приподымать над мерзостью событий,
Имен и спин. Петровский Арсенал,
На каббалу рубиновых пантаклей
Заржавленные пушки наводя,
Желтеет, как пророчески-фатальный
Указ о превращении Кремля
В местечко для забавы ритуальной.
Чешуйчатый доспех брусчатки чтит
Державный ход бесшумных лимузинов:
Им, как волхвам, вслед рдеющей звезде
Притекшим к вифлеемскому вертепу,
Рад зев суровой башни, чьи часы
Перенесли в иное измеренье
Отсчет двух дюжин суточных долей
Конца мистической седмины. Дождь
Лениво заштриховывает стены
И башню, чьим подвалам не страшны
Ни ярость исступленная татар,
Ни бочки с человечиной соленой,
Ни пятки пятилеток. Лишь стеклянный
Аквариум конца эпохи Рыб
Боится прикоснуться к кирпичам,
Чтоб кровью не наполниться. А купол
Ивановский струится, как свеча,
Нагар династий и веков снимая,
Всё дальше от земли, всё выше в небо -
И ничего не помнит о грядущем...
АПОСТОЛЬСТВО ДОРОГИ
Не упрекай дорогу за наме-
ренье каменьев требовать поклона
От каждого, избравшего ее
Своим поверенным в делах скитаний.
Задумчивые арки облаков,,
Сквозная вязь досужих пилигримов
Или ремарки храмов и мостов
Надоедают ей еще быстрей,
Чем ты смахнешь с колен досаду. Время -
Всего лишь производная пространства
И наспех вытекает из него
В подставленные урны городов,
Сердец и вер. Апостольство воды,
Песчинок или стрелок на часах
Разносит всем благую весть о нем
И оставляет в просфоре пространств
Священную промоину - дорогу,
Которая вплетается в тебя
Змеей с Меркуриева кадуцея
И ни о чем не хочет вспоминать,
Особенно - о будущем. Асфальт,
Седые бревна русских мостовых
И тесаные плиты римских стадий
Свободны ничего не разуметь
В неторопливой мистике дороги,
По коей ты уходишь от себя
В ту сторону, откуда гаснет день,
И где наряд дорожный мудреца
Распарывают детям на пеленки.
;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;; ;;;;;;.
ТА ГРЕЦИЯ
I. АТТИЧЕСКОЕ УТРО
Рассветный диск неспешно входит в роль
Медузы на трезубце Посейдона
И на сосках наяд морская соль
Козлам в усладу высыхает сонно.
А Марсов фриз, на мраморную гладь
Резцы пяти веков собрав для спора,
Устал фронтоном дряхлым подражать
Расхожей теореме Пифагора.
И беззаботно спит в щетине трав
Амфорная цитата пасторали,
Как мальчик-виночерпий, исчерпав
Фалернское и доводы морали.
До ночи приютив венерин луч
В кудрявых капителях, колоннады
Глаза имущим предлагают ключ
К фаллической символике Эллады.
А утро Александровых времен
Мечи от воздержанья исцеляет
И свой разбег, как глупый Фаэтон,
В зенит неумолимо направляет.
II. БОГИ ЭЛЛАДЫ
Веселые эллинские боги
Издалека и долго приходят на Олимп
И рядом с вершиной омывают пыльные ноги
Кровью, вином и текучей слезой олив,
И сандалиями целуют Геи просторное лоно,
И по-хозяйски на жертвенник взваливают без слов
Кратерное чрево Вакха, кифару и плащ Аполлона,
И по склонам пускают Диониса бодливых козлов,
И, не дождавшись воли пифийского архонта,
Речи заводят сразу на всех языках,
Вспоминая, как шли из-за Эвксинского понта,
Топтали парфянскую глину и арамейский прах,
И, Яхве не слушая, повелевали Нилом,
Расплескивая и снова вгоняя его в берега,
Когда еще были скарабеем и крокодилом
Или носили священные Аписовы рога,
Но наконец устали от копыт своих и воскрылий,
Перед бронзовым зеркалом улыбкой сменили пасть,
Гесиода послушали, хвосты и гривы сбрили
И помогли надоевшим деревянным божкам пасть.
А теперь, отдыхая от жертвенного азарта,
С треножника поучают бородатых афинских детей
Повелевать звездами и любить любовь, как Астарта,
Целуя до крови, обнимая до хруста костей,
Чтобы року в угоду раб с ошейником свыкся
И пахарь пахал, и чекан не жалел серебра,
И филомела с цикадами решала загадку Сфинкса,
Которую им не решить, ибо им пора
Смахнуть со своих ликов брызги молитв и проклятий,
Благословить гетеру и скудный пастуший кнут,
И алтарь разбить, и - уйти, завернувшись в гиматий,
Тропой, по которой новые боги придут.
III. МИНОЙЦЫ
А ноша вечности еще легка
Без клади Карфагенов и Италий...
Но - как танцует на хребте быка
Цивилизация осиных талий!
Над вертелом клубится сытный чад,
Аэды перелаживают лиры
И над зачатьем Аттики торчат
Святые двоеострые секиры.
И достают оливы с облаков
Цари, до умиления простые -
Из тех, что через дюжину веков
Пойдут встречать рождение Мессии.
И бык рога вонзает в горизонт,
Как в чашу, обращенную к потопу,
И похищает, вспенивая понт,
Историю, как юную Европу.
Но скоро лук поклонится стрелку,
И Зевс, на сонмах туч взломав печати,
За все, что не дозволено быку,
Сполна и окончательно заплатит.
И Крит руном стеснится пред дворцом,
Сквозь стон творя обряды отторженья,
И станет минотавром и тельцом,
Что заклан ради жертвы всесожженья.
И явь, свои пути скатав в клубок,
Танцуя, как девчушка озорная,
Сорвется, выпьет грудью бычий рог
И - улыбнется звездам, умирая.
IV. ЭЛЛАДА
О Эллада! Как галантны твои метастазы
Зооморфности божьей без египетских грив и хвостиков.
Собирай свои коринфские вазы,
Ахейские логаэды и посмертные маски гностиков,
Почитай стоиков за крутые метафоры духа,
Реализуемые в капителях ли, в плоти ли,
И к киникам склоняй ухо,
А не ноздрю. Прочие Аристотели
И так завладеют интеллектами обоего пола,
К бытию относясь снисходительно-искоса.
А ты впишись в сакральный ракурс дискобола
И сама себя выстрели диском и дискосом,
Чтобы их многократные рикошеты
От иных хронотопов, затерянных в неизбежности.
Подхватили ваятели, толковники и поэты
И иные ценители нежности
Тибрских ценителей позднекритского вкуса
К аттической соли, чей след до сих пор ощущаешь, и
К ученью предтеч галилеянина Иисуса -
Из тех, кто прорек: “Ныне отпущаеши”,
А в молодости любил александрийские гиацинты
И птолемеевы драхмы, как запоздалую премию,
На талес Торы накинув гиматий Септуагинты,
Чтоб и ее привести в Академию,
Где ты, о Эллада, лелеешь муз и науки,
И фронтонных веков именословье прославленное,
И из килика тянешь благое вино скуки,
На две трети водою бессмертья разбавленное.
V. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ЕГИПЕТ
с. п. к. Ф.
Эти греки с мечами и фалдами наперевес
Не напрасно бежали из Аттики или с Крита:
Полусфера египетских небес
Патиной эллинизма победоносно покрыта,
Как старуха румянами. Амон подносит лучи к лицу,
Изида Меркурию предает простертое лоно,
А вечность сдувает историю, как пыльцу
С крыльев бабочки и сводов усыпальницы фараона,
Где греки слезами олив натирали грудь перед тем,
Как богам послужить покаянием и расплатой,
И изливали хмель философем
На шелест папирусов тридцать девятой
Династии, чьи картуши подмигивают судьбе
Полумасонским прищуром Всезрящего Ока,
И ненавязчиво таят в себе
Нечто эллининистическое, что до срока
Выправляет надбровные дуги, докельтский нос
И жесты Судного дня в трехчетвертном развороте,
Звучащем, как риторический вопрос
К самооправданию духа посредством плоти -
Одинаково смертной и бессмертной, как тростники,
Наперекор африканскому пылкому праху
Косо заштриховавшие на взлобьях великой реки
Отраженья креста и чалмы покорных аллаху,
Ибо становится вектором вечности колесо,
И мумия котенка воскресает в коптском крипте
И произносит “мяу” - и это едва ли не всё,
Что можно сказать о Египте.
VI. ТА ГРЕЦИЯ
Та Греция, о коей мы с тобой
Болтаем с полусмехом пиетета,
Была и розовой, и голубой,
И вообще избавленной от цвета.
Покуда крылья Зевсова орла
Парят над прометеевым наркозом,
Ей так легко размазывать тела
По олимпийским ракурсам и позам,
И, перегнавши коз с земных полян
В просторные надзвездные вольеры,
Стопой коринфян или афинян
Вращать гончарный круг небесной сферы.
Смотри: над кромкой вспененной волны
Несут свой рок, с метафорами споря,
Ее непобедимые сыны,
Изгои и гонцы - народы моря.
Их гонит в даль египетских ночей,
Где Пта, Амон и Тот бросают карты,
Угрюмая фрустрация мечей,
Эдипов комплекс Аттики и Спарты.
И скорбная вдовица, чьих щедрот
Не знали ни Нероны, ни Мернепты,
Всех больше Цебаоту подает,
Согрев в ладони две афинских лепты.
РИМСКИЕ ГЕММЫ
I. ЦЕНТУРИОН
Властный Аппий, откинь свой шлем со лба:
Пусть холеная гордая бородка
Расползется, петляя, как судьба,
На упрямом утесе подбородка.
Ты недаром с когортами шагал:
Страх пред Римом вобрали в сны и в гены
Ибериец и непокорный галл,
И мальчишки над пеплом Карфагена.
Но - окончен кровавый водопой,
И прилег отдохнуть почти некстати
В ножны меч твой - тяжелый и тупой,
Как проконсул и преторы в сенате.
Что ж теперь? Исцеляющую медь
Приложить к распоровшей шею ране,
В томных термах от мяты разомлеть,
Виноград потоптать в давильном чане,
Покачаться в качалке мудрых фраз,
Вспомнить Венус пьянящими ночами
Да муренам скормить в веселый час
Македонца-раба перед гостями.
А когда к сонной ложнице Харон
Подгребет в челноке своем бездонном -
Подмигнуть ему: - На кого Плутон
Собирает сегодня легионы?..
II. ГЕТЕРА
Публий почтенный, в пентаметрах не суесловь
И на камень ее урони четыре левкоя.
Ах, как она умела зажигать и топтать любовь
И целую центурию исцелять от покоя!..
Когда на ее кудри лепестки роняли сады,
Юноши навсегда забывали имя невесты
И целовали сандалий ее следы,
И ревность коробила даже мраморный лик Весты.
Помнишь, как стыдно было его жене,
Когда на ристаниях в ее честь разорился Проперций,
А Луций Вариний для нее растворил в вине
Розовую жемчужину ценой в миллион систерций -
А она ее выплеснула, Овидия нежно шепча
Безусому мальчику, за пиром возлегшему с края,
Словно не замечая, как с нефритового плеча
Туника соскальзывает, бутон соска открывая.
А тот, кого она полюбила преданней и нежней
Поэтов и консулов - наездников минуты -
Даже не оглянулся и не улыбнулся ей,
И взмахом гиматия подал ей чашу цикуты.
И она ее выпила... Вздрогнул от ужаса храм,
А она улыбнулась прощально и благосклонно
И - умастила в усладу подземным богам
Амброй - шею и бёдра, розовым маслом - лоно.
III. СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
Обними ее, вкрадчивый Марон,
Осторожно и нежно, как цевницу.
Твоей славы высокомерный сон
К идам мартовским горько отоснится;
Сразу вспомнятся давние долги,
Ты завидовать будешь ветхим ларам,
И сенат отвернется, и враги
Поквитаются с ссыльным консуляром.
И друзья сквозь лукавый плеск вина
Над тобой посмеются зло и шало -
И лишь только Лавиния одна
Твое горло избавит от кинжала.
И пока топчут Рим седой дожди,
Как поверженных даков - твои кони,
Посиди с нею рядом, посиди
Перед резчиком с ониксом в ладони.
Ты еще переждешь извет и ложь,
Отдохнешь от докучных вожделений
И с Лавинией в Колизей войдешь
По ступеням хребтов и восхвалений.
И не лужа кровавая побед -
На мгновенье коснется лика бога
Ее профиля кроткий полусвет
И твой лик - как истрепанная тога.
IV. ГУБЫ КЛАВДИЯ
Клавдий недаром глядит печально и косо:
Он и за гробом подставит профиль беде
И его обобьют от шеи до кончика носа
Христиане, завидуя апостольской бороде.
Но губы, облепленные текучим комом
Катулловых строчек, скользких и сладких, как грех,
Останутся соблазнять матрон сарматским изломом,
Плевать в стоиков и льстиво расплескивать смех.
И если их лунным бликом избавить от пыльной пытки
И полглотка хиосского из амфоры омыть -
Они зашевелятся, как проснувшиеся улитки,
И вспомнят былую неутолимую прыть,
Когда они не спешили пред правнуками Волчицы
Цитировать Гесиода, Теренцием щегольнуть,
Но Бахуса почитали - и ласково, до ключицы
Трогали абрикосовую Агиппинину грудь,
Пока Агриппина умывалась мускусом пряным
И шептала, с кудрей стряхивая вянущие цветы:
- Что ты смеешься на Форуме над этим Октавианом?
Он Августом станет. А ты?..
V. ПОРТРЕТ МАЛЬЧИКА
Венок из рдеющих роз
На мягкие кудри надень.
Ты духом еще не возрос
И любишь забавы и лень.
Не слушаясь пальцев, твой стиль
Скользит по вощеной доске -
Но звезд золотая пыль
Дрожит на твоем виске.
Ведь ты - избранник судьбы:
И в гавань, где спят корабли,
В резных носилках рабы
Бегом тебя принесли.
И ты на мраморный пол
Им бросил по медяку
И с любопытством вошел
К резчику-старику.
Он Аполлоном храним
И Титу резал печать.
Тебе не придется с ним
До первой стражи скучать.
Ты смирно с ним помолчи
И кудри к яшме склони:
И он отыщет ключи
В твои державные дни.
VI. ПОНТИФИК
Хроники трогать шлепками ременных сандалий,
Благословлять ступени и фаллику колоннад,
И о мозаику черепичных и лавровых далей
Вытирать равнодушный, ничего не ищущий взгляд;
Выслушивать авгуров, возжигать жертвенник волей
Архимедовых стекол - и любоваться дымком,
Возводить весталок на Капитолий,
А согрешивших плотью - закапывать в землю живьем;
Предрекать, что назавтра опалит чертоги и тоги
Зарево новой славы - и содрогнется Рим:
Много дел у понтифика, которого выбрали боги -
А ты, Публий, наверное, был им,
Иначе зачем в лабрадоровом пьедестале,
На коем Диоскуры мученически обнялись,
Твою сердоликовую усмешку замуровали
Те, кого ты не считал даже за крыс,
Когда посылал их узнать - не оборвали ли Парки
Адриановых странствий неторопливую нить,
И покорять Парфию, и триумфальные арки
Для спеси Веспасиановой до облаков возводить.
VII. МАТРОНА СИЛЬВИЯ
Ах, счастливая Сильвия! Зачем
Ты смеялась заливисто и пылко,
Когда галльский трезубец и сквозь шлем
Мирмиллону снес череп до затылка.
Ты ведь матерью неги создана
Чтить весталок насмешливым поклоном
И за чашей согретого вина
Снисходительно вздорить с Цицероном.
И, на взоры юнцов стряхнув опять
С бедер пламенных тунику и столу,
В душных термах к бассейну подступать,
Как владычица Савская к престолу.
А в того, с кем семнадцать лун назад
Старый жрец обручил тебя Гимену,
Упирать равнодушно-скучный взгляд,
Ненасытно летящий на арену,
Где, растерзан клыками медведей
И гиен, и иных кровавых тварей,
В тщетной сетке запутавшись своей,
Умирает курчавый ретиарий,
О котором и ты совсем чуть-чуть
Привздохнула рассеянно и мило,
И просыпала лилии на грудь,
И - улыбку на гемму уронила.
VIII. АВГУР
Гуси ораторствуют, челночно клюют куры
Лепешку луны и отборный ячмень звезд -
И только мы, пристальные авгуры,
Знаем, что это - богами протянутый мост,
По которому будущее, умиляясь и свирепея,
Ступает и оступается, и властно сулит
Крах Гракхов и Красса, тщетный почет Помпея
И путь Антония к лиловым теням пирамид.
И заждавшийся консул вправе расправить плечи
И послать легионы в Ливию и на Крит,
Ибо к славе и власти трепещет гусиная печень
И сердце - еще живое - прыгает на гранит.
И мы читаем в этом знаки Минервиной воли,
И позволяем милостиво, с истиной наедине,
Купцу - поднимать парус, плугу - тревожить поле
И мужу заждавшемуся - наконец-то войти к жене.
А сегодня и нам слегка улыбнулся жребий,
И так благосклонно и неторопливо упал
Пронизанный солнцем петушиный кровавый гребень
На сардоникс вкрадчивый, на дымчато-томный опал,
А значит - им предуказано запомнить наши брови
И зорко выхватить из-под копыт дней
Наши черты и нас - проливавших ручьи крови,
Произволенья бессмертных комментируя для людей.
СТИХИРЫ ОБ ИСПРОШЕНИИ
АРХИПАСТЫРСКОЙ БЛАГОДАТИ
1. СТИХИРА ПУТЕНАЧАЛЬНАЯ
Хранитель либереи, не тронь Илларионово “Слово”
И кондаки Дамаскина втуне трепать не вели:
Сыщи-ка нам писанья Косьмы Индикоплова
С чертежами хляби и земли.
Сабли о кунтуши вытирает Речь Посполита,
Ливонцы и свеи на Неве городят редут,
А нам - в путь, ибо нового митрополита
У Успенья к Успенью ждут.
Звонит пономарь, молотит горох однодворец,
Чеканщик под оклады серебрит басменную медь,
А нам - в путь, ибо радонежский чудотворец
Митру на нимб не возжелал надеть.
И ставленники убоялись заморского скитанья.
Одного искушают половецкие бабы в степи,
Другой вздохнул: “Патриарх не деянья чтит, а даянья,
А у меня в кармане - блоха на цепи”.
А третий житием до куполов дотянулся,
И строгий постник, и за ум восприял почет,
Но сутул и гугнив, и князю не приглянулся -
А стало быть, тоже не в счет.
А избранник его благодарно склонил выю
И с елейным келейником приуютился на корме,
Перед хиротонией твердя византийскую хрию,
Скромен, как агнец - но тоже себе на уме.
Он знает лишь помышлять об апостольском вертограде
И возлагать упования на молитвенный труд.
Но - чудо содеется, когда ему в Цареграде
“Аксиос!” льстивые греки споют.
Он рыкать обвыкнет, как лев в Фиваидской пустыне
И панагиями огрузит державную грудь.
Но это пока что еще далеко, а ныне -
Бог в помощь, Никола - в путь!
2. СТИХИРА ПОСЛУШНИКА
Прискучил обивать дух о чужие глаза и пороги,
И, подставляя ланиту, даже этим радеть злу,
И еле дотащил ноги
До тихой обители и Спасова лика в углу.
Но и тут узрел, как юница купалась в ручье и пела,
К сосцам ее и бедрам вожделеющим взором приник
И еле дотащил тело
До говения седмидневного и ржавых вериг.
Видел во сне оленью распластанную тушу,
Убоялся, что это - буквица бесовского букваря
И еле дотащил душу
Окаянную до покаянного алтаря.
И умом просветлел, и, дни провождая сурово,
Услышал, как в сердце втекает чистых молитв красота -
И еле дотащил слово,
Дарованное мне, до акафистного листа.
А мне кричали: - Нечистый твой дух началит!
Скорее хламиду плоти на крюк послушанья повесь!
А я покаянья мои и печали
Возложил на посох. Вот почему я здесь.
3. СТИХИРА МОЛИТВОСЛОВНАЯ
В чреве морском, распяты на реянье рей,
Молимся вам, смертный час восприять готовы:
Помогите нам в буре, апостолы Петр и Андрей,
Сохраните нас, ученики Христовы!
Помоги нам, усмири хляби Христовым именем,
Рыбарь праведный, нареченный Симоном!
Помоги нам в смятении океанском,
Господень меченосец в саду Гефсиманском!
Помоги нам, хитон протяни нам снова,
Камень, на коем пребывает Невеста Христова!
Помоги нам, ключарь благой, отпирая
Животворные врата истинного рая!
Помоги нам, смертной скорбью тоскующим,
Милости твоей взыскующим!
Сохрани нас от бездны неприкаянно-окаянной,
Избранник Господень Первозванный!
Сохрани нас, чистых душ уловитель,
Первого креста на Руси зиждитель!
Сохрани нас, бесам волн уста запечатай,
На кресте именословном распятый!
Сохрани нас, как Русь хранится
Нетленной твоей чудотворной десницей!
Сохрани нас, смертным страхом тоскующих,
Милости твоей взыскующих!
В чреве морском, посреди исступленья зыб;й,
Молимся вам, чашу смерти испить готовы:
Помогите нам, грешным, апостолы Петр и Андрей,
Сохраните нас, праведники Христовы!
4. СТИХИРА ПУТЕКОНЕЧНАЯ
Мачту сменили, клочья ветрил заштопали,
Молитву Исусову сотворили трижды стократ.
Завтра к обедне будем в Константинополе,
Как арсисы чаек на гиматии влаги сулят.
Недаром они перебрасываются эзоповыми притчами,
Радостью расшевеливая язык в пересохшем рту,
И обещают перезнакомить со всеми причтами
От пресвятой Софии до последней часовни в порту.
И дозорного пристальность с реи уже нащупала,
Как волны, облизывая вспененные уста,
Целуют блик негасимой лампады купола,
До которого плыть - от силы поприщ полста.
Жаркий закат охрой борта окрашивает,
Словно блудница излучья бровей - хной,
А корабельщик-сириец бороду охорашивает
И крестится на распятье странно - всей пятерней.
А веницеец поправляет блин свой с наушниками
И улыбается, поправляя цепь на груди;
- Теперь, мол, за вашими скромниками-послушниками
В Цареградском содоме только гляди да гляди!...
5. СТИХИРА РАССУДИТЕЛЬНАЯ
В Константиновом граде надобно византийствовать:
Сиречь петь, класть поклоны и витийствовать,
И приглашать до зари перси и роскошь бедра
За чешуйную горсть орленого серебра.
В Константиновом граде надо блюсти православие:
Спать, положив патерик Афонский в возглавие,
Любоваться в Софии смальтами да цветной слюдой
И финики запивать богоявленскою водой.
А еще, купно с мнихами и богословами именитыми,
Спорить с несторианами и монофизитами,
И увещевать усомнившиеся умы
Отеческими сентенциями Златоуста и Паламы.
Да послушать юродов, позванивающих веригами,
Да в лавочке раздобыться отреченными книгами;
Да выпросить списать (сколько успеется до утра)
Хождения Богородицы да Евангелие Петра;
Да не забыть выучить ирмосы на два голоса,
Купить ковчежец, вместивший два Николиных волоса
Привести: матушке - четки, жене - багдадскую шаль.
А иначе - чем дома вспомнить такую даль?
6. СТИХИРА ПОМИНАЛЬНАЯ
Когда корабельщик выпускает из рук кормило
И крестом осеняет безнадежный саван лица -
Ладья на волнах пляшет, как скорлупка строфокамила,
А житие не стоит и выеденного яйца.
С каким переплеском пуды заплечных котомок
Вместе с ларями с размаха за борт летят,
Ибо лоскут ветрила и мачты хрупкий обломок
Разумеется, стоят надежды доплыть в Цареград.
Улыбчивые турчанки, таящие рай во взгляде,
Стоят в порту гинею или куруш,
А хартия, которую патриарх подмахнет в Цареграде,
Наверное, стоит десяти православных душ,
Что взмахом весла приближали чужие дали,
Заслоняя ставленника сиянием бахтерца,
И ему в бусурманской толпе прорубали
Путь бердышами к престолу святого отца,
И, уходя, оберег с пашен тверских надели,
Чтобы на землю родную лечь и в краях чужих,
Чтобы митрополит на Троицкой чистой неделе
Тихим поклоном вспомнил с амвона их.
7. СТИХИРА НА ВОЗВРАЩЕНИЕ
Изломи пред Орантой в благодарном поклоне выю
И отлучи око от хартийного листа.
Наконец и над нашим совершили хиротонию
И нарекли Ионой - в память о чреве кита.
Да мы и впрямь - будь сказано не во гневе
И не в похвалу наших скорбей и ран -
Вволю набывались во вселенском кромешном чреве,
Трижды тонули, побили тьму агарян,
Турецкие ятаганы отражали в своем зерцале,
Радея о благе, истирали о путь плоть,
Сухари через день грызли, росу с парусов лизали -
И не уморил нас Господь!
А уж о том, сколько сапог истерли
И кошелей с посулами патриаршим снесли чернецам,
Да расплескали грехословныя скверны в горле -
Вспоминать-то и то срам!
Зато уж теперь, в укор царьградскому буйноплодью,
Арбатский берсень вспомним, пожуем сухую плотву,
Ларь образов выменяем, осмолим наново лодью,
Благословенья испросим - и на Москву.
И пусть святитель после стольких скитаний и браней
Благословит нас унять путедорожную прыть
И отвести душу снегом, студнем и баней,
И чарой хмельной слезы и кровь запить...
ПОНТИЙСКИЕ МЕМОРИИ
I
Колесо колесницы обожает дробить путь
На протяженность своей буковой периферии,
А у возницы если о чем и болит грудь,
Так только о конях, купленных в Александрии.
В пыльной харчевне, где хозяин-италик оглох
От хрипа центурионов, в обед вам придется тяжко
Без доброго сантуринского, ибо моченый горох
Относится к жареному - недурному - седлу барашка,
Как в цирке - плебей плотник к патрицию, чья стезя
Полосою сенаторской пурпурствует средь позолоты,
То есть: спустить с лестницы без особых причин нельзя
И соседствовать долго нет ни малейшей охоты.
И если б не свиток Горация да греческий погребок,
Где погребают скуку в киликах Вакхова пира -
Пришлось бы писать в Рим, чтоб на второй срок
Подыскивали сюда другого дуумвира.
II
Друг, в этом городе крыши имеют странную склонность
Сверкать, как щиты легионов - наподобие твоего.
И если смотреть с моря на домики возле склона -
Кажется, будто наши “черепахой” идут на него.
А там, на гребне оврага, где поминальные чаши
Изливают в некрополе череду поминальных пинт,
Отдыхая от славы, в эпитафиях спят наши:
Авл, и Гиезий, и твой бородатый Квинт.
Надо отдать должное варварам: их оборона
Была поистине жертвой их деревянным божкам.
Но что такое Ваал против когорт Сципиона,
Сцепленных оцепененьем, подобающим палачам?
Но - хватит о крови. Ее по воле своей и божьей
Лучше всего, пока Парки прядут свою нить,
Проливать руками авгуров да на Гименовом ложе -
Если, конечно... Впрочем, куда спешить?
III
Мудрость чурается спешки. Это отлично
Знали строители мола в здешнем порту,
Что не преминет заметить щеголь столичный,
Проветривающий тогу и гнилые зубы во рту
На ветру Азии. Время бредет куда-то,
На тень от солнечной стрелки опираясь, как на костыль,
И запоздалый беспощадный указ сената
На месте врага застает лишь пепел и пыль.
Ты говоришь: недостойно в невинной крови омочиться
И к Марсому трону по детским трупам идти.
Но теребившие в детстве губами вымя Волчицы
Хуже смерти не любят останавливаться на полпути.
И я пишу эти строки в алтаре какого-то храма,
Откуда бог еле-еле унес свой хитон и закон.
Роли нашим мечам раздала не оргия и не драма,
А просто - тяжеловатый и затянувшийся сон,
После коего я омою душу старинной
Строчкою Гесиода в варварской тишине
И посижу до ужина с чашей вина под маслиной,
И поворчу вполупьяна на нынешний грубый койне.
IV
Что до искусства, то здешние гончары
Неплохо владеют формой, но нетверды в рисунке,
А женщины любят прясть или ткать ковры,
И разливать тесто в огнеупорные лунки.
Дряхлые старцы говорят, что некогда здесь
Чтили Молоха и Мардука в буйствах веселых,
Но наш Аполлон вышиб из них спесь
И произвел кифарой ревизию в местных глаголах,
Перечеркнув хрипловатый варварский императив
Нынешним сослагательно-страдательным наклоненьем,
И потому их песен томительный примитив
В изящных ушах отзывается раздраженьем:
Ни арсисов, ни цезуры после второй стопы,
Ни чередования мор, чтимых в ученом мире.
Но - видел бы ты реакцию их бородатой толпы,
Когда оборванец-странник, наигрывая на псалтири,
Пел, исступленно пророча, что Искупитель - придет
И принесет меч Давидов (конечно, на наши спины!)...
Пришлось его вздернуть на крест, чтоб не смущал народ,
Тем паче, что скоро - перепись и сбор десятины.
V
Только теперь, когда душа почти исцелилась
От беспокойного бремени плотского естества,
Можно любви предпочесть ларов спокойную милость
И сделаться щедрым на систерции, чаши, слова.
А прежде дружба с кесаревым металлом
Недурно нам скрашивала понтийское бытие.
Славно, если колонна схожа с Геракловым фаллом,
Хуже, если он слишком долго похож на нее.
Ибо, конечно, недаром всякой твари по паре
Создал бог Моисеев (помнишь Флавия? Он - иудей),
И в здешнем мозаичном уютном лупанаре
Выбор бывал отменный - от не вполне людей
До истых богинь! Цена, разумеется, тоже
В небеса упиралась стопкой денариев - но
Лучше ласкать философа и читать Назона на ложе,
Чем умащенное какой-то лавандой бревно,
Которое под тобой поворочается два раза,
Равнодушно подставит опухший рот,
Двоесмысленный, как плиниева фраза,
И лишь в дверях на прощанье хихикнет и зевнет.
VI
Хвала Посейдону! Из Остии прибыл неф,
Обросший по пути обетами, стрелами, илом,
И я читаю в гавани, от радости опьянев,
Письмо твое, привезенное хитрым Памфилом -
Купцом-ассирийцем (ты должен помнить его
По рваной ноздре и серьге с рубином в левом ухе).
Он также привез мне амфору любимого твоего
Фалернского - и слухи, конечно, слухи.
Ты, верно, слышал уже, что Луциллий пролез в сенат
(Что, впрочем, не удивительно при его доходах с именья),
А квестор Децим Фабий подарил виллу и сад
Мальчишке-копту, смазливому до отвращенья.
А у сестры его, Клавдии, муж-претор умен, но слаб
В потехе амуровой - и от ревности скоро спятит,
Ибо Клавдия любит, когда ибериец-раб
В термах ее омывает... А впрочем - хватит.
Благодарю, что помнишь, дружбы любезный сын,
Наш Колизеум (извини, здесь народ дикий:
Едва я присел на бочонок соленых маслин -
А его уж укатывают и бранятся, как псы. Dixi.)
VII
Верю ли я? Конечно! Верю: снова придет весна
И новая грация за колени меня обнимет,
А отнюдь не в божественность эфесского болтуна,
Коего солдатня прокричит императором в Риме.
А здесь диспуты о богах торчат у всех, как кол
В горле - и отворяют и запирают двери.
Едва познакомишься с кем-нибудь, едва возляжешь за стол -
Только и разговоров, что об истинной вере.
Есть здесь странная секта: учитель их был распят
Синедрионом еврейским и проклят по синагогам.
Он плотник из Назарета - а они исступленно кричат,
Что он-де и был Единосущным Богом.
Они в основном рыбари: IXTYC видишь везде,
И лучше их вслед за учителем отправить, пока не поздно.
Они просты, не книжники, не из тех, кто в мутной воде
Любит ловить рыбку - а значит, дело серьезно.
А наша с тобою вера - угощаться до хруста скул
И ласково гладить спинки безусым мальчишкам.
Наша святая троица: Эпикур, Овидий, Лукулл.
Впрочем, паштет соловьиный - это, пожалуй, слишком.
VIII
Покуда нам постель не постлали в почетной яме,
Тропинка к которой зарастет через пару ид -
Не будем болтать о дружбе: будем друзьями,
И обойдемся без лести, ревности и обид.
И, чтобы на нас не глазел пресловутый Янус,
Давай его расколем, не сетуя на судьбу,
И бородатому лику влепим в лицо свой анус,
А безбородым прикроем шрамы морщин на лбу.
Помнишь, дружба нам даже в пустяках помогала,
Когда Септимий Север новых бойцов привез
И мы с тобой поставили на здоровенного галла,
И выиграли, и хохотали до слез,
Когда он рассек до крестца вертлявого готта
И прямо на арене, привалившись к столбу, уснул.
Теперь я знаю: он прав, ибо такая работа
Требует отдыха. Мудрый распутник Катулл
Прав, призывая ценить медным оболом
Мненье людское, склонное вздор молоть.
В мир ты приходишь нагим и уходишь голым,
И уносишь с собой лишь то, что вместится в плоть,
И лишь в плоти чужой остаешься. Поэтому дряблой матроне,
Любившей тебя, завещай свой символ Приаповых благ,
А рабам прикажи с тобой поступить, как писал Петроний:
Это - оригинальный и недорогой саркофаг.
IX
Когда подступает старость - ее дыханье
Напоминает заморозок или сизифов труд.
И надо писать мемории, ибо знанье
Подробностей - иссякает, как треснувший сосуд.
А впрочем, ворох деталей не надобен старческой шее
(Бесконечные цифры - только обуза для книг),
Ибо иканье имен надоедает быстрее,
Чем постельные пряности и скрип победных калиг.
И потому не важно, как называется крепость,
Где я хвораю глазами, впрягшись в ярмо старика,
Ибо история - восхитительная нелепость,
Забрызганная семенем Юпитера и Быка.
Но если ты откроешь мои неспешные главы,
Особенно - пятую, ту, где цветет миндаль,
И смешливые девочки бросают венки славы
На щиты легионов, истоптавших сирийскую даль,
И если ты выпьешь хмель страстей и викторий
Из книги моей, велеречиво немой,
Как из рогатой раковины, в коей клокочет море
И паруса хлопают, и мечется голос мой -
Значит, мои рассказы время не переиначит,
Как Пятикнижие - гностики, как римское право - наш суд,
Значит, ты не лишен чувства изящного. Значит,
Я напрасно смеялся, именуя дневник - “мой труд”.
POSTSCRIPTUM
Я собирал монеты (так теперь говорят
О скрягах), любил, забывал, ждал повышенья в чине
И - выслужил убежденье, что прочерк между двух дат
Одинаково тривиален и в Риме, и на чужбине.
Можно по-разному бриться и на плешь зачесывать прядь,
И псалмом и мечом разные выводы делать из гнева,
Но медленный свиток яви одинаково скучно писать:
Как мы или как эти - справа налево.
Я поглощал пространство памятью, веслами, ртом,
Реже бывал счастлив, чем пьян или озабочен.
И с помощью олимпийцев наконец убедился в том,
Что они заслуживают скорее пощечин,
Чем поводов для благодарности. Ритуальная прыть
Перетекает с годами в дымок духовных агоний.
И если буду в Эфесе - надо б зайти влепить
Чему-нибудь святомраморному в тамошнем пантеоне
Славную оплеуху, особенно если жрец
С подиума сойдет за неким сакральным делом.
Это ведь так утешно: когда уже близок конец,
Перед богами почувствовать себя хоть каплю смелым.
POSTPOSTSCRIPTUM
В щепотке домов, затерянной в солнечном сонме пустынь,
Где на абаках тетрархов гремят костяшки событий,
Не было даже цирка - и потому, как ни кинь,
Приходилось чаще служить Вакху и Афродите.
Правда, теперь я вижу, что местный пророческий крик
Был не лишен смысла, но не слишком глубокого, ибо
Капитолий, пресыщенный славой и кровью интриг -
Это, конечно, совершенно не та рыба,
Какую ловил Иешуа. Итак, поклонись колесу
И звездам, что нас пространством и истиной обдавали
И исцеляли от времени, ибо живому псу
Лучше, чем мертвому льву. Впрочем - хватит цитат. Vale.
ШЕСТЬ СВИТКОВ В СТИЛЕ ГУН-БИ
1. СВИТОК
С ВАЗОЧКОЙ И ФОНАРИКОМ
Бронзовая жаровня не желает смириться с ролью
Темного фона для веточки дикой сливы
И, самочинно облекшись в наряд вершины,
Дарит столу вертикаль дымка. Вазочка
Который уж век не дождалась
Ирисов и кувшинок вместе с водой из озера
И - решила потрескаться, словно губы красавицы
На выцветшем свитке с журавлем и строчкой Ли Бо.
Влажная айва вальяжно важничает,
Не позволяя даже лиловой тени левкоев
К своей наливной золотистой груди притронуться.
И хмурое время, знающее все обо всем,
Снисходительно медлит любоваться и повелевать
И ничего не хочет, особенно - уходить,
И размашистым жестом чиновника, отвергшего мзду,
Отталкивает тень серебряной спицы на солнечных
Часах, на которых давно сидит стрекоза
И сопрягает прозрачным иероглифом крыльев
Пепел в жаровне и гребень твоих ресниц,
Который ты погружаешь в волнистые, вьющиеся
Волосы сразу всех времен и реальностей
И - почти боишься их расчесывать,
Чтобы не запутаться и не оказаться лишним
Пятнышком акварели на мерцающем шелке яви,
И не помешать розовым лепесткам персика
Осыпаться именно и единственно так,
Как это будет угодно Вечности.
2. СВИТОК
С ЛЮТНЕЙ И СВЯЗКОЙ МОНЕТ
Клетка с желтовато-зелеными попугайчиками
Щурится прутьями от брызг граната рассвета.
Старая лютня цинь, соскучившись
По мелодии “жумэнлин” или “влед за иволгой”,
Облокотилась грифом о серебряную курильницу
И подставила струны продолговатым дланям лиан.
Расписной гайвань - откуда-то из Юннани
Или из каракорумской пустынной безвестности -
Отдал чаю с горьковатыми лепестками жасмина
Всю свою просвечивающую хрупкость
И раскололся. Букетик лесных орхидей
Был обещан милой Чжао для заполнения
Меркнущего просвета между ужином и полночью,
Но садовник просто забыл или раздумал
Передать его служанке госпожи - и оставил
Его на малахитовом столике. Плетеный коврик
Несколько простоват для соседства с резным веером
Из слоновой кости, обтянутым шелком
И расписанным кедрами, обступившими водопад,
И хвостом пусунлинова лиса,
Но вполне сдержан - и даже удерживает
Окрестную предметность от чрезмерной изысканности
И склонности к роскоши. Впрочем, роскошь
Иногда может иметь свои преимущества -
Хотя бы те, что связка серебряных таэлей
Более выразительна в соседстве с топазами,
Чем нитка бронзовых фэней той же длины,
И потому куда более убедительна
В беседе с купцами из Сянгана.
3. СВИТОК
С ВАЙРОЧАНОЙ И ЗАПАХОМ КАРПОВ
В этих розовых бутонах магнолий
Обитают пчелы и разноцветные птахи - крохотные,
Словно кисть, зоркой тушью истекающая,
Но их бессмысленно пытаться разглядывать,
Особенно - глазами. Фарфоровый Вайрочана,
Уклонившись чуть в сторону от нирваны
Или императорского идеала симметрии,
Склонил голову влево под тяжестью мочек
И - забыл или передумал поднять ее. Чаша
Не мешает пространству втекать в нее
Письменами, звездами, поцелуями,
И подставляет стенки скоку небесных коней
И грохоту колесниц и ракет в праздник Поминовения.
Четки и колокольчик негромко цитируют
Устав одного из горных монастырей,
Скорее всего - даосского: нунчаки и боевой посох
Не относятся к буддийским сакралиям. Несколько
Желтых листьев забрели, как странствующие монахи,
На резной ларец с заколками госпожи
И вразвалку задремали на нем. И только
Запах свежепойманных карпов
Остался где-то за потрепанным срезом свитка -
Но его так обстоятельно и вкусно пересказывают
Округлившиеся щели кошачьих ноздрей,
Что более ничего и не требуется,
Разве что - бусы, выползшие змейкой из чаши,
Пять-семь коробочек мака
Да сухая тростинка, пребывающая именно там,
Где ее отсутствие было бы совершенно невыносимо.
4. СВИТОК
С ФОНАРИКОМ И ПУХОВЫМИ ТУФЕЛЬКАМИ
Желтый фонарик с узкими щелями и кисточками
Собирался быть первым на празднике фонарей
И затмить волнистохвостых драконов,
Но почему-то раздумал - и упросил хозяина
Возложить его в медное блюдо с водой,
Соблазнившей его ласковой тщательностью
Повторения бликов свечей и звезд. Яблоки,
Развалившись, словно воины на привале,
Наливным румянцем слегка поддразнивают
Бледнощекую лилию. Коробочка
С жертвенными деньгами решила раскрыться
И похвастаться новым кратким способом
Написания иероглифа “тянь”. Склянка
С притираниями сберегла немного мускуса -
На пять-шесть шей, не больше. Гребень
Долго пытался убедить резного слоника,
Что они восходят к общему предку
И потому вправе соседствовать, - но ничуть
Не преуспел в этом. Полусгоревший факел
Устал шипеть, что третья стража окончилась,
А четвертая, видно, спит, опустив на щиты
Копья и реденькие косицы. Ястреб,
Одаривший своими перьями туфельку нежной Цинь,
Вероятно, был слишком рассеянным
Или чрезмерно сытым - иначе стрела никогда бы
Не удостоилась его горла. А теперь
Ее наконечник вместе с когтями и клювом
Покачивается на цепочке на гордой груди охотника
И, говорят, приносит удачу.
5. СВИТОК
С ТЫКВОЙ И ШАПОЧКОЙ ЧИНОВНИКА
Крутобокие тыквы с сетчатой надписью на боках
Знают себе цену. Лопоухим кустам салата
И - тем более - глазастым бусинкам жемчуга
Рядом с ними лучше помалкивать,
Или обращаться к ним с подобающим пиететом,
Как палочка туши - к золоченой модели пагоды.
Шапочка вана, призванная блюсти и подчеркивать
Конфуцианскую церемониальность происходящего,
Чуть-чуть перебрала чопорности
И сама тяготится этим. Блики витых заколок
Выскальзывают даже из чашечки с акварелью
И шепотом подсказывают, что Чжень не успела
Осторожно выловить их из водопада кудрей
И уложить в шкатулку, ибо Дао Любви не ждет
И всегда ссорится с временем. Меч старого воина
Что-то читает наизусть в келье ножен,
Скорее всего - хроники Сыма Цяня,
И совершенно не собирается покидать ее
Ради отражения прохладных долек Луны,
Предсмертного ужаса чжурчженей или сюнну,
И того невесомого воробьиного перышка,
Которое уже двенадцать раз пропорхало
Над чередой двенадцати первотварей,
А так и не выбрало единственно верное место
Для своего трепещущего возлежания.
6. СВИТОК
С ГРАНАТОМ И ШИШКАМИ
Зрелый гранат напоминает домик с трубой -
Так что зерна, в трещину высыпавшиеся,
Можно сравнить с гостями, наконец-то вспомнившими,
Что им давно пора по домам. Ласточка
Прилепила гнездо под высоким яшмовым потолком,
Не столько для выведения птенцов,
Сколько для утонченных любителей отведать
Вареные гнезда с соусом. Горстка грибов
Разрослась в резной кадке с крохотным деревцем,
Скорее всего - сосенкой, привезенной
Из Ниппон или отрогов Тибета. Черные шашки
Когда-то подробно иллюстрировали
Одну из знаменитых битв “Троецарствия”
(Желтые, разумеется, означают воинство императора),
Но мыши возымели странную склонность
К странствиям - и проторили тропинку прямо
По мраморной шашечнице. Результат
Взмахов их хвостов не требует пояснений.
И только пустой футляр для флейты
Абсолютно уверен в своей значительности
И умении заключать в себе все мелодии
Сопряженных реальностей. Голос ночи
Попробовал поселиться в бархатном горле совы,
Но остался недоволен ее беспросыпной хриплостью
И остановил свой окончательный выбор
На ветре, прилетающем из-за северных гор
И раздувающем занавеси и зонтики,
Только мешающие любоваться окном, звездами
И еще чем-то, чему не найти названия -
Но ради чего вся эта вещая вещность
Разбрелась по свиткам, пропуская твои зрачки
Через и сквозь себя.
ВИЗАНТИЯ, ИЛИ ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
1. О, ВИЗАНТИЯ!
Как хорошо переступить порог
Мистического городского быта
И полистать немногословный слог
Аристенета и Макремволита,
И зачерпнуть рассеянным зрачком
Те истины рассеянно-нагие,
Что ведомы Элладе, но о чем
Молчат колокола Святой Софии!
О, Византия! Твой державный лик
В окладах пламенеет и троится.
Нет, ты не только отрок и старик:
Ты - гордая гетера и царица.
Воистину, ты - Рим и Троя, но
Еще державнее, еще небесней.
Твоих страстей бессмертное руно
Целуют все, читавшие “Песнь песней”.
И пред тобой, смыкая даль и близь
По берегам гностического моря,
На посохи аскезы опершись,
Стоят Ефрем, Василий и Григорий.
Они твое двуглавье чтут и чтят,
И слушают, оборотясь у рая,
Как спорят Стефанит и Ихнилат,
То Инд, то Персеполис вспоминая.
Они - твои: ведь ты - не хронотоп,
Не бред, которым согрешил вития,
И не коллаж из Азий и Европ:
Ты - качество души. Ты - Византия...
2. ПО ТУ СТОРОНУ
Звездный ковш наклоняет зодиак,
Утро плавит рассветное железо
И пустыня окрест струится, как
Идеал созерцательной аскезы.
Трое суток во власти колеса,
Две недели у весел в послушанье,
И дорога сожмется, как оса,
В перехват добровольного изгнанья.
В бедной церкви слуга зажжет огонь,
Над послушником дрогнут ножниц тени,
И пещерная келья, как ладонь,
Оградит от сомнений и смятений.
В Константиновом граде будет суд
И не сразу, едва ль через три лета,
В отдаленной киновии найдут
Растоптавшего сан свой логофета.
Но найдут только плоть его, верней -
Только то, облеченное в молчанье,
Что осталось висеть на ребрах дней
И терпеть строгий пост и бичеванье.
А душа уже будет далеко
И, впорхнувшей в молитвенные звуки,
Ей, наверно, свободно и легко
С клеткой тела в спасительной разлуке -
Если только Господь, Владыка Сил,
За рыданья монашеского хора
Бытие ее тщетное простил
По ту сторону веры и Босфора...
3. СОН О ВИЗАНТИИ
А знаешь: ступени сна уводили меня в Византию:
купол Софии горел, словно свеча Пантократору,
и Панагия во Влахерне садилась на смальтовый трон,
И Ямвлих в усы посмеивался, покуда тринитарии
упрямым арианам рубили усы и головы,
смыкая с Никейской эпактой Великий Индиктион.
А девушки рвали левкои и пели каллимаховы ямбы;
пожар бродил по чертогам, как проповедь манихейства,
над кровью иконокластов витал витийственный пар,
И смуглый император, из армянской диаспоры родом,
благосклонно шутил, когда левки в левкас арены
колесницами втаптывали его ужас пред ратью болгар.
Святой осенял страдальцев частицей креста Господня,
скомархи и блудницы наготою томили евнухов,
и, стомах рабам выгрызая, рычали гиены и львы,
Что миру тесен гиматий космогонии Индикоплевста,
раз над волнами Босфора молятся архиереи
с окраин ойкумены - из Дамаска или Москвы.
А властный Палама схизму папских сетей обламывает,
и скиния неба держится на тропарях Критского,
и в хороминах хроник христианство хранил Амартол...
Но я устал от их шелеста, по улыбке твоей скучая,
и строчку Гераклита на агоре бросил в столпника,
и взор о Макремволита вытер слегка - и ушел
Затеплить лампаду пред ликом мученицы Фотины,
услышать твой смех издали, и след твоих сандалий
на паперти базилики благодарно поцеловать,
И вновь из Потира сна испить причастье к счастью,
пока по трубе архангельской осман кривым ятаганом
со свечи Софийского купола сорвет шестую печать.
4. ВИЗАНТИЙСКИЕ ЗЕРКАЛА
Тому, чей дух Предвечного взалкал,
Цитатами подсказывать не надо,
Что совершенству смальты и зеркал
Сопутствует духовная прохлада,
Стекающая с бедер и ресниц
В изгиб, где поцелуи прячет шея,
Склоненная над шелестом страниц
Дамаскина и аввы Дорофея,
Вещающих, что скромность и уме-
ренность покой приводят к изголовью.
А у гречанок юных на уме
Причастие иною чистой кровью.
И пусть архимандрит вершит обряд,
Частицы просфор возложив на дискос:
Их окликают мраморы наяд -
Твой, Византия, иноческий искус,
Забытый тем, чья голова бела,
Приосенившись слезным воздаяньем,
И больше не вмещает в зеркала
Свой нимб с почти готовым надписаньем.
5. ВИЗАНТИЙСКИЕ БАЗИЛИКИ
Босфорская жажда великолепствования
Обожает выворачивать наизнанку все: перспективу,
Оценку предстательства столпников,
Пространство и особенно чаши
И превращать их в купола. У сводов
Как ни странно, совершенно нет времени
Хоть немного постоять на одном месте,
Ибо просторным нефам непременно надобны
Паруса, под коими так утешно
Плыть вслед за Господом по Галилейской хляби,
В качестве коей вполне подойдет и Эвксинский
Понт, спонтанно нагромождающий
Сакральные кубы к стопам молодой иудеянки,
Свой ветхий покров пожертвовавшей
На храм Самой Себе, дабы порфирородные
Постояли в его тени и прониклись
Истинно евангельским духом перед
Диспутом с папским легатом о примате священства
Или подобающем числе золотистых смальт
В нимбе Пантократора, чей взор,
Отражаясь от щитов, колесниц, дискосов,
Уже прозревает и смиренную славу вышних,
Чьи мощи трещат в крестоносных кострах,
И османские минареты, так изысканно увенчавшие
Тягу зодчих Святой Софии к изяществу.
6. ИСХОД ВИЗАНТИИ
Вот Византия - вязь и виза на взъезд
В горний Иерусалим на колеснице Ильи.
Но Константином восставленный животворящий крест
Лишь надписанием являет себя в бытии,
А древом купается в быте. Безмолвствующий Афон,
Как слепок стопы Пречистой, исцеляет время от ран
И альвеолой пещер сзывает в бодрственный сон
Ассуров, коптов, самаритян
И - отстраняется от странников и маври-
танских преданий об Исе бен Мириам,
Ибо на каждой бренной душе и двери
Написано, что и с них начинается путь в храм,
Который Византия строит двенадцатый век,
Но - никогда не войдет в него, как Моисей -
В землю обетованную. Вскрытые вены рек
Кровоточат виденьями подступающих дней;
И тщетно Андрей воздевает дух свой и взгляд
И свет Фаворский вбирает преображенным лицом:
Пречистая воистину держит Покров, но - не над
Влахернской базиликой и комниновским дворцом.
И только София, прервав благословенный бред,
Как сумма сводов и смальт, останется в яви земной,
К которой осман пристроит свой минарет,
Чтоб докричаться до Бога безблагодатной сурой,
Пока Византия накинет дорожный гиматий на
Аналойные спины Василиев и Алексиев своих,
И побредет догонять языки и времена,
Чтоб настоятелем храма на паперти встретить их.
КУЗМИНАЛИИ
О ДВЕНАДЦАТИ ЖИЛЕТАХ
прозрачной памяти М. А. Кузмина
ИНТРОДУКЦИЯ
Итак, жилет. Парад бельгийских жиллей,
Расчерченный полетом апельсинов,
Здесь так же ни при чем, как и желанье
Дряхлеющего тела подражать
Зияющим пророчествам природы
Отказом от излишеств. Рукава
Соскучились по Сандро Боттичелли
И, разроняв узорные шнурки,
Вспорхнули в гости к Кранаху. Бойницы
Старинных замков вздумали шутить
И снизошли на бархат и муар
По ножницам прилежного еврея,
Который понял сущность одеянья,
Чье назначенье - пребывать окном,
Куда нездешним вечером глядит
Даосская луна, как комментарий
К стремлению китайския стены
Ползти недвижно по крутым хребтам
Кедровых сопок и звериных циклов.
Но фабула Селеновых скитаний
Очерчена апостольским числом
И тяготеет к омовенью в чашах,
Особенно - на новолунье. Значит,
Разбуженный курантами любви
Фонтан своих октав и ипостасей
С улыбкой призван отдавать жилетам -
Не сорока, не паре, не тремстам,
А именно двенадцати.
ЖИЛЕТ ПЕРВЫЙ
В сущности, жилет - кубический корень из
Одеяния киников. Умение абстрагироваться
От тканей и плоти - и от себя, разумеется,-
Признак высоты и инакости духа. Цвет
Иногда слишком любит пребывать
В центре внимания. Например - и особенно - белый
Снисходительно посмеивается над крапчатым галстухом
И хронометром ростовской эмали. Пурпурный
Напрашивается в подробные пересказчики
Дигениса Акрита и Григория Паламы (помните?)
И долго не уступает оранжевому
Примат внимания. Жеманнная матовость маренго
Пристально перемигивается с мышатами -
Кажется, метерлинковскими, и вполне
Искупает искреннюю исступленность малинового -
Наивного, как давнишняя влюбленность.
ЖИЛЕТ ВТОРОЙ
Этот жилет надевал Джузеппе Бальзамо,
Когда гостил у Фелицы в Царском и на Елагином,
И - забыл его в креслах, как один из примеров
Материализации чувственных идей.
Фасон несет в себе нечто масонское:
Плетеная цепочка, стерегущая фамильный брегет,
Демонстрирует треугольный брелок с Всезрящим Оком,
Не оставляющий сомнений в мартинизме хозяина.
Запах лаванды отстраняется от пуншевого дымка
И делает державински неуклюжий
Реверанс в сторону античности,
Особенно - поздней, времен Каллимаха и Авсония.
И когда лакей соберется почистить этот жилет,
Лучше не удивляться если гофмановский котенок
Вытянет из его кармана книжицу Юнга Штилинга
Или, зажмурившись, отогнет левую полу,
Чтобы из-под нее полыхнул багрянец подкладки -
Недвусмысленный, словно инфернальный подтекст.
ЖИЛЕТ ТРЕТИЙ
Голубиное горлышко любит биться и трепетать,
А шелк обожает запоминать его воркование.
Стройный маркиз, меняющий имена и парики
Еще чаще, чем веру и любовниц,
Почему-то особенно любил этот цвет. Гендель,
Выплескивая из валторн и поперечных флейт
Сразу всю свою Музыку на Воде,
Вряд ли сумел бы добиться от своих мастеров
Более нежно лазоревого - даже
Если зашел бы в гости к Ван Дейку. Такая
Лазурь обитает только на лепестках незабудок
Да над ресницами старшей дочки трактирщика,
Которая утром непременно найдет в постели
Три-четыре жилетных пуговки,
Ибо расстегиваться - разумеется, слишком долго,
Да и разве удержат настоящую страсть
Застежки из японских жемчужин?
ЖИЛЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ
Истинное ухаживание - в сущности, священнодействие,
И потому требует обличий и облачений
И мадригалов с мазурками, конечно.
И если милый друг, переполняющий душу
От Николы зимнего до Сретения,
Вздумает погрузиться в натекающее пространство
И из всех тропов изберет фигуру отсутствия -
Придется отвыкнуть от вкуса его уст,
Посвятить ему какое-нибудь из Зимних Озер,
Погрустить, разумеется, но не слишком,
Чтобы не пропустить “Лоэнгрина” в Мариинском -
Как-никак Собинов!-,
А на память о трактирчике, где стены обшиты дубом,
А перины и кулебяки - такие воздушные,
Можно заказать себе строгий жилет - коричневый,
Именно такой, какой любят дураки-пуритане.
Впрочем, аллюзии из Вальтер Скотта
Здесь ни при чем. Просто - идут дожди,
И туман лохматится, словно в Лондоне.
ЖИЛЕТ ПЯТЫЙ
В этом жилете особенно хорошо постничать
И разъезжать по раскольничьим скитам в поисках
Благодати или триодей дониконовой печати,
Или, на худой конец, себя самого. А еще
Им можно прикрыть Занавешенные Картинки,
Ибо он - черный и уклончивый,
Как камилавка игуменьи или брови черницы,
От жаркого шепота которой как ни крестись -
Все равно до гроба не отмолишься.
Впрочем, он так удачно сочетается
С ассирийским клочком бороды на косоворотке,
С крюковыми бекарами в партитуре “Курантов любви”,
И с афонскими четками, конечно,
Что роза с шипами, вносящая слегка католические
Реминисценции в Троицкое навечерие,
Выглядит эстетским излишеством
На этом наряде - и обречена увянуть
В щербатой, как критика, саксонской вазе,
Или по дороге в фотографию.
ЖИЛЕТ ШЕСТОЙ
В желтом так упоительно захаживать пить чай
В какой-нибудь чайна-таун, а за неимением оного -
В китайский ресторанчик в Китай-городе,
Где канарейки выклевывают из песен лишние терции,
Где знанье жаровни о мясе так убедительно
И - всему вопреки - цветут магнолии.
Резной гребешок в волнистых кудрях танцовщицы
Любит расчесывать тишину и блики светильников,
А длинные желтоватые пальцы хозяина
Расторопны и напоминают шафран,
Который он, слава Будде, не добавляет в чай,
Ибо чаю хватает и лунного золота.
Старинный фарфор вспоминает лютневые флажолеты,
Но не сразу: его надо попросить ложечкой.
А старик, занявший две трети свитка у двери,
Наверняка, считает себя мудрецом.
Настоявшийся чай вправе настаивать
На особенном пиетете в обращении с ним: брызги
Слишком хорошо заметны на чем угодно,
А золотое на золотом - избыточно экспрессивно
И потому запретно. Даже - для денди.
ИНТЕРМЕЦЦО С РИФМАМИ
***
на листке с водяными знаками
из кармана лилового жилета
Комендантский катер снова увозит флаг
В сторону весны и любви,
А первый поцелуй - пророчески-первый шаг
К печали, как ее ни зови.
Да и не надо звать: и так прилетит сама
На крыльях покаянных ночей.
А пока лучше немного сойти с ума
От последних подснежников и первых грачей
И касанием клавиш тронуть светящийся звук,
И тишину претворив в гностический окоем,
Пока карапуз с крылышками, натянув фарфоровый лук,
Изображает виолу со смычком.
И вновь блаженно потягивается заждавшаяся кровать,
И над ворохом писем спорить не станет впредь,
Что губы, умеющие так целовать,
Вправе больше ничего не уметь.
***
на правой поле жилета
цвета венецианского заката
А знаешь - любовь не оправданье
Неумения верить в благодать.
Жизнь приходит за щедрой данью -
И ей невозможно отказать
Почти ни в чем. Голос страсти
Бархатен, как ямайский ром.
И тщетно разрываться на части,
Если он тебе не знаком.
Но лишь он - решающий довод
Для законов, баталий и наук.
И хороший конь однажды повод
Выдернет у грума из рук
И толкнет к мистической двери
Каменное быта колесо.
Впрочем - прости: ты ведь веришь,
Что любовь оправдывает все.
***
на обороте синодика,
забытого в черном жилете
Опять распускаются сирени,
Как надежды крестообразный счет,
И слепой старик на ступени
Паперти “Лазаря” поет
Над протянутою шапкой. Погода
Благодатна для путников и птах,
И два древних архангела у входа
Держат свитки бытия в руках.
И мы, поцелуйный напиток
Отпивая друг у друга из уст,
Тоже будем вписаны в свиток
И узрим Моисеев куст,
Или бесов Панургово стадо
Спрыгнет с пятого лепестка.
Не гадай о будущем, не надо:
Послушаем лучше старика.
***
на подкладке жилета,
пахнущего ландышевой водой
Брошенные Вам розы были так хороши,
В такую гирлянду полусплетались в полете,
Что я едва не крикнул: - Мгновенье, не спеши!
А я ведь не люблю Гете,
Зато люблю Ваш голос, обещающий новый рай
И почему-то всегда отстающий на четверть такта,
Когда Вы бросаете мне прямо в глаза: - Прощай!
Ровно за терцию до антракта.
И партер хлопает, и ложи плывут во тьму
К белой ночи - царевне града Петрова.
А я плачу от счастья: я-то ведь знаю, кому
Обещана встреча сегодня в четверть второго.
***
на оливковом жилете,
кое-где закапанном воском
Не открещивайся от разлук и печали:
Их телефон дозвонится и в явь, и в сон.
Вопль исступленья, запечатленный в металле,
Вспарывает цитрон
И помогает неуместным лучам улыбки
Втянуться в гримасу, явленную, как дар.
Сегодня - Крестопоклонная, и даже цыганские скрипки
Не дерзнут покинуть футляр.
И я отпускаю губы в молитвенную истому
И к распятию длань с троеперстным сложением длю,
И люблю тебя ныне отрешенно и по-иному,
Но все равно - больше души люблю.
***
на театральных билетиках,
забытых в четырех жилетах
Неправда, что все проходит,
Если лепечет листва
И сердце в сердце находит
Нечто большее, чем слова.
И плоть, примеряя позы
Эпикуровых теорем,
Радуется, что розы
Пахнут Глюк знает чем.
А липы сережки надели,
И шмель, как медвежонок, небыстр,
В трезвон Фоминой недели
Капает свой регистр.
И я надеваю это,
Хранящее Ваш портрет,
То ли подобие боскета,
То ли мушкетерский колет.
Но мы не мушкетеры: мы просто,
Коптским левкоям в лад,
Люди умеренного роста
И неумеренных услад.
А впрочем - все эти меры
Скучны, как библейский пересказ,
И дух отдыхает от веры,
Ибо я вижу - Вас.
***
на визитных карточках
из карманов трех жилетов
Мы будем с Вами смеяться
И шутить беззаботно и легко,
И преображаться в паяца
С помощью клавиш и клико.
Мы будем смеяться с Вами
Над ворчаньем пушек и газет,
И жонглировать странными словами,
Плавными, как Гайднов менуэт.
Мы с Вами смеяться будем
И вспомним крещенскую купель,
Но, впрочем, никого не осудим,
Разве что - несвежую форель.
Пока ночь не устала притворяться
Днем по эту сторону гардин,
Мы будем с Вами смеяться:
Грустить я буду после. Один.
ЖИЛЕТ СЕДЬМОЙ
Атлас цвета бедра испуганной нимфоманки,
Чашечка кофе, отпитая ровно на четверть,
Чтобы остаток пробежался крапинками
По обеим полам жилета. Умение
Вести непритязательные, но занимательные
Беседы о колористической необязательности
Водорослей и глаз у рыбок Матисса. Эрос,
Переживаемый как тягостная
Ошибка природы - то ли слепой, то ли намекающей
На избранность под знаком вопроса,
Заключающую в себе куда больше нездешнего смысла,
Чем пирамиды - золота и путей к смерти.
И - радость, похожая на глиняных голубков,
То есть боящаяся поверить самой себе
И потому особенно беззаботная.
Ренье - и еще кто-то, скорее всего - Шекспир,
Расслышанный в темпе шимми и шелеста крепдешина
Возле бедер приведенной Юрочкой поэтессочки -
Восторженной, как все полукровки.
ЖИЛЕТ ВОСЬМОЙ
Этот покрой привез какой-нибудь копт,
Может быть - из самой Александрии,
Смирившийся с Магометом хотя на уровне цвета,
Ибо зеленое почему-то нравится гафизитам,
А отсутствие пуговиц - пиратам,
О которых можно написать вставной эпизодик
На манер монокля в глазу сэра Фирфакса.
Претензии сытого - особенно после масленицы -
Живота приоткрывать полы
Обычно не вызывают досады и возражений,
Но слегка мешают закидывать ногу на ногу -
И лакированное совершенство штиблетов
Остается почти невостребованным.
Посему, если вам угодно быть элегантным,
Лучше не переедать лимбура и поджаренных булок
И заказывать исключительно шоколад,
Как смягчающий соус к чичеринским дилетантизмам
О Манон Леско и о Моцарте.
ЖИЛЕТ ДЕВЯТЫЙ
Макс Волошин - киммерийский мини-киник -
В сущности, великолепно умеет трогать бумагу
Акварелью и чернилами. Эллины
Все-таки чуть излишествуют с наготой,
А он, видно, пересмотрел их в Лувре.
И голени, напоминающие ятаган или бумеранг,
Или оконные витражи с чертежей Шехтеля -
Это еще куда ни шло - но отсутствие
Жилета на голиардском чреве
Скандальнее даже, чем “Книга маркизы”
Или Боккаччо, списывающий, как школяр,
Следы Апулеева осла. Правда,
Жилет, если переусердствовать с пуговками,
Несколько напоминает одесские лапсердаки -
Но разве он не похож на колеты Анри IV
Или на лиф пухленькой помпадурши из Ярославля,
Расстегивать который при оплывающих свечах
Так долго - но зато так упоительно?
ЖИЛЕТ ДЕСЯТЫЙ
Померания вовсе не собирается помирать,
А Польша - опошлять Шеллинга.
И если расстегнуть этот шелковый
Жилет цвета фелицыных необлетевших левкоев,
Толико любимого в незабвенном осьмнадцатом,
Надобно согласиться, что Василий Кириллович
Едва ли нашел бы в Сорбонне много сторонников
Своей этимологической методы,
Хотя и ездил в Остров Любви, и умел насвистывать
Нечто почти французское,
Что почти стоит перевести с рифмами,
Особенно если погода случится почти версальская
Или просто надоест пощипывать цитру
И прихлебывать кофе с марципаном,
Сердясь на зеркало, как всегда, слишком пристальное,
Подмечающее морщины и бесполезность помады,
Но не желающее увидеть кристаллик духа
Сквозь портрет Дориана Грея.
ЖИЛЕТ ОДИННАДЦАТЫЙ
Когда вы говорите мне; “Bon soire”,
Я отчего-то вспоминаю свою гувернантку - кажется,
Откуда-то из Лиона: совсем молоденькую,
Светленькую, как Диана у Ходовецкого,
И любившую сливки и васильки... Церковь,
Чей благовест прерывает девятую
Партию в бильярд, разумеется, мной проигранную,
Как и все двенадцать перед ней,
Обозначает свое присутствие сразу по обе
Стороны томика “Векфильдского священника”
И напоминает его, собственно, тем,
Что и ее пресвитер беден и многочаден,
И уютно устроился под каблучком попадьи.
Иначе разве он щеголял бы в линялом подряснике,
Вспоминал бы, прощаясь, что всякое даяние благо,
Плакался перед каждым вояжом в консисторию
И глядел бы во все глаза на этот жилет,
Ибо - что в нем особенного?
ЖИЛЕТ ДВЕНАДЦАТЫЙ
Старинные маркетри красного дерева,
Наверняка удостаивавшиеся чести приютить
Кюлоты и камзолы Куперена и Монтескье,
С годами имеют склонность двоиться,
Словно улыбка в венецианском зеркале
Или плэрома у гностиков. Значит,
Их нежелательно переполнять роскошью,
В том числе и особенно - жилетами,
Ибо прожилки серебра и державной ржавчины
Тяготеют к слиянью в один огромный просвет,
Просторно немногословный, как повестушки Ренье,
Как каминный экран - манифест пассеизма,
За который то и дело заглядывают римляне,
Русские богомольцы, хаживавшие на Афон
Или на Соловках Зосиме-Савватию маливавшиеся,
Розовые аббаты - и даже александрийские
Блудницы, евреи, несториане,
Знающие о жилетах ровно столько же,
Сколько я - о печали, когда я пел и любил
Вас - и все, что от Вас...
ФИНАЛ
Мерцающему зеркалу Невы
К лицу резная рама из сугробов,
А кое-как застегнутый жилет
Не защитит от памяти и яви -
И потому умение пера
Застегивать на рифмы или ноты
Хлыстовский бред и плимутский фокстрот
Не слишком впечатляет. Поиск смысла
Существованья, веры, бытия
Для многих ничего не объясняет
И профанируется до глотка
Распутинской мадеры. Медный Пушкин,
Склоняя голову перед Страстным,
Следит полет московских сизарей,
Чьи горлышки трепещут, как душа,
Зачем-то перепутавшая тело
И время инкарнации. Любовь
Свой катарсис спасительный творит
И любит отворять врата и кровь
И притворяться схимницей в притворе.
Поэтому - доверься Параклиту,
Округлым бликам купола Сан Марко
И русской вербе, чистой, как тропарь
На Воскресение Христово. Крест
Да сопряжет крылатым средоточьем
Четыре ипостаси искупленья
И мира, ибо правда - в избавленьи
От собственного дара и судьбы,
А все, что начинается с конца,
Началом и окончится.
Итак -
ТЕРЦИЯ С ПОДЛОКОТНИКА СТАРИННОГО КРЕСЛА
ПРЕЛЮДИЯ
Тот, кто столетними кольцами облек королевскую позу
И фижмы принцессы, словно пару сложенных крыл -
Готику чтил, разумеется - и прорезную розу
Против затылка вырастить не забыл.
И, клубящимся портером запив бекон и картофель,
Не спеша научил шотландский мореный дуб
Запоминать эполеты, девичий летящий профиль,
Коленные катеты и колючий излом губ,
И пенюара муарового встрепенувшиеся манжеты,
Откинутые до локтя, который целует тот,
На кого со скандалом в атаку идут газеты,
Молятся леди и кортики точит флот...
А еще он умел раздвигать и комкать пространство,
Чтобы рассыпалась золоченых гвоздей крупа,
И ваять ослепительно томительное постоянство
Из рыхлого вороха полужестов, шажков и па,
Чтобы былое вскинулось и воскресло,
Оставив столам сплетни, балдахинам - любовный зной,
И девчушкой вспорхнуло с морщинистой длани кресла
Пошелестеть волюмами и пощебетать со мной,
Замершим, словно в бенгальской чаще - охотник,
Боясь расплескать меморий перестоявшийся ром,
И уронившим на старый резной подлокотник
То, что когда-то было гусиным пером.
1. В КРЕСЛЕ
Устав от реянья знамен и грив,
Как Эпикур, вздремнувший под оливой,
На подлокотник голову склонив,
Я слушаю вас, Доуленд счастливый.
Пусть ваш пунктирно-пристальный гобой
В объятиях валторны и виолы
Поведает, как спорили с судьбой
Те, кто блюли библейские глаголы
И облекали в кромвелев напев
Псалом, что шепчет пуританский гений,
Сафьян высокой спинки протерев
Горбом своих забот и упоений,
И как архиепископская дочь
О подлокотник протирала очи,
Не в силах вспомнить и забыть невмочь
Благословенный ужас первой ночи,
И как, швырнув клавир тигриных шкур
На спинку - и полузабыв макао,
Здесь восседали Саути и Мур,
В озера перья пылкие макая,
И, перед тенью их похорошев
В галантно-ностальгическом азарте,
Старик-оценщик делал свой гешефт,
С двухсот гиней сторговывая фартинг.
Он эти древности беречь горазд
И не упустит редкую удачу
И мне его за тысячу продаст
И вексель на шестьсот возьмет в придачу.
А впрочем, даже это - не цена
За музыку с размашистого пира
Тех, чьих имен немые письмена
Своею ширмой выбрали - Шекспира.
2. С ДОУЛЕНДОМ
Когда настает музыка - ее не отменит ни слава,
Ни чертополох событий, ни букетик и веник вер -
И пусть в усы колоннад посмеиваются лукаво
Биг Бен и Трафальгар-сквер.
И можно отложить стихарь, алебарду, тесло
И все, чем радел и служил лукавому и Христу,
И, как долгожданного гостя, усадить в старое кресло
Плоти своей рассудительную тщету,
Пока старинная фолия льется на фолианты,
На которые бросил завитки парика Свифт,
Покуда виги витийствуют и дробно скачут драбанты,
И Стерн вышучивает таймсовский шрифт,
А Филдинг прячет скуку в стакан остывшего грога
И соглашается, что парламентская скамья
Не почтеннее кресла, где когда-то гремел Хогарт -
А теперь восседаю я -
Вернее - тот, кто вест-индским туманом дышит,
Любуясь, как солнце померанцами кормит кармин,
И на вытертом подлокотнике кресла пишет
О том, что догорает камин,
А Доуленд медный все медлит и обтекает
Протертость подлунную плеском летейской волны,
И душу мою с ладони вечерней не отпускает
За грань, где ни кресла, ни терции не нужны,
Где могут отдохнуть бёдра, бордели, барды
От чванной аксиоматики августиновых теорем,
Ибо записывать время, словно синкопы гальярды,
И скучно - да и зачем?
СОНЕТЫ О ПОПЫТКЕ К ЛЮБВИ
1.
Француженки занимают очередь за весной,
Испанки за ней приходят, как за арабской данью,
А в ваших зрачках дышит российский зной
И православная стужа, как оправданье
Того, что с нами не будет ни этой ночью хмельной,
Ни завтрашней - Бог весть, какого числа - ранью,
Потому что мы с вами под кровавой этой луной -
Две падучих звезды, поверившие скитанью.
Вы говорите: любовь - обморок и фиеста,
Побольше вина и свечей, и непременно кровать.
А я говорю: ложе - чистое и святое,
Ибо ложе не лжет, как аналог горнего места,
А постель - лишь уступка жажде плоти лежать.
К тому же любить модно и сидя, и стоя.
2.
Вашим устам позволяется всё. Даже
Ронять снисходительно высокомерное “фу”
В сторону стадиона или нудистского пляжа,
Или позы томной модистки, продавливающей софу
Реминисценциями готического пейзажа
И долгим потягиваньем вина - на манер Ду Фу,
И плавным покачиваньем страусового плюмажа,
Несколько извиняющим претенциозный фу-
туристский туризм Родченко и Шагала
И иных, накрываемых модной формулой russe.
Он как в воду глядел - этот сезонный гений.
Тусклая лампочка яблочковского накала
Да блудуар подчердачный - это дом и обитель муз.
А здесь можно пить и не просить извинений.
3.
Когда весна включает программу блаженной боли -
Все равно: в сердце или левом глазу -
Все прочие образы и роли
Остаются невостребованными и неразу-
ченными, ибо опять церемонные желтофиоли
Заученно распускаются в скучном Булонском лесу
И принимают стихи, как вкрадчивые пароли,
Которые я вам, может быть, принесу,
А может, пришлю по почте. Пыльный сюртук конверта
В сущности, к лицу предложению быть на “ты”,
Особенно если пахнет войной и летом.
А значит, самое время убедить франтоватого ферта
Недельку побыть кавалером калужской фиты.
Но я - совсем не об этом.
4.
Казачий есаул с турецким носом и чубом,
Который потрепало буденновское воронье,
В сущности, прав - но совсем ни к чему быть грубым,
Чтобы сказать правду или сыграть в нее:
Господа офицеры - в дворники и вышибалы по клубам,
Барышни - на панель (если позволит белье).
И даже товарищ Троцкий, сталинским ледорубом
Вразумленный, не отыскал безопасное житие,
Ибо кровь остается кровью, а на могилах
Не растет ничего, кроме камней и вражды,
Разбрасывать кои - все равно что писать доносы.
И горлинка вашего голоса, и трепет крылатых и милых
Ваших ресниц - вот единственные следы
Яви, коими дорожу. Прочее - прах и отбросы.
5.
Писать о любви - расточать погремушки слов
В темпе фокстрота для угрюмого анахорета,
И Жоржик Иванов, и даже сам Гумилев
Зиянием исключения подтвердили правило это,
Ибо дети аллаха любят ослов и плов,
А дети Христа потрясают формулами запрета.
Но если о ней молчать, как трещины колоколов -
Кто ж тогда станет поэтом считать поэта?
Но сегодня грешно в рифму глумиться над долей,
Ибо тропинка просохла от тропического дождя
В этом Каракасе, а может - Асунсьоне.
И манна кокаина, и белые груди магнолий
Тянутся к нашим ноздрям а мы молчим, уходя,
Душу оставив в смятом крузейро - и стоне.
6.
При слове “любовь” отчего-то вспоминается Лиза из
Тургеневских карамзинизмов в монастырском поклоне,
Или маркиза де Сада сатанински-сладкий каприз
Из обреченных цивилизационных агоний
Христианской Европы. Но любовь обойдется без виз
И уснет на Венерином и Авраамовом лоне,
Ибо любить - это значит ступить на карниз
Чего-нибудь стоэтажного где-нибудь на Гудзоне,
Покрепче зажмуриться, как сомнамбула, и - качнуться
Вслед за сиянием, скользящим по гребням крыш
Под расступившимися созвездьями голубыми,
И на оклик рассудка и памяти не обернуться,
И за дюйм до асфальта верить, что ты - летишь,
И за дюйм до асфальта благословить ваше имя.
ПРИГОРОДНЫЕ БУКОЛИКИ
Подмосковье, лето 1991 г.
1.
Очередной смертный приговор, выносимый рябине
Дорогой - не долго ждет исполнения своего.
Готовность крыс к голоду в маленьком магазине
Не восхищает практически никого,
Ибо умение со вкусом класть зубы на полку
И долго держать их там - невеликая честь
Под крышей, куда луна заглядывает втихомолку
И ищет - чего бы до первых петелов съесть.
Вообще совокупность даров теплиц и суглинка,
Испытывающая тягу к нырянью в засол и в рот,
Превалирует. Знаменитый аранжировщик Глинка
“Арагонскою хотой” успеха здесь не найдет,
Ибо крупнорогатые, управляющие дворами,
Настолько освоили превращение звука в дух,
Что шестибуквенность термина “музыка” вечерами
Сокращается чаще всего до начальных двух.
2.
Дюжина дюжин вечерних телеэкранов,
Смыкая щиты, дрожащие, как половецкая рать,
Повествует вполголоса не о толщине карманов,
А разве что о желании попрать
Время программой “Время”. Кошачьи сопрано
Влекомы Эросом к кошачьим контртенорам,
И кудрявые шкурки неродившегося барана
Составляют предмет вожделения местных дам,
Умеющих многое, особенно - качество духа
Подменять количеством тела и столового серебра
Вперемежку с “Тойотами”. Что до тонкости слуха -
В этом непревзойденные мастера
Летучие мыши, щупальцами ультразвука
Знакомясь с ночным рельефом некрещеной Руси:
И потому для цензуры всегда особая мука -
Заглушать и для них Free Europe и Би-Би-Си.
3.
Вымя козы, с утра забравшийся в клевер,
Требует к вечеру опор на соски при ходьбе.
Низенький домик, выпучивший на север
Подслеповатые окна - не вправе в родню к избе
Набиваться. Оббитая штукатурка,
Как левкас, в веках не сберегший апостольский лик,
Безъязычествует, как язычник. Апельсиновая кожурка
Втаптывается во всё - даже в лесной родник.
Серые кролики, красноглазо и длинноухо
Вжившиеся и вжевавшиеся в линнеевскую латынь,
Исподволь учат терпенью и кротости духа
В двухмерных координатах одушевленных пустынь,
Где Иисусовой влаги не встретить и не напиться,
Где скука толчет мгновенья, как толокно - пест,
И покосившиеся антенны над черепицей -
Единственное, что хоть как-то напоминает крест.
4.
В улицах, облупившихся, как фрески треченто,
И подкрашенных стоками с авангардистских кистей,
Есть инерция страха, то есть жажда казаться чем-то
Более выразительным. Осознанье своей
Вторичности и ущербности иногда почти умиляет,
Как искреннее раскаяние. Так пес, валявшийся на
Хозяйской постели, покаянно хвостом виляет
До завтрашнего их отсутствия. Стена
Между двумя владениями, именуемая забором,
И подпираемая шиповниками, ничуть
Не мешает ни кошкам, ни любопытным взорам
Совершать свой обстоятельный путь
В теплицу, где перцы вперяться в пленку устали
И исступленно растут сразу во все концы,
Проявляя особое тяготение к вертикали,
Длинные, как “Троецарствие”, нерусские огурцы.
5.
Летние грозы так любят лакомить ноздри озоном,
А гортани - смородиной и маслятами, что
Национальный аспект, узнаваемый по фасонам
Завязыванья платочков, не заметит почти никто.
А кто и заметит в сепаратистской отваге -
Сам не захочет широко раскрывать глаза,
Ибо пора отмечаться в очереди в сельмаге
За табуретовкой (она же - “Божья слеза”),
После чего нацвопрос поднимать не вправе
Ни мордвин, по-армянски оттаптывающий гопак,
Ни дитя Магомета, похрапывающее в канаве,
Как самый чистокровный русак.
Так что изгоев Индии и Палестины
Приходится узнавать исключительно по цене,
Уплаченной за ведерко перезрелой малины
С трещинками эмали, как крапленые таро, на дне.
6.
В крышах, устало сгрудивших дранку свою и жесть
И черепицу (для живописности пущей)
Вокруг магазинчика - странным образом есть
Почти неосознанный рудимент праздника кущей
Или хазарского стана. Петушиный дряблый фальцет,
Словно одноцентовую “Британскую Гвиану” -
Благоговейного филателиста аукционный пинцет,
В клювик берет удушливую мембрану
Предполуденной полусонности - и она
Начинает вибрировать в темпе престо,
Как доказательство теоремы, что тишина -
Это именно то, чему, в сущности, нет места
В буднично-обстоятельном проеме меж явью и сном,
Не признаваемом технократическою наукой,
Но регулярно взбрызгиваемом семенем, кровью, вином,
А чаще всего - скукой.
7.
Изощренность иронии часто впадает в из-
вращенности вкуса. Этот обшитый тесом
Карниз попытался сыграть в аттический фриз,
Но передумал - и клюнул носом
В сторону яблонь и избушки Бабы-яги,
Как всегда вовремя развернувшейся к миру задом.
И в доме теперь какие лампады ни жги -
Все равно отдает инфернальным смрадом,
Особенно - вечером. Результат диалога труб
С турецкой шалью заката - грустит о быте,
И потому бывает безотносительно груб,
Но порой вспоминает о кустодиевском колорите
И начинает светлеть. Архетип архитек-
турной архаики входит, как малый катет,
В угол пространства, обходящийся без аптек,
Но знающий, как Сизиф свой камешек катит.
8.
Падающим яблокам безразлично - во что упирать
Свои ньютоновские векторы ускоренья
Свободного падения. Но травяная кровать
Не любит излишне подробного повторенья
Этих опытов - и желтеет. Созерцательный строй души
Созревает обычно в августе - и философское бремя
Чтенья китайских даосов, подвизавшихся в жанре ши,
Особенно благотворно именно в это время.
И поэтому лучше перестать событийную ось
Торопить подошвами, колесами и зрачками,
Ибо истинно сущее прозревается только сквозь
Примиряюще-властное пламя
Пустоты и исчезновения. И пока языки его
Длятся и остаются в облаках, яблоках, птицах -
Брось в него хрупкий снопик бессмертия своего
С сухими стеблями памяти об улицах этих и лицах.
СЕГОДНЯ
1. СЕГОДНЯ
О чём-то помним и чего-то ждем,
Как гимназистки - выпускного акта,
И мокнем под мистическим дождем,
Чтя толкование Феофилакта
К Матфееву Евангелию. Кровь
Топорик еря вновь роняет наземь
И щедро окропляет русский кров,
Не помня - без князька он или с князем.
Литовские и прочие углы
Взахлеб твердят главлитовскую ересь,
Что снова византийские орлы
На русские рублевики слетелись
Недаром, нет. А Третий Рим жует
Свои фаллические шоколадки
И нищим мимоходом подает
Двухсотки, как грошовые закладки
Из голубиной книги живота
И мемуаров бывших президентов,
Державой подведенных, как черта
Итога над строкой экспериментов
Над храмом и путем, ведущим в храм,
Над чисткой касты с помощью кастета,
Препоручая уркам и ментам
Благую роль столпов менталитета,
Пока охапки акций и идей
Навязывает биржевая сводня
И есть кому шикарное “Today”
Переводить на местное “сегодня”.
2. ЧАСЫ-АКВАРИУМ
Анне Архангельской
В этом странном аквариуме, над которым часы
На кончиках стрелок убегают от времени,
Золотистые рыбки плавники и усы
Распустили вслед проросшему семени
Водорослей, танцующих галантный танец змеи,
Мудрой и терпеливой, как аввакумова протопопица,
Выспрашивая у восходящей струи,
Куда она так торопится
И кому приготовила архангельский сонм пузырьков,
Ни чьим зрачком и домыслом не взломанных,
В коих минувших и ненаставших веков -
Еще больше, чем в клепсидрах и гномонах
И иных способах приговорить бытие
К человеческим мерам - безмерным, как своеволие.
И золотым рыбкам, и особенно их чешуе
Не остается ничего более,
Как задевать песчинки внизу на бездонном дне
По другую сторону статики и скитания,
И медитативно поблескивать вне
Хронотопов и формул Бого- и бесопознания,
Коих каждая рыбка попросту в счет
Не берет - и почти стесняется
И часов, и аквариума, и державы, где все течет
И ничего не меняется.
3. У КИОСКА “СОФРИНО”
Мазками модернистского письма
Толпа пестрит над третьеримской пылью
И образ “Прибавления ума”
Над ней возносит ангельские крылья.
А дождь вплетает вертикали струй
В горизонтали городского быта,
Узор китайской мистики шань-шуй
Творя ненарочито-деловито.
Москва язык ломает вперегиб
Губищами своими и устами,
Торгуя на закате эры Рыб
Котятами, “Распутинской”, крестами.
Джаз-банда хриплым банджо и трубой
Из душ и кошельков вниманье тянет
И мчатся от судьбы и за судьбой
На иномарках инороссияне.
Цыгане переходят путь беде
И новый век спешат спасти от сглаза,
Гадая по рубиновой звезде
И профилям диаспоры Кавказа.
И смотрит в душу каждую и час,
Скорбя об упоительной отраве,
Измученный Нерукотворный Спас,
Распятый на Голгофах новой яви.
4. НОВАЯ СВЯТАЯ РУСЬ
Кто мог - уехал на Запады. Кто не смог,
Насмерть связанный памятью и прочими пуповинами,
Так и остался витать, как ностальгический смог,
Над обугленными руинами
Русской цивилизации. Правда, прощальный клев
Эпохи Рыб был удачным (но удачи здесь запрещаются),
Но, к сожалению, прав пристальный Гумилев,
Ибо осколки этносов больше не возвращаются
В свои прежние меры, как бабочка - в куколку, чья
Опустевшая форма исходит оккультной хворобою
И больше не надобна для нового бытия,
Полного новой, ему довлеющей, злобою
И еще не проявленной кинограммой добра и зла,
Шампурной рифмовкой “семени - роду-племени”,
И потому не любящего заглядывать в зеркала,
Ломать купола, а точку отсчета времени
Отодвигать влево и вправо на медном безмене Мне-
мозины, выводок дочек увозящей поближе к Западу
Помогая им вздорить на английском или койне,
И пореже обращать ноздри к запаху
Дыма отечества, где компьютерный троглодит,
Лазеры поправляя дубиной утилитарности,
Мучается от мудрости и мутантов плодит,
Как биомассу для нового всплеска пассионарности
Или фазы распада, где новый священный гусь
Рим не спасет, расклевав его вместе с грифами,
И некая новая - и тоже Святая - Русь
Новую веру примет и подпишется иероглифами.
5. МИФОЛОГЕМА РАСПАДА
ВВЦ-ВДНХ. Ненавязчивая
Профанация сталинского ампира
До уровня ельцинской толкучки. Столице
Вдруг вздумалось стать окраиной чайна-тауна
И заняться чуть криминальным гешефтом
На “Мерседесах”, “Пентиумах”, женьшене,
И, заглянув в один из последних красных
Уголков, полюбоваться последними
Красными знаменами, досками почета - и прочими
Обносками эпохи развитого маразма
И вяло текущего палачества
С высоты своей сегодняшней ямы,
Чья натурная модель на Манежной
Больше не ждет милостей от Неглинки,
А берет их в гранитное русло
И обставляет атрибутикой Диснейленда
Скромненькие фонтанчики. ВВЦ в этом смысле
Куда ближе к идеалу помпезности,
Ибо ее фонтаны, как и встарь, подпирают небо,
Ставшее не по капителям
Колоннам - несокрушимым, словно Союз,
И набитым той же трухой. Фризам
Странно к лицу эстетика обшарпанности,
Как патина - старому серебру. Китайцам
Остается лишь заменить гадание по чаинкам
Гаданием по облупившейся штукатурке,
А то и просто улыбнуться в сторону
Еще одной мифологемы распада.
6. ЧАША ГРААЛЯ
Томные топ-модели подносит пальчик к устам
И скудостью наготы означают позднюю осень,
Ибо поэзия церемонной эпохи Тан
Очень изысканна, но не очень
Актуальна в эпоху нинтендо и прочих до-
могательств компьютеров на роль особого стиля
В боевых искусствах, наконец-то доживших до
Эры превращенья планетарного утиля
В новую упаковку для русской идеи, чей чад
Особенно впечатляет на фоне чайка и “Шанели”,
Покуда матушка Русь облачает своих чад
В жест отчаянья и в шинели,
И, бликами слёз на ликах чудотворных своих шевеля,
Шлет интердевочек, схимников, эмиссаров
За новой корзиной щепок и шишек для
Метаисторических своих самоваров,
Которые фыркают на самостийность держав-опят,
На славянские пни раскатавших дряблые губы,
И вопреки всему медитативно кипят,
В сторону храмов воздев прожженные трубы;
И Некто, причастный к надмирному бытию,
Довременным знанием новую явь не печаля,
Оглядываясь на вечность, подставляет под их струю
Щербатую чашку, а может - чашу Грааля.
7. МОНАХ
Монах с колокольчиком на площади перед сим-
волом сталинского ампира - аркой ВДНХ,
Аки скала соловецкая, неколебим,
Пока искупатели греха
Бросают в его ящик баксы, насмешки, рубли
С тихой верой и грустью пополам,
Из коих в незапамятной дали
Вырастет кафедральный храм
Или хоть лагерная часовня, где щербатые паханы
Со Спасом впервые встретятся лицом к лицу,
И, падая во мнении шпаны,
Припадут к Сыну и Отцу,
И, от звонка до звонка отмотавши клубок минут
Двенадцатилетней длины,
Вздох разбойника благоразумного предпочтут
Всем затеям нэповской весны,
Или уйдут настаивать монашеский седмитрав
На полыни раскаянья, окропившей безбытный быт,
Авторитетом и крышей себе избрав
Дряхленького игумена, что покуда стоит
Тридцатилетним послушником, отстраняющим тлен
Нового Вавилона, искупая грех мног,
Не отпуская зрачки в сторону смуглых колен
Старшеклассниц, опаздывающих на последний звонок.
Свидетельство о публикации №114111406646
