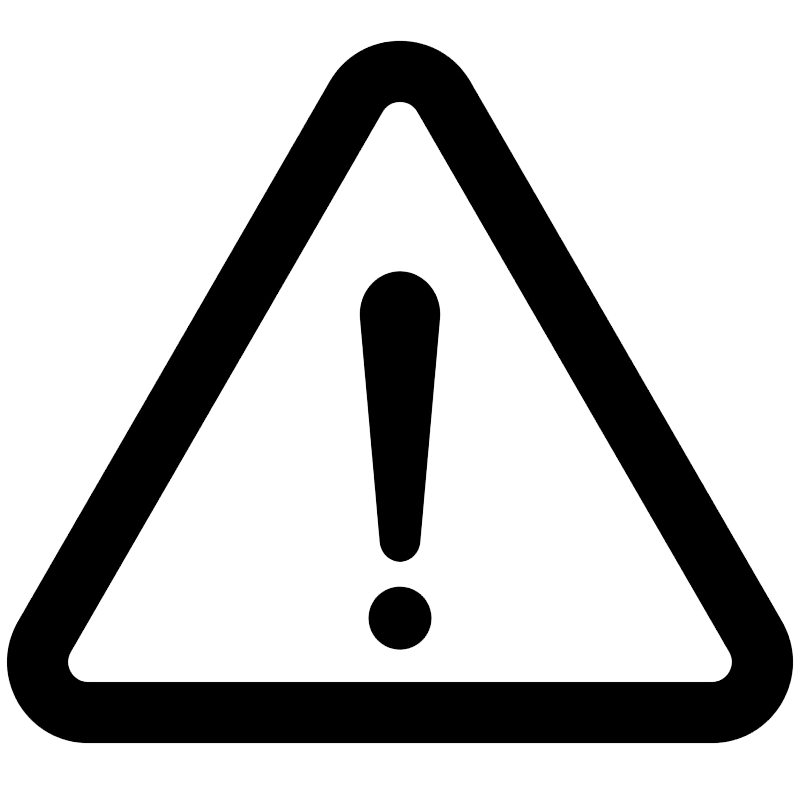
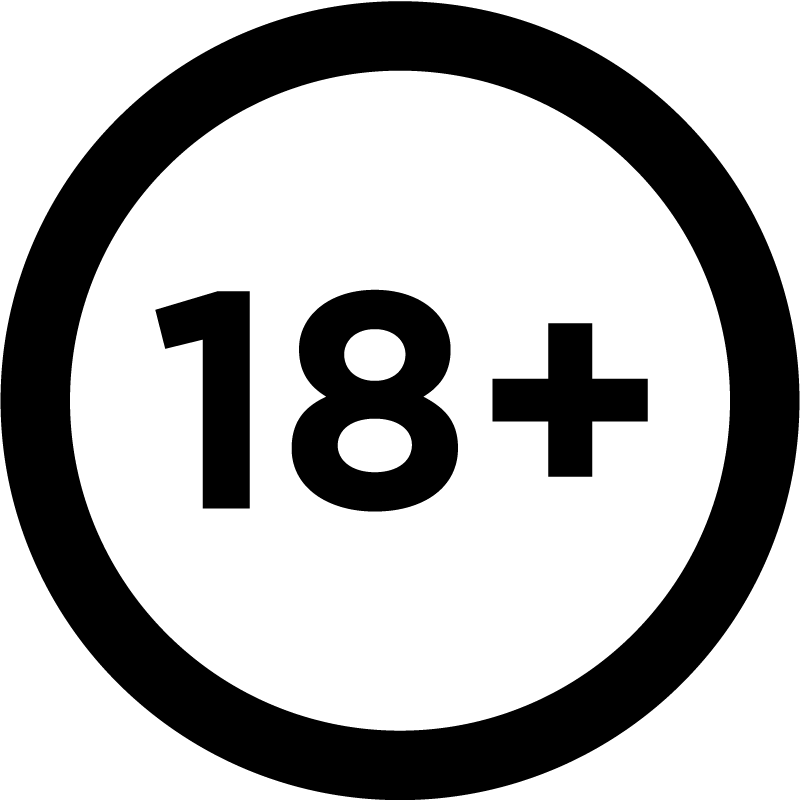 Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
История о том, как Гулливер сделался лилипутом
удивить тебя странными и невероятными рассказами, но
я предпочел излагать голые факты наипростейшим способом
и слогом, ибо главным моим намерением было
осведомлять тебя, а не забавлять.
Джонатан Свифт. «Путешествия Гулливера»
Не знаю, для чего я рассказал эту сказку.
Я мог бы рассказать и любую другую.
Сэмюэль Беккет. «Изгнанник»
I
Несомненно, философы правы, утверждая, что понятия великого
и малого суть понятия относительные.
Джонатан Свифт. «Путешествия Гулливера»
Каким образом мог я стать этим ребенком,
хотя почему бы и нет?
Сэмюэль Беккет». «Мэлон умирает»
ШУМ ПОДЗЕМНОЙ РЕКИ
ни на что не годный, ничего не добившийся, никого не породивший, где твои одиннадцать сыновей , их могло быть и больше, хватило бы и двоих, хватило бы дюжины посаженных деревьев, ухоженной лужайки на заднем дворе, дома, купленного в кредит, и своевременно выплаченного кредита, но ведь это притворство, притворное сожаление, в том-то и дело: я всегда был уверен, что этого мне не хватит, одиннадцать сыновей? да пусть их будет трижды одиннадцать, и в придачу столько же дочерей, числа не имеют значения, как будто я был рожден для чего-то другого, носить скинию откровения, например, но это действительно близко к истине, это и есть истина, голос и откровение, неизвестно чей голос и откровение неизвестно о чем, все это было, хотя точный день и час вспомнить невозможно, как будто переданное тут же забылось, и потом шумело в глубине, точно подземная река, а я был кем-то вроде лозоходца, отыскивающего воду, я пытался заниматься чем-то другим, собирал марки, изучал астрономию и древние языки, играл на гитаре, ухаживал за стариками-родителями, пьянствовал, путешествовал, увлекался экстремальным туризмом, работал в компании грузовых перевозок, водил такси, играл в карты, пробовал себя в любительском театре, пел в хоре, сидел в барах, были у меня и женщины, но ни одна из них не родила мне сына, мы принимали меры к тому, чтобы этого не произошло, учился рисовать, хотел стать художником, потом понял, что не разбираюсь в красках, не улавливаю оттенки, вернее, улавливаю глазом, но не сердцем, эмоционально они мне ничего не говорят, хотя линию я схватываю хорошо, может быть, из меня получился бы график, но, скорее всего, посредственный, так всегда бывает с тем, кто не пытается вспомнить данное ему откровение, чем бы он ни занимался, настоящего успеха он нигде не добьется, ему всегда будет мешать подземный шум, он всегда будет к нему прислушиваться, упуская что-то важное в том занятии, которое он для себя выбрал, ошибочно выбрал, полагая, что никакого откровения не было, и он волен выбирать, чем заниматься в жизни, приписывая неудачи недостатку способностей, думая, что ищет подходящее дело, подходящее для его способностей, которые, конечно же, у него были, только неизвестно к чему, ложное предположение, отвлекавшее его от поисков подземной реки, он искал зарытый талант, а ему следовало бы искать подземную реку, и где бы он ни копал, находил только кости и черепки, самое большее, а часто и вообще ничего, но при этом он не переставал искать, так проявлялось забытое откровение, шум подземной реки не давал ему покоя, даже когда он его не слышал, и он искал какое-то дело, занятие, искал свой талант, и жизнь его шла по графику затухающих колебаний, у одних она похожа на возрастающую прямую, у других – на ветвь параболы, у третьих – на синусоиду, а у большинства – на гауссиану, кривую, представляющую нормальный закон распределения ошибок, эти сравнения напоминают о том, что он занимался и математикой и даже достиг в ней определенных успехов, преуспел больше, чем в каком-то другом занятии, но шум подземных вод не позволял ему удовлетвориться достигнутым, он отказывался от благ, заработанных на прежнем месте, и устраивался на новом, начинал все с нуля, каждый раз веря, что нашел нужное место, не допуская и мысли о том, что такого места просто не существует, потому что он ищет не то, что должен искать, так проходили годы, но он чувствовал себя молодым, потому что считал, что еще не нашел своего дела, поиски давали ему чувство молодости, а молодые, приросшие, примерзшие к какому-то делу, месту, казались ему стариками, он чувствовал себя в лидирующей группе забега, а те, кто согласился на рутинную жизнь, добившись немногого и удовлетворившись этим, составляли, по его мнению, пелетон, начиная с нуля, он должен был бы чувствовать себя среди отстающих, аутсайдером, но вместо этого испытывал прилив бодрости, уверенности, он чувствовал себя серфингистом на высокой волне, и так проходили годы, неслись, летели, а он и не замечал, пока однажды его не накрыло Сомнение, он упал с доски в воду, будто Икар, синусоида затухающих колебаний приблизилась к оси Х, сделалась от нее почти не отличимой, началась жизнь на нулевой отметке, и только тогда, потеряв иллюзии и надежды, он явственно услышал гул подземной реки и понял, что должен идти по ее течению, безразлично, вверх или вниз, что это – единственное подходящее для него занятие, которое дожидалось его многие годы, и вот – дождалось.
ДЕТСТВО ПОТРОШИТЕЛЯ
допустимы ли эти переходы от «я» к «он», от первого к третьему, нужно выбрать лицо и держаться за него, не потерять лица – это важно, с другой стороны, зачем придавать значение простой условности, мелочиться, лучше показать себя непоследовательным, чем проявить мелочность, можно начать с первого и перейти к третьему или наоборот, можно даже попробовать второе, что у нас на второе? чье-то лицо, держаться выбранного метода, будто журчание в писсуаре, сравнение, избавляющее от чувства ответственности, чрезмерного, чтобы журчать, нужно расслабиться, неумение расслабляться – это помешало ему стать музыкантом, в подробностях позже, а теперь нужно выбрать, с чего начать, да, день выборов, но это реальный выбор, к нему нужно отнестись серьезно, или пустить на самотек, не напрягаясь, и пусть выбирает само себя, однако минимум последовательности необходим, что важнее – логика или хронология? скорее, последняя, хотя бы потому, что трудно представить, в чем заключается первая, может быть, она нужна, чтобы выбрать момент времени, с чего-то надо начать, это как творение мира, толчок по ту сторону хронологии, возникает субъект, и вместе с ним – время, бесконечное в обе стороны, этому субъекту лет пять, а может, четыре, забравшись на стул, он смотрит в окно, там зима, минус двадцать, термометр – на уровне его лба, он уже знает цифры? сообразительный паренек, что же он высматривает, его взгляд пересекает улицу, летит над крышами домов, достигает железнодорожного вокзала, утыкается в башенные часы, различает ли он положение стрелок? в те годы, может, и различал, миновав башню, пересекает железнодорожные пути, углубляется в пригород, можно ли так сказать – «углубляется»? можно ли назвать эту часть города «пригородом»? пусть будет окраина, где-то там, на окраине, расположена школа, там преподает его мать, итак, мы начали с матери, следовало бы сказать «я начал с матери», значит, я хочу рассказать о своей матери, неожиданно, я бы предпочел начать с кого-то или чего-то другого, неужели эта тема необходима, неужели это «я» неизбежно, а ты думал, что отправляешься в круиз, увеселительная прогулка, только из гавани – и уже рифы, но в чем затруднение? стоит у окна, высматривает, не возвращается ли мать, еще рано, он знает, что уроки не закончились, он просто тоскует и хочет, чтобы время шло побыстрее, и этот взгляд соединяет его с матерью, так в давние времена влюбленные смотрели вместе на луну или звезду, так живущий на чужбине смотрит в сторону родины, где о нем уже никто не помнит, романтическая ностальгия, родина там, где мать, без нее дом становится чужбиной, но что дает этот факт? очень мало, другие дети, вероятно, чувствуют то же самое, да, но в какой степени? и какие это имеет последствия? инфекция может пройти без последствий, но может и перейти в хроническое заболевание, ничего пока не предрешено, буду держаться фактов, отсутствие матери в возрасте от двух до пяти благоприятствует развитию фантазии, убивать время с помощью игр, можно распороть мешок Деда Мороза, обнаружив в нем вату, не подорвет ли такое разочарование резвость воображения, нисколько, похоже, он догадывался, что в мешке у Деда Мороза, и потрошил его просто от скуки, такой скучающий Потрошитель, готовый принять наказание, вернее, уверенный, что ему все сойдет с рук, и сходило, его баловали, потакали почти во всем, и, вероятно, поэтому атмосфера любви сделалась для него необходимой, впрочем, это лишь предположение, домысел, факты пока малочисленны и могут указывать как на то, так и на другое, например, на жестокость, свойственную Потрошителю, фильмы внушают нам, что в таких случаях виновата мать, что-то не так у него пошло с матерью, в детстве Потрошитель был хорошим мальчиком, но мать делала все, чтобы он вырос маньяком и извращенцем, такие вот представления, несмотря на весь феминизм, а его предостаточно: следователи – женщины, репортеры криминальных отделов – женщины, мужчины-полицейские на побегушках, бестолковые ребята, и женщины-полицейские всегда утирают им носы, ставят на место, от плохих матерей рождаются потрошители, от хороших – сообразительные следователи и бесстрашные журналистки, как приятно поговорить о кино, сделать передышку, немного улыбки, без этого далеко не продвинешься, даже автор «Процесса» улыбался, хотя по его сочинениям это незаметно, но есть достоверные свидетельства, что он преподносил свои рассказы как юмористические, и друзья смеялись, они понимали юмор, они понимали Кафку, особенного его понимал Макс Брод, сохранивший архив Кафки, несмотря на строгое указание уничтожить все бумаги, но эти факты хорошо известны, нет смысла о них говорить, даже для передышки, посторонних фактов великое множество, и чтобы не заблудиться, их лучше вообще не касаться, обходить стороной, держаться только тех, которые имеют прямое отношение, а во время перерывов молчать, посмотрим, совместима ли эта стратегия с образом ручейка, так много нового предстоит узнать, вспоминая старое, я настаиваю, это не выдумка, пусть никто не сомневается в автобиографичности повествования, избегать местоимений «он» и «мы», чтобы не давать повода усомниться, век вымыслов позади, в цене документы, репортажи и биографии.
МЕСТО ДЛЯ ИГР
теперь об отце, начал я с матери, продолжаю рассказом об отце, очень традиционно, я работаю в жанре традиционного биографического романа, так приятно сознавать себя литератором, чувствовать, что работаешь, он работал в таком-то жанре, или просто: работал, примерно как дровосек, или водитель-дальнобойщик, или депутат парламента, или кутюрье, или часовой мастер, сколько их, и все работают, так приятно быть одним из работающих, это вступление, набраться духу, протереть глаза, что же их заволакивает? туман, откуда он взялся? уж не называется ли он слезами? вот нелепость, странное предположение, оскорбительное и комичное, оскорбительное в своей комичности, итак, об отце, проще всего было бы сказать, что отца вовсе не было, мать растила меня в одиночку, с бабушкой, у одиноких матерей обычно бывают бабушки, такие же одинокие, и пока мать работает, снова это слово, такое успокаивающее, основательное, бабушка сидит с внуком, который изнывает от тревоги и тоски, ничего успокаивающего в работе, тоска и усталость, но это зависит от того, чем занимаешься, преподавать в школе – не сучья рубить, неизвестно, что утомительнее, если в длительной перспективе, и как та или иная работа влияет на расположение духа, обрубив сучья, можешь о них забыть, посидеть в баре, повеселиться, найти девушку на ночь, если у тебя семья – придешь домой, усталый, и спросишь: эй, где мое виски? но можно и без виски: встаешь под душ, ужин накрыт, дети рады, жена тоже, ты такой большой добродушный лесоруб, без вредных привычек, дети ощущают исходящую от тебя силу и уверенность, жена тебя любит, поужинав, смотришь телевизор, играешь с детьми, но если ты – женщина, все усложняется, тебе придется самой готовить ужин, что-то убирать, проверять домашние задания детей и так далее, женщины никогда не возвращаются с работы в хорошем настроении, может быть, потому, что они не работают лесорубами, выбирают себе другие занятия: кассира, продавщицы, секретаря, чиновницы, обычно это всегда работа с людьми, мужчина может работать с деревьями, или песком, или камнями, разными железяками, но женщина обычно работает с людьми, общение, общение, общение, и когда она приходит домой, возвращается в семью, она уже пресыщена общением, сыта, скажем так, а как еще сказать, утомлена общением, ей хочется отдохнуть, помолчать, нет, женщина никогда не молчит, она отдыхает, разговаривая по телефону с подругами, как ни поверни, но если женщина работает, ей не до детей, если она сидит за кассой, ей не до детей, если она преподает, ей не до детей, если она принимает больных, ей не до детей, если она водит самолет или грузовик, ей не до детей, если она заседает в парламенте, ей не до детей, если она хочет стать художником или ученым, ей не до детей, освобождение женщины для работы оборачивается ее освобождением от семьи, внутренним, психологическим, хотя внешне она по-прежнему связана с семьей, заботится о детях и муже, но на самом деле разрывается между семьей и работой, вот она, трещина в фундаменте, невротичные дети, сокращение рождаемости и прочее, с удивлением узнаю о своем консерватизме, я против женской эмансипации, чего только не узнаешь о себе, если продвигаться медленно, не упуская ничего из виду, я как-то забыл об отце, сосредоточившись на положении женщин, немного отдохну, пристроившись на диване рядом с лесорубом, смотрим какую-то передачу, смотрим футбол, конечно, или бокс, что-то жуем, что-то попиваем, лесоруб пахнет чистой рубашкой, а мать убирает со стола, но какие лесорубы, я ведь обещал не выдумывать, да, заявляю еще раз: это реальная биография реального человека, все в ней верно до мелочей, все может быть подтверждено документально и воспоминаниями современников, большая биография маленького человека, так это задумано, поэтому долой лесоруба, не было никакого лесоруба, отец его работал мастером по настройке компьютеров: устанавливал программное обеспечение, устранял неполадки, производил мелкий ремонт, был мастером на все руки, поначалу, когда у него еще не сложился круг клиентуры, тогда он перестал возиться с железом, занимался только софтом, установка софта, отладка ПО, устранение сбоев и прочее занимает много времени, ненормированный рабочий день, приходится выезжать по вызову даже в праздники, представьте: мать – с утра до вечера в школе, отец с утра до вечера настраивает компьютеры, и есть бабушка, это позволяет оставлять ребенка дома, никаких детских садов, телевизор, книги, игрушки, бабушка учит его читать, но это все, чему она может его научить, с бабушкой скучно, и нет двора, где можно было бы поиграть, спальный район: многоквартирные дома, детские площадки, машины туда-сюда, прохожие туда-сюда, нет укромных уголков, все как на ладони, осторожно: выдумка, я поселил его там, чтобы сделать еще более одиноким, но на самом деле он жил в доме со двором, огороженным, хотя кто знает, что больше способствует чувству одиночества: открытое или закрытое пространство, можно над этим поразмышлять, но выбирать не приходится: верность жизни, так возникает двор, подходящее место для детских игр, перечисление растянулось бы на страницу, если есть двор, ребенка можно выпустить одного, бабушка время от времени выглядывает из окна, этого достаточно для «пригляда», наличие двора как решающий фактор в развитии фантазии, и чувства самостоятельности? он ощущал себя одиноким путешественником, сыщиком, космонавтом, современные дома на одну семью этого лишены, лужайка для барбекю – все, что они имеют, негде прятаться, все как на ладони, низкие сетки заборов, взгляды соседей, что делать на такой лужайке? поэтому он предпочитал играть на улице с соседскими детьми, унылые улицы, вроде тех, что в клипах «Тупиковая улица» и «Как важно быть праздным» или в фильме «Фотоувеличение» , унылые улочки английских городов, унылые развлечения, никакого простора для воображения, самое правильное в такой ситуации – лечь в гроб и праздновать лентяя, под звездами, хотя некоторым удается, например, битлам, и кинкам, и братьям Галлахерам, далеко я ушел от темы отца, как будто все уже о нем сказано, а ведь не сказано даже необходимого, не знаю, что я имел в виду.
ЛЕСТНИЦА В НЕБО
почему мне хочется, чтобы непременно был двор, я так уверился в этом вчера, что уже не сомневался: двор действительно был, но сегодня усомнился, сегодня я отчетливо вижу вот что: комната в небольшом доме, каменном или деревянном, старая кровать на пружинах, с двумя металлическими спинками, покрывало, две подушки, одна на другой, посередине комнаты стол, пустой, что-то стоит у левой стены, непонятно, что, кровать справа, слева – диван? шкаф? единственное окно, комната на первом этаже, может быть, это одноэтажный дом, судя по тем домам, что видны из окна, одноэтажные дома, между ними проход, ведущий на поперечную улицу, там – двухэтажный дом, фасадом к окну, зимний вечер, одинокий фонарь, на подоконнике – кукла: человек в штанах на помочах и белой рубашке, приставлен лицом к стеклу, смотрит на улицу, на дома, на снег, на вечер, будто ждет кого-то, кто должен пройти под фонарем и войти в дом, в эту комнату, фонарь светит оранжевым, но картина представляется почему-то в голубом, настроение блюза, пустая комната и одинокая кукла, пустая улица, одинокий фонарь, так бедный старый художник изобразил свое одиночество, да, конечно, это воспоминание о картине, может быть, я сам ее нарисовал, а потом уничтожил, все уничтоженные картины сохраняются в памяти, неуничтоженные часто забываются, потерянное, утраченное помнится лучше, значит, я – художник? или был им когда-то? сегодня я чувствую какое-то недомогание, трудно отличить факты от вымысла, недомогание головы переносится хуже, чем недомогание тела, о теле можно забыть, когда думаешь головой, но если больна голова, то забыть о ней невозможно, вчера голова была ясная, и я рассказывал о дворе, я был уверен в его существовании, из двух суждений – на больную голову и здоровую – предпочтение отдаем второму, оно было высказано первым, сделай усилие, перестань топтаться на месте, реалистическая традиция – а я ведь работаю в реалистической традиции – требует обстоятельно описать двор и дом, место действия, неизвестно еще, какого, но сегодня не то настроение, трудно сосредоточить внимание на физических деталях, вообще, на физическом, больная голова физическому проходу не дает, здесь обыгрывается поговорка, только и всего, в таком состоянии, конечно, лучше молчать, но замолчать невозможно, про это, кажется, уже говорилось, а если нет, то подразумевалось, итак, дом, серый, с растрескавшейся штукатуркой, вид снизу, облака задевают крышу, взгляд лилипута, это дом, где живет Гулливер, а это пожарная лестница, ведущая к облакам, по ней Гулливер иногда забирается на крышу, любитель острых ощущений, примерно тридцать перекладин, и последний шаг – с лестницы на крышу, покатую со всех четырех сторон, как он на ней держится, может быть, там есть ограждения, лилипут с завистью смотрит на Гулливера, так близко к облакам и звездам, но Гулливеру не до звезд, он забрался туда днем, каковы же его мотивы, он видит другие дворы и другие крыши, но он не чувствует, что вознесся над городом, над городом он летает во снах, и никогда не падает, чудесное ощущение взлета, такие сны снятся тем, кто растет, неужели Гулливер хочет перерасти самого себя? это было бы неосмотрительно, потолки сделаются ниже, двор меньше, и до крыши будет рукой подать, прощай крыша, прощай, лестница в небо, прощайте, полеты над городом, Гулливеру предстоят опасные путешествия по морю и по суше, об этом можно догадаться, подсмотрев, как он играет во дворе, и просмотрев книги в его библиотеке, разумеется. у него большая библиотека, стеллажи до потолка, забитые книгами о приключениях, книг так много, что можно не выходить во двор, не нужно ничего придумывать, никаких игр, никаких приключений, достаточно тех, что происходят в книгах, но он еще не утратил способности различать вымысел и реальность, как утратил ее я, да, я тут, рядом с ним, Гулливером, нас двое, может быть, я и есть тот лилипут, я пишу биографию Гулливера, который стал лилипутом, любопытно, как ему это удалось.
ЧЕМ ЗАМЕЧАТЕЛЕН ЧЕРДАК
достанет ли у меня терпения быть последовательным, это великий труд, мысли обычно передвигаются прыжками, человек мыслит ассоциативно, геометрия как принуждение к последовательности, роман в геометрическом стиле, вот значит как, это роман, пусть бездоказательный, но последовательный, все по порядку, ничего не пропуская, в надежде, что эта последовательность (вместе с обстоятельностью) куда-нибудь приведет, так обычно бывает: идешь-идешь и куда-то приходишь, пока эта последовательность увела меня недалеко, мы все еще на крыше, я и Гулливер, я рассказываю о Гулливере, я его биограф, рождение Гулливера не сопровождалось знамениями, а его детство прошло в доме о трех этажах, уверен ли я в этой цифре, может быть, там было всего два этажа или девять, как биограф я отвечаю за все приведенные цифры, отвечаю перед кем, кто упрекнет меня в неточности, да и вообще, кто знал Гулливера, кроме меня, его не знали даже те, кто жил рядом с ним, он умел прятаться, как зародилась в нем эта скрытность, вот это я и собирался узнать, приступая к жизнеописанию, далеко пока не продвинулся, я все еще на крыше, отсюда есть два пути: вниз по лестнице на тротуар и через окно на чердак, так значит, под крышей находился чердак, чем же он был замечателен, решение быть обстоятельным, означает ли оно, что я могу описывать и незамечательное? если да, то отвечаю: ничем, а если нет, то вот, пожалуйста: чердак был просторный, темный и пустой, в нем не было ничего, кроме столбов и перекладин, пол был посыпан керамзитом, чем не адское место, подходящее для того, чтобы повеситься или вывесить белье, кому как нравится, назначение предметов и обстоятельств определяется нашим выбором, аксиома, Гулливер часто сопровождал на чердак соседку с тазом, полным выстиранного белья, она боялась подниматься туда одна, когда-то ей довелось увидеть на чердаке повешенного, то есть повесившегося, это был другой чердак, но ассоциативное мышление переносило самоубийцу сюда и не позволяло ей избавиться от страха, который понемногу передавался и Гулливеру, так что он иногда заставлял себя подниматься на чердак в одиночку и обходить все углы, но, даже совершив этот обход, он пятился к двери спиной, опасливо глядя в темноту, кромсая ее фонариком, и, запирая дверь снаружи, почему-то ожидал что изнутри кто-то ее сейчас толкнет, так он воспитывал в себе мужество путешественника, на чердаке и в бомбоубежище, о котором еще не было сказано ничего, не по упущению, а из желания вести рассказ последовательно, пока, констатирую с удовлетворением, мне это удается, я только что спустился с чердака, вслед за Гулливером, неужели он не может придумать для себя какого-то более серьезного занятия, чем слоняться по чердаку, он любит острые ощущения, в сердце его стучит жажда жизни, сердце его выстукивает: «жажду жизни», понятно ли сказано, острые ощущения – это то, что отличает жизнь от не-жизни, много ли в вашей жизни острых ощущений, каков процент адреналина в вашей крови, может быть, ваша кровь уже похожа на минеральную воду, а бывает и хуже, ему ли это не знать, капитану Сорви-голова, исследователю ледников и пустынь, вверх по лестнице, ведущей на крышу, и вниз по той, что ведет в бомбоубежище, там, внизу, располагался Штаб гражданской обороны, бомбоубежище предназначалось не для жителей дома, а для работников Штаба, отсюда они должны были руководить спасательными работами, пока убежище строилось, можно было гулять по его коридорам, и потом, когда все уже было покрашено и оштукатурено, дверь еще долго не запиралась, а ведь это был секретный объект, тайна чердака и тайна убежища, жизнь была полна тайн, и он надеялся их все раскрыть, для этого и поднимался на чердак и спускался в бомбоубежище, и смотрел в бинокль на Луну, уверенный, что она обитаема, а если не Луна, то Марс или какая-нибудь другая планета в соседней галактике, вселенная была полна тайн, и она была огромной, даже для Гулливера.
БУНКЕР
удачной была эта выдумка с Гулливером, я смотрю на него снизу вверх, но его рост меня не подавляет, я чувствую к нему расположение, он ко мне ничего не чувствует, потому что меня не знает, ему ничего обо мне не известно, а много ли я знаю о нем? только то, что он часто забирался на чердак и спускался в бомбоубежище, он живет в ожидании ядерной войны, ничего подобного, он о ней и не вспоминает, хотя знает все поражающие факторы атомного взрыва, при этом никакой тревоги, мир надежен и прочен, железный занавес, и другой, из синего бархата, мы живем в странном мире , что там, за шторами, Гулливер так же наивен, как герой этого фильма, никогда не сталкивался с насилием, кроме домашних наказаний, описать методы воспитания, принятые в семье, как его отучали лгать, мастурбировать, секс и Гулливер, почему в романе Дефо ничего не сказано о сексуальной жизни Гулливера, как он удовлетворял себя на своем острове, вырезал из дерева женские фигурки, первобытных венер, или изображал их на песке и онанировал, глядя на эти изображения, а может быть, он предавался эротическим грезам, как же он обрадовался, когда появился Пятница, его скрытый гомосексуализм пробудился, в отсутствие женщины все партнеры хороши, включая козу, верная спутница человека, двое мужчин на острове, прекрасная тема, Пятница привез с собой какую-то травку, и вот они курят, занимаются любовью, их двое, никакой ревности, каждый полностью принадлежит другому, наверняка уже сняли по такому сюжету фильм, но однажды на берегу появляется женщина в бикини, девушка Джеймса Бонда, сам Бонд задержался, он прибудет на остров позднее, девушку зовут Марион, ее косами можно запрячь быка, на поясе у нее большой нож, Гулливер сразу влюбляется в Марион, Пятница ревнует, Марион не подозревает, что между Гулливером и Пятницей есть какие-то отношения, те самые, Пятница готовит месть, он собирается убить Марион, потом убить Гулливера и самого себя, таков его план, но тут появляется Бонд, он забирает девушку с собой, в Лондон, от греха подальше, на острове снова воцаряется мир, нет, только видимость мира, Гулливера мучают воспоминания о прекрасной девушке с ножом у пояса, продолжение следует, неудивительно, что Флеминг писал по роману в неделю, или Гарднер, писательское ремесло не такое уж трудное, но только как ремесло, повторять: я ремесленник, я тружусь на поприще литературы, убрать поприще, занимаюсь литературой, зарабатываю пером на жизнь, убрать перо, и то, что зарабатываю, тоже, ничего не зарабатываю, мое дело – рассказать о Гулливере, с мастурбацией мы уже покончили, о его интересе к девчонкам – позже, методы воспитания, мать воспитывала в нем любовь к учению и английскому языку, отец – любовь к программированию, мать проводила больше времени с ребенком, чем отец, который предпочитал играть с ним в компьютерные игры, к этому сводилось его воспитание, унылая жизнь профессионалов с достатком чуть выше среднего, лучше уж расти в семье лесоруба, есть шанс, что ты окажешься подкидышем, звездным мальчиком, но какой король подкинет своего ребенка программисту и преподавательнице английского языка? и все же он вырос Гулливером, превосходя ростом и мать, и отца, и своих одноклассников, предстоит еще рассказать о школе, ничего не поделаешь, обстоятельность и еще раз обстоятельность, держаться выбранного курса, не менять коней на переправе, не отказываться от принятых обязательств, сохранять верность, проявлять выдержку и упорство, тихой сапой, как будто строишь бомбоубежище, это будет моим бункером, там, наверху, свистят пули, рвутся снаряды, а здесь тихо и хорошо, запасов вдоволь, вот для чего нужна обстоятельность – чтобы набрать побольше запасов, всякой снеди, напитков, не забыть о книгах, у Гулливера была своя библиотека, она была частью общей библиотеки, которую собирали отец и мать, отец предпочитал читать бумажные книги, ему и так приходилось много смотреть на экран, и читал он все меньше и меньше, да и мать почти не читала, у тех, кто работает, нет времени на чтение, перелистывать страницы – занятие для бездельников, таких, как Гулливер.
ПЕЧАТЬ ВРЕМЕНИ
между путешествиями на чердак и в подвал он читал приключенческие романы, а также онанировал, не забудем о мастурбации, печать, штрих-код современности и все такое, написано в начале двадцать первого века, Гулливер же, как догадался внимательный читатель, родился во второй половине двадцатого, к черту читателя, даже внимательного, достаточно одного Гулливера, подробности его сексуальной жизни, это интереснее, чем жизнь на других планетах, жизнь в других галактиках, все эти радиотелескопы, марсоходы, кто ими интересуется? он изливал свое подростковое семя в подогретый грейпфрут, сим удостоверяется, других подтверждений, думаю, не потребуется, хотелось бы верить, но верится с трудом, дыхание времени должно ощущаться постоянно, употребляет ли время «орбит»? похоже, что нет, как и мятные таблетки, аэрозоли, сатирик сказал бы, что времени наплевать на гигиену, что у него хронический галитоз, но сатире в этом повествовании не место, в сатирическом рассказе любой персонаж делается сатирическим, а по отношению к Гулливеру этого допустить нельзя.
ИНЫЕ МИРЫ
это еще утомительнее, чем я думал, двигаться последовательно, ничего не пропуская, начиная с раннего возраста, так хочется перепрыгнуть сразу к молодости, зрелости, но прыжки запрещены, да и неизвестно еще, достиг ли он молодости, тем более зрелости, не каждому удается, молодость и зрелость не гарантированы, даже юность, некоторые умирают в младенчестве, везет им или нет, как посмотреть, младенцы не строят никаких планов, они живут настоящим, но юноши представляют себя молодыми и зрелыми, решают, чем они будут заниматься, когда вырастут, и приглушают страх смерти мыслью о зрелых годах, которые в юности трудно представить, и которые поэтому кажутся очень далекими, увы, я умру, но прежде буду работать, у меня будут жена и дети, это что-то невероятное, трудно представить, туман, который скрывает за собой неизбежный конец, когда еще не знаешь, чем будешь заниматься в зрелые годы, и не достиг еще возраста, когда можно заполучить жену, те, кто ведет свободную жизнь, отказываются от супружества и семьи, даже мысленно, лишаются этого успокоительного, они должны жить в непрестанной тревоге, с мыслью о неизбежной старости, но может быть, все наоборот: им кажется, что брак, семья, дети приближают старость, а с ней и смерть, и потому предпочитают вести жизнь холостяков, мотивы человеческого поведения чрезвычайно запутаны, хорошо, что мне не нужно разбираться в людях, я занимаюсь одним, и уж этого одного опишу подробно, чего бы мне это ни стоило, сохраняя последовательность, как же иначе, если неизвестно, какого возраста он достиг, и жив ли он вообще, трудное предприятие, каждый раз испытываешь сомнение: удастся ли продвинуться хотя бы на шаг, я двигаюсь короткими перебежками, мелкими шагами, со стороны незаметно, кажется, что ничего не происходит, повествование не движется, но это результат моего мастерства, когда работаешь тихой сапой, очень важно, чтобы со стороны ничего нельзя было разглядеть, противник замечает тебя, только когда ты подобрался к нему на расстояние вытянутой руки, чтобы схватить его за горло, большинство писателей предпочитают схватить читателя за горло сразу и потом играть с ним, как кошка с мышкой, но я подползаю змеей, чтобы проглотить, ах да, я забыл, что послал читателя к черту, подальше, откуда нет возврата, значит, цель выбранного метода не в том, чтобы заставить читателя скучать, притупить его бдительность, усыпить, в чем же, выяснится позднее, а теперь к делу, несколько раз уже я упоминал о книгах, библиотеке, теперь пришло время описать гулливерову библиотеку, подробно и обстоятельно, здесь я прервался, чтобы посмотреть, сколько страниц занимает описание донкихотовой библиотеки, семь (шестая глава первой книги), и мне пришло в голову, что этой любовью к чтению Гулливер был очень похож на Дон Кихота, да и чем были его вылазки на чердак, в бомбоубежище, как не выездами рыцаря в поисках приключений? и не так ли смешались в его уме вымысел и действительность? кажется, раньше я приписал ему отчетливое различение реальной жизни и вымышленной, не помню уж, почему, на каком основании, в тот раз, наверное, был повод, а в этот раз его нет, представления о мире у Гулливера были самые фантастические, потому что он читал одну лишь научную фантастику, эти фантастические романы играли во второй половине двадцатого века ту же роль, что рыцарские романы во времена Дон Кихота, и в каждой стране были малолетние книгочеи, свихнувшиеся на этом чтении, впрочем, я не знаю никого, кроме Гулливера, другие, да, почитывали, но смотрели на мир трезво, и если населяли его инопланетянами, то с разумной вероятностью, в то время эту вероятность считали весьма высокой, государства выделяли средства на поиски внеземных цивилизаций, летающие тарелки, послания из космоса, человечество жило в ожидании встречи с чужим разумом, какой она будет? одни верили в доброжелательность инопланетян, другие – в их злонамеренность, и были такие, кто считал, что инопланетному разуму нет до нас никакого дела, что он развивается по другим законам, и контакт между инопланетными цивилизациями невозможен, а между тем американские астронавты уже топтали лунную пыль, близилась эра межзвездных полетов, главная проблема была в том, чтобы объединить человечество, раздираемое классовыми противоречиями, но можно было обойтись и без такого объединения, частные корпорации создавали космические флотилии, основывали поселения на далеких планетах, добывали ценные ресурсы, везли их на Землю, приумножали свое могущество, воевали между собой, конфликтовали с правительством, космические детективы ловили преступников, заключенные инопланетных тюрем бунтовали, гражданские и тюремные мятежи усмирялись с помощью новейших технологий, затевались межгалактические войны, жизнь в космосе, можно сказать, бурлила, кипела, и Гулливер окунулся в эту жизнь с головой, он буквально потерял голову, принимая вымыслы фантастов за неотвратимое и близкое будущее и не всегда отличая их от реальности, он жил в фантастическом мире, в действительном мире его ничего не интересовало, и когда ему все же пришлось выбирать занятие, пролагать жизненный путь, он действовал ничуть не разумнее Дон Кихота, выбрав музыку, при полном отсутствии музыкальных способностей, он помешался на музыке так же, как помешался на фантастике, великие композиторы были для него такими же кумирами, как и великие фантасты, музыка тоже рассказывала об ином мире, и он готов был слушать этот рассказ день и ночь.
КОЕ-ЧТО О БИБЛИОТЕКЕ
он жил между подвалом и чердаком, между мраком и темнотой, между темнотой и мраком, и там, и там – мрак, населенный призраками, отсюда, наверное, его тревога, он не боялся ядерного удара, но знал все о Хиросиме, о температуре в эпицентре ядерного взрыва, взрывной волне, альфа и бета-излучениях, о Хиросиме он, конечно, знал не все, ты ничего не знаешь о Хиросиме, так говорится в каком-то фильме , но кое-что он все-таки знал, и пусть он не боялся ядерного удара со стороны Америки, он вообще не боялся Соединенных Штатов, нисколько, он интересовался Соединенными Штатами, там происходили интересные события, там всегда происходило что-то интересное: демонстрации, стычки, беспорядки, политические дебаты, президентские гонки, убийства политиков, борьба за права меньшинств, конкурсы красоты, апробация технических новинок, вручение «Оскара», скандалы со знаменитостями, а здесь интересное нужно было искать, интересного было мало, интересное приходилось выдумывать, обычная человеческая жажда интересного, любопытство свойственно детям, с возрастом угасает, и пусть он не боялся атомного взрыва, как боялись его персонажи «Поколения Х», неужели он читал эту книгу, почему бы и нет, малоправдоподобно, а я решил придерживаться фактов, самая достоверная автобиография из когда-либо написанных, все три «Исповеди» , по сравнению с жизнеописанием, которое я веду, – хорошая беллетристика и только, я отвечаю за каждый факт и не предполагаю читателя, это важно, те трое много думали о читателях, писали для читателей, как тут сохранить правдивость, верность истине, но я послал читателей к Ариману, всех, настоящих и будущих, поэтому у меня нет причин что-то придумывать, говорю о том, что было, и если я упоминаю «Поколение Х», значит, тому есть причины, иначе бы я об этой книге не упомянул, но следует ли отсюда, что он ее читал, что она была в его личной библиотеке или в той части общей библиотеки, которую собирала мать, она преподавала английский, и, вероятно, у нее была эта книга на английском, она приобрела ее еще до того, как появился русский перевод, Гулливер говорит и читает по-русски, он читает и говорит по-английски, но английский для него не родной язык, итак, он живет между тьмой и мраком, внизу – бомбоубежище и Штаб гражданской обороны на случай удара со стороны наиболее вероятного противника, наверху – чердак, усыпанный керамзитом (или черным шлаком), по которому проложены доски, столбы и перекладины, на них сушится белье – белые покрывала призраков, среди которых качается висельник, вот она, его жизненная и житейская ситуация, отсюда его тревога, пусть даже он не боялся Америки, но было и что-то отрадное в его жизни, кроме библиотеки, – двор, огороженный высоким забором, засаженный деревьями, кустами, цветами, треть двора была покрыта зелеными насаждениями, фраза канцелярская, но точная, и отделена от остальной части двора простой оградой, были и другие зеленые участки, поменьше, летом эта часть двора превращалась в сказочную страну, ни к чему перечислять породы кустов и деревьев, но там были сирень, бузина, береза, верба, может быть, жасмин и черемуха, два сиреневых куста охраняли узкий проход в клумбе, потаенное место, но были и другие, еще более потаенные, где всегда лежала тень, сырые, темные, чем-то родственные чердаку и подвалу, но все же это была страна радости и надежд, так тьма вверху и внизу уравновешивалась светом где-то сбоку, одно окно выходило на юг, на двор, и дерево, посаженное возле дома, поднималось до самого балкона, до веток можно было дотянуться рукой, поэтому Гулливер хорошо знал запах листьев, цветов и травы, он наблюдал ежегодные метаморфозы растений, и это давало ему ощущение жизни, чердак и подвал дышали смертью, если только смерть дышит, от них веяло мраком и холодом, а зелень во дворе дышала жизнью, так он и рос, встревоженный мраком, успокаиваемый светом, странные обороты, и ведь я собирался поговорить о библиотеке, а сказал только о «Поколении Х», к которому принадлежал и сам Гулливер, так что, может быть, воспоминание об этой книге не случайно, ни одна аллюзия, ни одна ассоциация не случайна, каждая выдает что-то скрытое, будто шум подземной реки, Гулливер пробовал читать и другие книги Коупленда, но ни одной не осилил, да, он принадлежал к поколению Х, но не к тем, на кого рассчитаны эти книги, они казались ему примитивными, но это была его личная проблема: с возрастом он все больше отдалялся от сверстников, и ему все реже попадались книги, рассчитанные на него.
ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ
о библиотеке кое-что сказано, но недостаточно, для чего недостаточно, для того, чтобы удовлетворить требованию обстоятельности, выдвинутому неизвестно кем и обращенному ко мне, может быть, я сам его и выдвинул, сам себе его предъявил, не помню, зачем, чтобы добраться до места, какого-то места, чтобы найти объяснение, чтобы раскрыть, показать, в общем, для чего-то такого, относительно чего я не был уверен, что оно случится, если я не буду следовать этому принципу, есть еще принцип последовательности, но хватит о них, библиотека была велика, но, естественно, в ней кое-чего не хватало, например, собрания сочинений Жюль Верна, хорошая тема, не то чтобы я до сих пор перечитывал Жюль Верна, но поговорить о его романах приятно, вернее, о том, как их читал Гулливер, он, конечно, совпадает со мной, но каким-то странным образом, отдалившись на много лет, парадокс автобиографии, я пишу автобиографию, я пишу о себе, это все обо мне, даже если о Гулливере, документальная проза, каждое слово – правда, относительно Жюль Верна правда состоит в том, что в библиотеке Гулливера не было ни одного жюльверновского романа, так получилось, но, по счастью, двенадцать томов этого писателя имелись в библиотеке соседей, да, у Гулливера были соседи, и вообще в доме было два подъезда и шестнадцать квартир, за цифры ручаюсь, можете мне доверять, прирожденный документалист, в возрасте около десяти лет Гулливер повадился ходить к соседям, чтобы взять у них какой-нибудь том Жюль Верна, сочинявшего фантастические романы, к сведению тех, кто, словом, он прочел все двенадцать томов, а потом начал их перечитывать, и так продолжалось долго, пока он не получил все тома в подарок на день рождения, наверное, мать, заметив его любовь к Жюль Верну, выкупила собрание сочинений у соседей, а может быть, это сделал отец, может быть, конечно, соседи подарили собрание, так или иначе, оно оказалось в книжному шкафу, где заняло половину полки, и теперь он мог выбирать любой том, а если хотел, читать сразу два или три романа, но это ему не приходило в голову, он удивился, когда услышал от знакомого паренька, что тот читает сразу несколько книг, это было невероятно, невозможно путешествовать одновременно по трем континентам, взбираться на горы, плыть по морю и лететь по воздуху, позднее, однако, он тоже приобрел привычку читать несколько книг, позднее он вообще перестал быть Гулливером, а стал лилипутом, у лилипутов совсем другие привычки, но тогда он еще был Гулливером и всегда читал только один роман, погружаясь в него с головой, так говорят: погрузиться с головой, это значит, что ноги, тулово, руки уже там, и осталось только окунуть голову, вот это он и проделывал, подобно благородному идальго, о котором уже было сказано, много чего было сказано, идальго после такого прыжка в романные воды повредился головой, стукнулся о корягу, неудачный прыжок, и вынырнул совсем другим человеком, если вынырнул, похоже, он стал амфибией и предпочитал жить под водой, примерно то же самое случилось и с Гулливером, Жюль Верн охотно описывал приключения на море, вода была его излюбленной стихией, хотя сам он, возможно, всю жизнь провел в Париже, или в каком-то из его пригородов, Гулливер не интересовался биографией Жюль Верна, его вообще не интересовали биографии писателей и композиторов, только их произведения, и если я пишу автобиографию, то потому, что не создал никаких других произведений, если бы я мог писать романы или сочинять симфонии, я бы, конечно, только этим и занимался, но обстоятельства бывают сильнее человека, что бы там ни говорили моралисты, поэтому я пишу документальную прозу, стараюсь как могу, большего от меня требовать никто не вправе, никто и не требует, но заявить такое всегда уместно, какие же романы Гулливер перечитывал чаще всего, и какие герои возбуждали в нем наибольшую симпатию, об этом нужно рассказать обстоятельно, подробно, и я это сделаю с большим удовольствием, приятно поговорить о себе, совместить приятное с полезным, то есть принципиальным, майор Мак-Наббс и сэр Филеас Фогг – вот кто были его герои, шотландец и англичанин, но это не было связано с его занятиями английским, дело в том, что оба персонажа отличались редкой немногословностью, они говорили мало и только по делу, они не нуждались в общении, они были самодостаточны, как снежные горы, и ему хотелось походить на них, жить в уединении, холодным и самодостаточным, снежной горой, айсбергом, но как возникло в нем такое стремление, такой эгоистический идеал, ясное дело, не из литературы, образ молчаливого снежного человека сформировался в нем независимо от прочитанного, чтение романов лишь сделало его более отчетливым, я сбиваюсь, не стоит подменять изложение фактов исследованием, никаких гипотез, констатирую: ему нравились молчаливые персонажи – Мак-Наббс, Филеас Фогг, а если прибавить и героев Дюма, то граф де ла Фер, по этой же причине, наверное, он любил больше кошек, чем собак, иногда он давал себе обещание не говорить целый день, за исключением часов, проведенных в школе, да и там – только если его позовут к доске.
КРАТКИЙ ЭКСКУРС В АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ИСТОРИЮ
какая жалость, что детство его пришлось на время «Звездных войн», если бы он родился позже, то мог бы вырасти на «поттериане», и тогда, конечно, его любимым героем стал бы Северус Снейп, такой же холодный и молчаливый, как жюльверновские герои, и с лицом, будто вырезанным резцом, невольная рифма, и с этим очаровывающим баритоном, покоряющим, подчиняющим, он повесил бы в своей комнате постер с изображением профессора, он вырезал бы себе палочку из камерунского эбена, заплатив за эту ветку свои полугодовые сбережения, он выучил бы наизусть все реплики Снейпа, сшил бы себе черный плащ, пытался бы отрастить длинные волосы, поменяв нормальный русый цвет на иссиня-черный, но тут, конечно, вмешалась бы мать, и он почувствовал бы ненависть к матери, вставшей на пути его самосовершенствования, высшей целью жизни было бы для него сделаться похожим на Снейпа, стать таким же сдержанным, молчаливым, суровым, решительным, он подражал бы его походке, жестам, голосу, да, он сильно переживал бы из-за тембра своего голоса, так непохожего на голос Алана Рикмана, в который (чего он не знал) влюбляются женщины всего мира, но жизнь его сложилась иначе, и хотя он был увлечен фантастикой, можно сказать, помешан на ней, трилогия Лукаса оставила его равнодушным, в ней не было ничего героического, больше комизма, чем героики, все это было рассчитано на простаков-тинейджеров, а «поттериана»? каков средний возраст фанов этого сериала? если вы задаете такой вопрос, значит вы не входите в круг читателей этого текста, того, который пишу я, у него вообще нет читателей, все читатели сосланы в самые дальние круги, безвозвратно, на этом заканчивается отступление, краткий экскурс в альтернативную историю, но если уж речь зашла о фильмах, можно добавить, что «Чужой» произвел на него сильное впечатление, оборот так себе, клише, чтобы сохранить темп, фантазия Гигера создала образы, вышедшие как бы из мрака подвала и чердака, он пристрастился к триллерам, чему опять же пыталась помешать мать, отец из равнодушия потакал всем его увлечениям, я заговорил языком «Зеленого Генриха», последнее добавление: «Зеленого Генриха» он не читал и даже не слышал об этой книге до взрослых лет, я умышленно заменил «зрелых» на «взрослых», со временем он опустился так, что стал читать все подряд: «Зеленого Генриха», «Женщину в белом», «Черного принца», раньше он был разборчивее и читал только те книги, в которых, которые, но потом принялся читать и по другим причинам, да и вообще без причин, по привычке, число прочитанных книг росло, а сам он делался все меньше и меньше, пока не стал лилипутом, такова история Гулливера, начатая, но еще незавершенная, все это о его детстве и отрочестве, последовательно и обстоятельно, как было решено в начале (вначале), главное в таком предприятии – держаться одной манеры и не перечитывать написанное, тогда есть шанс довести историю до конца.
ДОБРОВОЛЬНАЯ БЕДНОСТЬ И ВОИНСКИЙ ДОЛГ
это его стремление к самодостаточности выражалось еще и в другом – в интересе к сюжетам, где героям приходилось бороться за выживание, ограничивая себя самым необходимым, точнее, они уже были ограничены, мало воды, мало еды, посреди пустыни, посреди океана, таинственный остров, «Ченслер», плот «Медузы», голодающие на плоту, распределение скудных запасов, все потребности сведены к минимуму, то есть средства для удовлетворения потребностей сведены к минимуму, стойкость и жажда жизни, жажда жизни тут ни при чем, ему нравилась независимость от мира, умение обходиться малым, вот к чему он стремился, он связывал счастье с бедностью, ничего лишнего, так ты освобождаешься от мира, становишься независимым, растягивая малые ресурсы на долгий срок, например, кофе, полковник открыл жестяную банку и обнаружил, что кофе осталось не больше чайной ложечки , но ему хватило и ложечки, у него было смутное ощущение, что избыток таит в себе опасность, что он отчуждает человека от самого себя, остаться верным самому себе можно только в бедности, так, наверное, считал и граф Толстой, но о графе Толстом он знал мало, и хотя слышал кое-что о его поздних убеждениях, как-то не связывал их с собственными убеждениями, а у него были убеждения, теперь это ясно, не просто мнения, а установившиеся взгляды на жизнь, потому что позднее он регулярно, систематически избегал всякой возможности добиться успеха, получить хорошо оплачиваемую работу, разбогатеть, все это казалось ему ловушками, он был прирожденный дауншифтер, с той только разницей, что спускаться ему было не нужно – он просто отказывался подниматься, хотя здесь нужны уточнения, усилия родителей не пропали даром (для них), мать получила должность преподавателя в институте и со временем стала доцентом, а отец устроился сисадмином в крупную фирму, семья переехала в другую квартиру, просторнее, прощай подвал, чердак, двор, другой район, новый дом, квартира на втором этаже, ему пришлось сменить школу, никаких проблем, он ладил с другими, несмотря на свои убеждения, никто с ним не задирался, ничего похожего на обычные школьные истории, никакого буллинга, рассказать можно только о девочках, но о них позднее, дойдет дело и до них, обстоятельность и последовательность, молчаливый полковник, обходящийся одной ложкой кофе в день – вот каким он себя представлял, правда, кофе он в том возрасте еще не пил, предпочитал кока-колу, тогда этот напиток изготавливался еще по оригинальному рецепту, он вообще любил сладкое, особенно мороженое, которое ел только летом, из-за частых простуд, тема здоровья, как я и предполагал, ничего не нужно решать заранее, все придет само, появится в нужное время, или раньше, и тогда тему можно отложить, повременить, такова тема здоровья, или история его болезней, пусть она подождет, я еще не закончил с темой бедности, ему нравились истории о тех, кто скатывается «на дно», например, история Герствуда , как будто «на дне» человек наконец обретает самого себя, на месте Герствуда он бы не застрелился, не помню, как покончил с собой этот персонаж, он жил бы в нищей каморке, работал за грошовые деньги, а по вечерам поджидал бы свою возлюбленную, чтобы взглянуть на нее, рыцарь Тогенбург в убогой келье, он понимал этого рыцаря, Тогенбург вызывал у него сочувствие, родственная душа, и тут возникает тема влюбленности, ей пока тоже придется ждать, приемная полна посетителей, вот что значит выбрать правильную манеру, он симпатизировал и беднякам из рассказов О. Генри, ставил себя на их место, а вот представить себя состоятельным человеком, с положением в обществе, ему было трудно, никогда он себя таким человеком не представлял, скорее уж лейтенантом из немецкого вестерна , раненный в ногу, хромая, под градом стрел, он пробирается к бочке с порохом, чтобы ее взорвать вместе с фортом, осаждаемом индейцами, и погибнуть самому, долг офицера, стремящегося как можно лучше исполнить приказ, в ошибочности которого он уверен, это он тоже понимал, молчаливый полковник, подкрепившись чашкой с жидким кофе, ведет свой отряд в бой, зная, что генерал ошибся, приказ невозможно исполнить, половина отряда будет потеряна, и атака провалится, но он делает все, чтобы атака удалась, вот с такими представлениями он жил, и неясно, как они у него сформировались, хорошо, что я заранее отказался от попыток истолкования, ограничился изложением фактов, хороший документалист, биограф чем-то напоминает отважного офицера, гипотезы создают в тиши кабинетов, а факты добывают на фронте, с оружием в руках, последовательно, не спеша я перехожу от факта к факту, ничего не упуская, бесстрашно глядя фактам в лицо, думаю, мне полагается медаль за отвагу и терпение, но к черту медали, к черту читателей и наградные комиссии, исполним свой долг, кофе у меня побольше, чем у полковника, в стойкости я его, конечно, не превосхожу, но и не уступаю ему, надеюсь, ход истории подтвердит сказанное.
СТРАННОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
прежде чем говорить о девочках, нужно сказать о музыке, музыка началась раньше, время невинности, потом появились девочки, и все кончилось, многое кончилось, но пока девочки далеко, о них ни слуху, ни духу, нет, они близко, они уже здесь, боюсь смотреть фактам в лицо, посмотрю позже, а сейчас о музыке, как получилось, что он увлекся классической музыкой и презирал музыку эстрадную, необъяснимо, из всех фактов, которые приводятся здесь без объяснений, этот, пожалуй, самый необъяснимый, точнее сказать, не поддающийся объяснению, непостижимый, в его окружении не было никого, кто мог бы пробудить в нем такую любовь, говорю языком «Исповеди», здесь начинаются признания одинокого мечтателя, сделанные им во время долгих прогулок , следовало бы перечитать эту книгу, найдется, наверное, много сходного, а еще Вакенродер, примечательная жизнь одного музыканта, композитора , как его звали, но не стоит придираться к языку, доверие и еще раз доверие, все является в надлежащее время и выражает себя наиболее подходящими оборотами, проще всего предположить, что он познакомился с классической музыкой через телевидение, можно ли так сказать, снова вопросы, а ведь я решил доверять, как легко утрачивается доверие, может быть, он посмотрел исполнение Девятой по телевизору, дирижировал, наверное, фон Караян, представим себе этот благородный профиль, эти изящные руки, эти закрытые глаза, и большой оркестр, и драматические звуки струнных и духовых, крещендо и диминуэндо, а может быть, это был пианист, исполнявший этюд Листа или Шопена, как странно звучат эти имена, что-то было в нем странное, склонившее его полюбить классику в то время, когда обычные подростки слушали Aerosmith, AC/DC, Kiss, ABBA, может быть, он был еще слишком мал, чтобы увлекаться такой музыкой, ведь это было время невинности, да, но неясно, почему ему нравилась классика, необъяснимый факт, упомянув о котором, я могу двигаться дальше, и не просто упомянув, а сделав началом длинного эпизода, потому что рассказ о музыке займет не один вечер, я ведь пишу по вечерам, так я себе это представляю, когда думаю о том, как я пишу, просторный кабинет, обставленный книжными шкафами, лампа, черный кот на диване, и я за столом, с авторучкой, то есть ноутбуком, так я себе это представляю, звучит Шопен или Малер, точь-в-точь как у Буковски, можно ли считать похвалой Малеру то, что под его музыку Буковски писал рассказы, был бы Малер этому рад, что бы он сказал Буковски при встрече, любопытно вообразить встречу двух знаменитостей, причем Буковски знаменит больше, чем Малер, или, например, Мендельсон, не говоря уж о Телемане и Букстехуде, Гулливеру нравилась музыка Малера, но полюбил он ее позднее, когда начал интересоваться девочками, когда воспламененная кровь наполнила его мозг эротическими образами , и он начал искать спасения в Малере, как и Буковски, хотя спасались они от разного, закипев, мозг долго не остывает, шумит, ему нужно дать передышку, пусть остынет, а пока можно почитать Буковски, послушать Шопена, причем можно делать то и другое одновременно.
СЛУШАТЬ, ЗАБЫВАЯСЬ
кажется, в прошлый раз я говорил что-то о музыке, о любви Гулливера к музыке, о его странной любви к классической музыке, он был одинокий мечтатель, романтик, и полюбил романтическую музыку, что же тут удивительного, ничего, кроме слов «романтик», «романтический», эти слова непонятны, их значения давно утеряны, еще до рождения Гулливера, как можно называть его романтиком, если это слово кануло в Лету, так говорят, можно ли пользоваться словами, утонувшими в летейских водах, оставим без объяснений, мы и раньше так поступали, в трудных ситуациях я предпочитаю говорить «мы», прибавляет уверенности, будто ты не один, и если у тебя не получится, другой поможет, подскажет, перечисление любимых композиторов и произведений ничего не даст, я это знаю, важнее сказать о том, как он слушал и что при этом испытывал, переходя сразу к делу, это нам свойственно, без подготовки, без примеривания, как тигр на лань, или кошка на мышку, из-за холма, из-за куста, переходя к делу, слушая музыку, он научился забывать о самом себе, искусство, которое постигают немногие, он представлял произведение каким-то особым миром, пространством, куда можно переселиться, если сосредоточишься, словом, он научился сосредоточенно следить за развитием музыки, удерживая в памяти отзвучавшее, сравнивая его с тем, что звучало в данный момент, а если произведение было уже знакомым, то и с тем, что еще прозвучит, он как бы растворялся в музыке, забывал о своем теле и своем «я», иногда для этого приходилось слушать произведение по нескольку раз, как на соревнованиях по прыжкам, пять попыток, когда попытка удавалось, он чувствовал необычайное успокоение, будто подышал озоном, верно ли такое сравнение, может быть, озон действует как веселящий газ, говорят, после грозы дышится легко, потому что в воздухе много озона, исходя из этого, я забыл о доверии, и в который раз, вероятно, такое успокаивающее действие оказывает любое отрешенное созерцание, когда индивид забывает о всем субъективном, растворяется в объекте, квиетизм воли, вот что производит такое замечательное действие, вот что переживается с таким удовлетворением, противоположно веселью и радости, понять может только тот, кто читал Шопенгауэра, Гулливер его не читал, но чувствовал именно так, он воспринимал музыку по Шопенгауэру, и нет ли в этом сходства с его стремлением к бедности и молчанию, то и другое указывает на одно – желание успокоить волю, желание избавиться от всех желаний, поистине, он был последователем Шопенгауэра, не догадываясь об этом, признаюсь, я испытываю удовлетворение от этого маленького открытия, как ловко тут все сошлось, иногда удаются и объяснения, будем надеяться, что оно правильное, итак, он рано научился отрицанию воли, отрешенности, бескорыстному видению, слушанию, и это доставляло ему такое счастье, по сравнению с которым все земные блага, кроме одного, но каким образом ему это удавалось, что этому способствовало, ведь у него не было учителей, никаких йогов, он ничего не слышал о медитации, но достигал примерно того же эффекта, слушая музыку, даже если это был «Революционный этюд» Шопена, или что-то другое, столь же бурное, по этому поводу Шопенгауэр сказал немало толковых слов, их здесь незачем повторять, напомню только, правда, здесь нет никого, кому я мог бы что-то напоминать, что Шопенгауэр любил музыку и сам неплохо играл на флейте, по части эстетических суждений ему можно доверять, снова о доверии, но в другом смысле, о музыке сказано достаточно, не упущено ничего существенного, так ли, ведь он не только слушал музыку, он еще и учился музыке, большая ошибка, его собственный выбор, никто не принуждал, как это бывает с другими, сам напросился, и получил по заслугам, по их отсутствию, так точнее, восприятие, исполнение и творчество требуют различных способностей, он понял это не сразу, тут еще примешалась его вера в то, что упорство всегда вознаграждается, если оно исключительное, редкостное упорство, да, он верил, что проявляя такое упорство достигнет многого в любом деле, за которое возьмется, любовь и труд все перетрут, об этом стоит поговорить, многое открывается в его детских годах, зато потом будет проще, в детстве человек собирает, наживает богатство, и всю оставшуюся жизнь его проматывает, так говорил Шопенгауэр, так он сказал бы, если бы его спросили, может быть, он и в самом деле что-то такое сказал, он был многословен в своих писаниях и написал бы еще больше, если бы не презирал современников, он обращался к читателям будущего, а это не такой сильный повод, я чувствую по себе, мне то и дело хочется замолчать, но мысль о Шопенгауэре меня подбадривает, таких ободряющих предметов для мысли осталось совсем немного, и сочинения Шопенгауэра – один из них.
КТО ЛЮБИТ ТЕЛЕМАНА?
любовь к музыке усилила его изоляцию, сделала ее полной, довела до завершения, если хотите оказаться в изоляции, полюбите Бетховена, Малера, Телемана, если вы полюбите Телемана, одиночество вам гарантировано, вам никогда не найти другого любителя Телемана, вам не с кем будет поговорить о Телемане, вы будете говорить о нем сами с собой, произносить длинные речи, вести споры, споры о Телемане, это так увлекательно, но достаточно полюбить и Бетховена, потому что, уверяю, никто не будет любить Бетховена так, как вы, если кто-то и будет его любить, то иначе, и вы с ним никогда не сойдетесь во мнениях, ему будет нравиться у Бетховена одно, а вам – другое, и постепенно вы убедитесь, что лучше вообще с ним о Бетховене не говорить, такова сила музыки, она приводит к полной изоляции, возводит вокруг неприступные стены, не для того ли Гулливер и попробовал учиться музыке, чтобы разрушить эти стены? нет, не поэтому, если бы он мог научиться играть самостоятельно, он бы так и сделал, ему не нужны были учителя, слушатели, коллеги, ему достаточно было самой музыки, он согласился бы жить Робинзоном, если бы на остров доставили рояль, он играл бы на берегу сонаты Бетховена рыбам, птицам и диким зверям, и волнам, словом, ему хватало бы слушателей и без людей, он играл бы для самого себя, но и это верно лишь отчасти, он играл бы для того, чтобы слиться с музыкой еще полнее, чем когда ее слушал, это было его главным заблуждением – думать, что исполнитель сливается с музыкой больше, чем слушатель, если бы он так не думал, то никогда не начал бы учиться игре на рояле, но никто его не предупредил, никто не объяснил ему, что исполнитель относится к музыке по-другому, чем слушатель, никому и в голову не пришло ему это объяснять, а он не спрашивал, он был уверен, что и так все знает, вот почему Гулливер потратил столько сил на то, чтобы научиться посредственно играть на рояле, даже осознав, что ему не хватает способностей, он продолжал многочасовые упражнения, надеясь, что исключительное упорство возместит природный недостаток, этого, конечно, не произошло, и он забросил гаммы, продолжая, однако, любить музыку, он любил ее еще сильнее, чем прежде, музыка была его спасением, она была его наказанием и одновременно его спасением, чтобы объяснить этот парадокс, нужно дополнительное время, времени у меня достаточно, а вот желания объяснять я не нахожу, время для этой темы, видимо, еще не пришло, я только принимаю посетителей, по порядку, я не устанавливаю очереди, они там договариваются между собой, и сейчас, похоже, заняты именно этим, ни стука, ни звонка, никто не рвется ко мне на прием, чтобы рассказать свою историю, ага, значит, я психоаналитик, да нет же, я репортер, документалист, и тот, и другой собирают истории, выслушивают и записывают, психоаналитики добавляют интерпретации, а от репортеров этого не требуется, гораздо проще, но и спрос больше – за достоверность изложенных фактов, перейдем к фактам, несоответствие его способностей избранному им делу проявилось в телесном недомогании, поговорим о болезнях и их значении в человеческой жизни, это значение велико, есть кое-что и поважнее, но болезни важны, сумею ли я раскрыть эту тему, изложить ее обстоятельно, как того требуют принципы, хватит ли у меня духу описать страдания, которые, к счастью, теперь позади, и хватит ли сочувствия, ведь здоровый больному не товарищ, они живут в разных мирах, говорят на разных языках, включая врачей, может быть, я уже забыл тот язык, как забыл многое из того, что происходило с Гулливером, похоже, я многое переврал, так мне теперь кажется, на всякий случай отказываюсь от звания «Журналист года» и премии за лучший репортаж, может быть, я поправлю дело, если толково напишу о болезни, но в другой раз, сегодня я для этого слишком здоров, хотя неизвестно, какое состояние подходит больше, все сомнительно, мы ничего не знаем наверняка, и даже наши предположения малоправдоподобны.
В ОЖИДАНИИ РАССКАЗА
вместо того, чтобы говорить о болезнях, не поговорить ли лучше о девчонках, нет, девчонки потом, принцип последовательности, данные мне скрижали, я их еще не разбил, значит ли это, что я доволен тем, как складывается эта история, да, еще не было повода усомниться, разочароваться, то есть повод, может, и был, но я его не заметил, и потому двигаюсь дальше, к болезням, минуя тему любви, скорее, влюбленности, оставляя ее на потом, после болезней, о них нужно сказать сейчас, преодолевая сопротивление, привыкаешь к здоровью и уже с трудом вспоминаешь о том времени, вспоминать об мастурбации проще, не поговорить ли об этом, спасительная тема, я редко к ней обращаюсь, знак того, что дела идут неплохо, может быть, и сейчас обойдусь, ну же, что это была за болезнь, как она себя проявляла, как повлияла на его жизнь, на его мировоззрение, иначе об этом не стоило и упоминать, но как-то не получается, расскажу, когда придет время, оно еще не пришло, где оно гуляет, заставляет себя ждать, словно Годо, вот уж кто умел изводить ожиданием, составил себе на этом имя, Гулливер жил в ожидании Годо, вряд ли, но чего-то он все-таки ждал, пусть не Годо, я говорю об этом, чтобы заполнить время ожидания, дожидаясь, когда наступит время рассказа о болезнях Гулливера, я знаю, что расскажу о них, но хотелось бы покончить с этим сегодня, зачем откладывать на завтра ту историю, которую можешь рассказать сегодня, мои скрижали, я волоку их, словно муравей – ветку в тридцать раз длиннее его тела, может быть, я вообще выбрал занятие не по росту, не дождался прихода Годо и отправился ему навстречу, принадлежит ли Годо к расе великанов или лилипутов? из какой он вообще страны? какой национальности? вероисповедания? какая у него профессия? кто-то сказал, что он устраивает лотереи, а кто-то другой – что он защищает свободу и права человека, может быть, это сказал один и тот же человек, сейчас многие стараются сделать себе имя, говоря о Годо, рассказывая о нем небылицы, популярная тема, но я не из них, Годо мне нужен, чтобы заполнить время, это не ожидание Годо, а Годо ожидания, понятно ли я говорю, вместо того, чтобы есть яблоко с древа, Адам мог бы сразу на этом древе повеситься, использовав вместо веревки волосы Евы, это было бы достойный ответ Змию, хотя, может быть, Змий этого и добивался, съев незрелое яблоко, Адам получил расстройство желудка, однако его мучения не походили на мучения Гулливера, нисколько, похоже, время ожидания закончилось, точное название болезни не так уж важно, к тому же мне оно неизвестно, я могу описать только симптомы: ноющую боль в желудке и тошноту, и если у Адама все закончилось поносом, то для Гулливера это обернулось хронической слабостью, жизнь потеряла краски, постоянная (частая) тошнота и боль в желудке – этого достаточно, чтобы сделать человека ни на что ни годным, лишить его всех практических интересов, так он стал сторонником Шопенгауэра, ничего не зная об этом человеке, что ж, такие сторонники – самые верные, пришлось отказаться от всех планов, жизнь свелась к претерпеванию жизни, болезнь была знаком, что он занимается не своим делом, но ему казалось, что смысл этого знака более общий, они понимал его как указание на никчемность жизни, прежде всего своей, но и человечества тоже, заниматься музыкой с тем же рвением, что и раньше, он не мог, но музыку продолжал любить, потому что она помогала ему забывать о боли, она была для него и наказанием, и спасением, но он еще не понимал этой двойственности, причины болезни были от него скрыты, и от него, и от врачей, ни один из которых не догадался, что болезнь коренится в душе, а не теле, так он промучился шесть лет, пока не расстался с музыкой, после этого болезнь ушла, боль, как говорится, рукой сняло, расстался с музыкой – это значит перестал играть на рояле, он еще зарабатывал на жизнь преподаванием в детской музыкальной школе, но это было другое дело, с ним он тоже вскоре расстался, вот и все, что нужно было сказать о болезнях, были и другие, но они никак не повлияли на его отношение к жизни, следовало бы, правда, разобраться, насколько сильным было влияние этой болезни, не проявился ли в ней его пессимизм, дававший о себе знать еще в раннем детстве, посмотрите, пожалуйста, на этот снимок, здесь ему три года, но можно подумать, что он прочел всего Шопенгауэра и Чорана, возможно, внешние события – лишь проявления заложенной в нас судьбы, как бы то ни было, музыкантом он не стал, и вынужден был искать себе другое дело, вернее, увлечение, если бы он сразу выбрал занятие моряка, но он его не выбрал, ни в юности, ни позднее, он вообще не задумывался о таком деле, ему и в голову не приходило, что он может стать моряком, и причина, наверное, была та, что город, где он рос, стоял далеко от моря.
ИНТЕРМЕЦЦО
неплохо бы подвести итоги, временные, промежуточные, что мы имеем, какие факты удалось изложить, сначала собрать, а потом изложить, а какие ускользнули, где я их нахожу? ловлю ли я их сачком? накидываю на них сеть? ставлю ловушки? стреляю из винчестера? нет, я не охотник, не ловец, скорее, дантист, сверлю и ставлю пломбы, удаляю и ставлю протезы, отправляя их потом обратно, откуда пришли, вот что я проделываю с фактами, выдавая себя за документалиста, мне предлагают работу аналитика, но я решительно от нее отказываюсь, писать аналитические статьи, обзоры – это не по мне, факты, ничего, кроме фактов, я пеку их в духовке, кулинар, какой там дантист, а, может быть, я игрок, шулер, занимаюсь подтасовкой фактов, держу тузы в рукаве, а потом выкладываю их перед ошеломленным партнером, но у меня нет партнера, кого бы я стал надувать, никакой выгоды, играю по-честному, что сдали, то и выкладываю, сбросил и получил новые, хитрая игра, одни факты сбрасываем, чтобы заменить их новыми, действуем по правилам, таковы правила, кто бы их ни установил, в этот раз не будет ничего о девочках и болезнях, даже о мастурбации ничего, такой вот день, мартовский, писано в марте такого-то дня, поутру, кажется, я говорил, что пишу вечером, этот факт отменен, отброшен и заменен другим, я могу писать только утром, на ясную голову, когда душа еще не согнулась под бременем дневных впечатлений, хотя бы и самых благоприятных, такой вот образ, утром воображение богато на выдумки, даже если занято поиском фактов, ночью меня донимал кашель, пришлось снова включить компьютер и часа два играть в «Героев меча и магии», еще одна спасительная тема, я приберегал ее для такого утра, после дурно проведенной ночи, когда голова не так ясна, как это обычно бывает, судьба героя: долго и кропотливо собирать артефакты, армию, повышать боевые навыки, совершенствоваться в искусстве магии, чтобы однажды, после неосмотрительно сделанного хода, столкнуться с вражеской армией под предводительством чародея двадцать пятого уровня, увешанного дюжиной редких артефактов, владеющего заклинаниями пятого уровня, сотня архангелов, две сотни кавалеристов, полторы тысячи арбалетчиков и еще разные монстры из других замков – золотые, лазурные драконы, алмазные и золотые титаны, какая-то нечисть, о существовании которой ты даже не подозревал, и все это появляется из темноты, чтобы обрушиться на тебя, ты не успеваешь даже отступить, он нападает первым, и все твои воины гибнут, как и ты, королевство обречено, наследники – слабаки, враг захватывает твои замки, казнит твоих полководцев, миссия проиграна, а ведь все шло так хорошо, дюжина городов, шахты, рудники, лесопилки, верфи и корабли, казалось, ты непобедим, но где-то в темноте, в еще не открытой части карты, противник собирал могучую армию, он действовал проворнее и умнее, и теперь победа за ним, хотя ему от этого, как говорится, ни тепло, ни холодно, доиграв до конца, увидишь ролик, на котором палач отрубает пленнику голову, вот и все, никакого победного клича, упущение разработчиков, могли бы немного очеловечить программу, но зачем придираться, и так сделано немало, блестящая работа маленькой группы, о которой можно прочитать в Википедии, 514 слов, неужели так мало, вот уже 520, если верить счетчику, сегодня у меня нет другой задачи, как заполнить вордовскую страницу, пауза, интермеццо, чтобы потом, с новыми силами, о болезни я вроде бы сказал, значит, теперь о девочках, вот почему я медлю, неужели эта тема меня смущает, 562 слова, горизонт уже виден, доплывем до горизонта, там нас ждет страна фей, мистер Скелмерсдейл в стране фей, как пишется это имя, правильно ли я его написал, в этой лавке служит один парень, ему довелось побывать в стране фей , что же он там увидел, не помню, не помнил даже имени, посмотрел в Интернете, рассказ из 1542 слов, у меня пока 639, последнее усилие для последней строки, если не можешь идти, ползи, если не можешь ползти, перекатывайся, как персонаж Джека Лондона, торжество воли к жизни, к речи, говорить, говорить, говорить.
ПЛАТОН И ИНОПЛАНЕТЯНКИ
с антрактами покончено, больше никаких задержек, в девочек он влюблялся еще до того, как у него появился к ним мужской интерес, правильнее: в девушек, красивое девичье лицо пленяло его, по-другому не скажешь, он попадал в плен, делался пленником, восхищение, преклонение, обожание, никакого интереса, кроме платонического, двенадцати лет он влюбился в девушку на рисунке, в женское лицо на иллюстрации к фантастическому роману, и пронес эту любовь через многие годы, если по правде, до сего дня, нет, неправда, к двенадцати годам он уже был в пятом классе, как быстро летят школьные годы, но еще раньше, в третьем или четвертом, он влюбился, воспользуемся этим словом, подразумевая его платонический смысл, в одноклассницу, вот, значит, когда это началось, в чем же выражалась его влюбленность, ему нравилось смотреть на нее и думать о ней, когда он думал о ней, в жизнь его проникало что-то значительное, жизнь его наполнялась чем-то важным, все остальное было менее важно, она казалась ему пришелицей из другого мира, героиней того самого фантастического романа, да, она явилась из платоновского мира идей, он, как и все люди, томился в земной пещере, и ему явился лик из мира идей, красивая девушка, по Платону, влечет сердце к сверхчувственной красоте, чувственная красота – отблеск нездешнего солнца, милый друг, иль ты не знаешь , он не знал, но предчувствовал, о чем-то подобном ему говорили звезды, рассказал ли я о его увлечении астрономией? он помещал платоновский мир в глубине космоса, так повлияла на него фантастика, да и ум его в то время был еще по-детски неразвит, но девочка, в которую он влюбился, пробудила в нем предчувствие, или чувство, иного мира, к звездам это не имело отношения, ну а музыка, разве музыка не уводила его в иные края, да, придется признать, что он всегда влекся к сверхчувственному, говоря философски, с самых ранних лет, и если раньше символами сверхчувственного были для него звезды, если раньше он касался этого мира в музыке, то теперь сверхчувственный мир выслал другого гонца, посла, словом, представителя, еще точнее, проводника, бортпроводницу, записал ее в тот же класс по именем Антонины, появляются имена, причем реальные, не условные, вроде Гулливера, кстати, случались ли в странствиях Гулливера любовные приключения, не влюблялся ли он в великаншу? моя лилипуточка, приди ко мне , но нет, никаких шансов, что делать Гулливеру с лилипуткой, как с ней обращаться, только если платонически, хотя есть разные способы сексуального удовлетворения, модуляция в следующий эпизод, но мы пока в платоновском мире, и задержимся в нем надолго, я надеюсь, рассчитываю, что мне будет позволено в нем задержаться, я бы вообще его не покидал, но придется, долго ли длилась его влюбленность, может быть, год, пока он не влюбился в другую, как-то так вдруг понял, что Антонина уже не вызывает в нем прежних чувств, а вот другая, по имени Александра, неужели это верные имена, как же, ручаюсь честью документалиста и биографа, он никогда с ними не заговаривал, да и сами они, эти предметы его обожания, были неразговорчивы, он влюблялся в молчаливых девочек, под стать ему самому, среди девочек попадаются и такие, тихие, молчаливые, как будто несут в себе тайну, так он это чувствовал, потому, наверное, и влюблялся, хотя спустя годы, рассматривая школьные фотографии, уже не мог понять, чем эти девочки отличались от других, разве что черты лица были чуть более правильными, но тогда он чувствовал окружающую их ауру, как и полагается инопланетянкам, они были окружены защитным полем, он даже не пытался с ними сблизиться, они так и не узнали о его чувствах, были бы, наверное, не против о них узнать, но возможности не представилось, он хранил тайну в себе, у них была своя тайна, у него – своя, так он и жил с этой тайной, тайна делает жизнь глубокой, значительной, наполняет ее смыслом, нездешним, потому что здесь, в самой жизни, смысла не найти, и эту вторую он любил до восьмого класса, была еще одна, возможно, он любил сразу двух, наверняка так и было, как же он с ней познакомился, с той, другой, или третьей, неважно, эти примеры нужны только для того, чтобы показать, чем была его влюбленность, чувство здесь важнее тех предметов, на которые оно обращено, чувство первично, предметы вторичны, говоря философски, сейчас я могу об этом так говорить, потому что все далеко, но тогда все было близко, и он, конечно, такого бы не сказал, подобные выражения были ему чужды, пока он не начал читать философские книги, вот как, это его тоже интересовало, ну и чудовище, что-то здесь не так, нелепый образ, видна работа воображения, без фантазии не обошлось, и это после всех заявлений о документальности, могут возникнуть претензии, они уже высказаны, я сам их себе высказал и сам же их отклонил, влюблялся он всегда одинаково и вел себя одинаково, больше рассказать не о чем, обстоятельность, да, но в меру, ничего сверх, третья скрижаль, может быть, по дороге попадется еще одна, Моисей, что ты сделал со своими скрижалями, главное – терпение, не всего можно добиться терпением, но если ты чего-то добился, без терпения точно не обошлось.
ЛЮБОВЬ БЕСКОРЫСТНА
я смотрю на это издалека и говорю издалека, отсюда Гулливер кажется совсем крохотным, трудно поверить, что тогда он был Гулливером, и я рассказываю о нем так, словно он уже тогда был лилипутом, и влюбленность его была чем-то маленьким, да простят меня лилипуты, нет, так ничего не расскажешь о Гулливере, попробую еще раз, влюбленность придавала жизни устойчивость и серьезность, а если это одно и то же, то что-то одно из двух, устойчивость, серьезность, я еще недостаточно серьезен, но я пытаюсь, я пытаюсь сказать что-то серьезное, жизнь кажется совершенно невыносимый, если ничего и никого не любишь, а если любишь, то вынести можешь многое, и он любил звезды, музыку, девочек, прежде всего лица и манеру держаться, ни к чему такие подробности, да нет же, важен был весь облик, конечно, он не мог влюбиться в толстушку, но опять же дело не в этом, неважно, какими они были, блондинками или брюнетками (и теми, и другими), важно, что они привносили в его жизнь, чувство успокоения, то же самое, может быть, чувствуют католики перед образом Мадонны, приходят к нему, чтобы успокоиться, преклоняют колена и молятся, что-то подобное проделывал и он, фигурально, при этом его совсем не интересовало, как эти девочки относятся к нему, в этом он даже превосходил католиков, которые обращаются к Мадонне с просьбами, заискивают, надеются расположить ее, ora pro nobis, но ему достаточно было просто смотреть на этих мадонн и думать о них, думать было так же успокоительно, как и смотреть, и он чувствовал себя потерянным, когда не о ком было думать и не на кого было смотреть, серьезнее сказать об этом я не могу, и сказать больше мне, вроде, нечего, если только не заняться перечислением, но здесь уже проглядывает ирония – верный знак, что пора заканчивать и переходить к другой теме, или к той же, но с другой стороны, любовь – это когда лицо возбуждает сильнее, чем тело, так, примерно так, сказал Бержерон в «Любовном недуге» , Гулливер не мог бы влюбиться в Настасью Кински, а вот юный Мишель Пикколи произвел бы на него впечатление, может быть, он и видел его в каких-то картинах, карьера у этого актера такая же долгая, как жизнь, между прочим, он (не Мишель) влюблялся и в мальчиков, не совсем так, как в девочек, но красивые мальчики тоже делали жизнь серьезной, жизнь серьезна только благодаря красоте, неужели он так думал или чувствовал, можно ли назвать музыку красивой, знатоки так не говорят, а если и говорят, то в уничижительном смысле, нужно будет рассказать и о мальчиках, чтобы раскрыть эту тему полнее, обстоятельность, я помню, первая скрижаль, все скрижали ношу с собой, ни одной не разбил, да еще подбираю по дороге новые, он встречал подростков, сверстников, которые очаровывали его видом и поведением, ничего гомосексуального, как это теперь принято, с этим сейчас перебор, компенсация за былую дискриминацию, но с ним не было ничего такого, и он никогда не сталкивался с домогательством, и вообще про это мало что знал, такие уж времена, но некоторые сверстники вызывали его восхищение, подросткам свойственно творить кумиров, я рассказываю о чем-то обычном, сообщаю банальные факты, выходит, Гулливер не отличался ничем от окружающих, он был такой же, как все, следуют кадры кинохроники, битломания, падающие в обморок девчонки, полицейские едва сдерживают натиск школьниц, а как относились к музыкантам подростки? вешали их портреты? писали им письма? творили из них кумиров? кто же застрелил Джона Леннона, как не один из таких фанатов? словом, это было время идолов и кумиров, Гулливер творил кумиров неустанно, что-то в нем творило, только в этом и проявлялись его творческие способности, может быть, других у него и не было, пикник природы, я вроде сталкера – пробираюсь по запретной зоне, остановиться уже невозможно, получил скрижали – поступай в соответствии с предписаниями, нельзя их бросить на полдороге, от них можно избавиться, только исполнив предписанное, пройдя весь путь до конца, что я и собираюсь сделать.
ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ
когда тело пробудилось, интерес стал двойственным, или появилось сразу два интереса, если считать то, что было раньше, интересом, верно лишь приблизительно, иногда приходится жертвовать точностью, ради чего? чтобы двигаться дальше, последовательно, обстоятельно, по правде говоря, новый интерес был не таким уж новым, доктор Фрейд, открыл нам детскую сексуальность, интересную жизнь детей, жизнь, исполненную сексуального интереса, предшествующего всем остальным интересам, вот обнаженные девушки, они держатся за руки, связанные стеблем вьюна, намотанного на их тела, как страховочный трос альпинистов , вот парень и девушка занимаются любовью на велосипеде, а вот девочка на дне ямы, между ног она держит головку лука-порея, безмерная тоска по прикосновению, осязанию, всюду мерещатся вишни, эротическое возбуждение от изображений и текстов, даже одиноких слов, благовестие любви , как трудно дается подъем крыла, начинается борьба за целомудрие, ясно, что при его установке на независимость, такое влечение к чужому телу должно вызывать в нем сопротивление, снова появляется тема мастурбации, только так, удовлетворяя самого себя, можно сохранить автономию, суверенность, честь и достоинство, нет, почему-то он воспринимал это как унижение чести и достоинства, не испытывал гордости от своего рукоблудия, как, например, Дали, величайший рукоблуд, написавший большую поэму с таким названием, он не стеснялся признаться, что рисуя, рукоблудствует, что движение кисти – та же мастурбация, он говорил об этом открыто, приглашал юношей и девушек в свой дворец, чтобы они занимались любовью, в то время как он, великий и ужасный, дряхлый и слабый, рукоблудствовал за портьерой, неужели он чего-то там достигал, за портьерой, но так или иначе это его вдохновляло, рисовал до самой смерти, как это замечательно – иметь талант, вся жизнь тогда складывается вокруг таланта, оправдание получают все дурные привычки, движение за право на мастурбацию, за легализацию мастурбации, парад гордости, на плакатах – мастурбирующий Диоген, но неужели, в случае Гулливера, все ограничивалось только этим, нет, выдавались случаи, складывались обстоятельства, он познал девичью плоть не только в грезах, но и ощупью, руками, пенисом и языком, правда, особой радости это ему не доставляло, может быть, потому, что между ним и наслаждением вставал резиновый бог, юные партнерши знали, чего хотели, всегда получалась любовь втроем, и вступление уже не радовало, потому что далее следовал ритуал, появлялся резиновый бог, и ему нельзя было не покориться, с одной из девочек он пробовал совместную и взаимную мастурбацию, но убедился, что удовольствие от взгляда не превосходит удовольствие от грез, тем же самым он мог бы заниматься и в одиночестве, и даже успешнее, все эти проблемы не мешали ему любить мадонн, наоборот, обостряли эту любовь, сколько раз, излив в одиночестве (или в присутствии сообщницы) семя, он чувствовал угрызения – непонятно чего, совести или какого-то другого зверя, и обещал себе начать с завтрашнего дня целомудренную жизнь, сверхчувственную, занимаясь любовью, – один или вдвоем (втроем), – он как бы изменял той, другой, которую любил как мадонну, изменял иному миру, хотя было непонятно, почему, в чем эта измена заключалась, поддержим движение за свободную любовь, за свободные сексуальные контакты, начиная с пятого класса, плоть – это радость, больше курева, порева и рока на улицах, превратим жизнь в фестиваль любви, карнавал нон-стоп, если бы он проникся таким настроением, все было бы проще, свободная любовь не мешает, а способствует, богема всегда за свободную любовь, скажи мне, как ты относишься к свободной любви, и я скажу тебе, относишься ли ты к богеме, если в тебе есть творческие задатки, они раскроются только через свободную любовь, только свободная любовь избавит тебя от страха перед жизнью, от всех комплексов, задержек, ты станешь свободным, как Сальвадор Дали, и научишься творить так же смело, сексуальная свобода неотделима от смелости, кто свободен, тот и смел, а смелость – первое условие творчества, вот чего ему не хватало – смелости, но виноваты ли в этом его подружки? нет, они делали что могли, наверное, только опытная женщина могла освободить его от этого плена, какая-то фурия, которая бы изнасиловала его и вызвала бы на ответное насилие, праздные домыслы, позднее он встретил такую женщину, и в ней не было ничего от богини Кали, последовательность, последовательность, доберемся и до этого эпизода, что на очереди, явится в свое время, попозже, они всё идут и идут, как говорит Клеман в «Любовном недуге», я вспомнил, в какого актера он мог бы влюбиться – в Камбербэтча, если допустить такой анахронизм, но не в Паттинсона, все зависит от роли, прически, одежды, в других фильмах Камбербэтч не так очарователен, а вот Паттинсона не сделали бы очаровательным ни роль Шерлока, ни макияж.
ДУХ АГОНА
чем же он занимается? в каком положении мы его оставили? в каком возрасте? вероятно, он дожил до молодых лет, юность позади, и он знает, что пианиста из него не выйдет, иногда он подумывает, как о запасном варианте, чтобы стать шахматистом, об этом, кажется, еще не говорилось, сколько же он успел в свои юные годы, какие темпы, allegro, темп замедляется, переходит в allegro moderato, сосредоточимся на том периоде, когда он учился музыке и никого не любил, выдался такой год, когда не нашлось ни одной мадонны, может быть, он устал искать мадонн, раньше с этим проблем не возникало, может быть, его угнетало чувство бездарности, и он уже не мог никого обожать, но поиск причин – не мое дело, это не предписывается скрижалями, нет такой скрижали, которая бы предписывала мне действовать как психоаналитик, мое дело – поставлять факты, и с этим я пока справляюсь, в тот год он много играл в шахматы, преферанс и покер, открываются новые горизонты: спорт, азартные игры, победы, поражения, деньги, наркотики, черный рынок, криминальный бизнес, долги, угрозы, суд, тюремное заключение, пошел по кривой дороге, покатился по наклонной плоскости, и камнем на дно, рассказать о тюремном быте, сцены жестокости и любви, российские тюрьмы, условия содержания заключенных, записки из мертвого дома, вместе с фрагментами биографии, случайно уцелевшими , просто кружится голова, в шахматы, конечно, его научил играть отец, в раннем детстве, какое-то время он поигрывал, как поигрывают любители, но как-то ему попалось на глаза высказывание одного гроссмейстера, приведу полностью, для обстоятельности: «если мы положим себе за правило играть каждый раз лучше, чем в предыдущий, разыгрывать дебюты с большей точностью, миттельшпиль – с большей сознательностью, эндшпиль – с большей последовательностью, предвидеть возможные комбинации с большей отчетливостью, мы будем все выше и выше подниматься по ступеням трудной лестницы мастерства. важно воспитать в себе творческое усилие» , усилие порождает результат – в этом смысл сентенции, к тому времени в нем уже зародились честолюбивые стремления, это был возраст, когда ребенок задумывается о том, в чем он может обойти сверстников, отличиться, стать первым, хотя, по моим наблюдениям, дети об этом задумываются еще до школы, с определением возраста я поторопился, играть в шахматы он научился до школы, но вряд ли тогда же и прочел книгу Торре, это уж слишком, неправдоподобно, сомнительный факт, скорее всего, он прочел книгу позднее, в старших классах, периодически его охватывала шахматная горячка , и он читал шахматную литературу, шахматные монографии составляли заметную часть его библиотеки, пусть малозаметную, но он всегда помнил, где что стоит, и, бывало, доставал какой-то учебник и штудировал какую-нибудь главу, он даже принимал участие в турнирах, поднимался от разряда к разряду, не торопясь, так уж выходило, быстрее не получалось, его первые шаги были не такими, какие бывают у будущих чемпионов , хотя он подумывал о том, чтобы стать гроссмейстером, так же, как он мечтал об иных мирах, он мечтал и о достижениях в этом мире, его жажда первенства не знала границ, вот это новость, ничто еще не указывало на такое честолюбие, первый факт, скорее, декларация, ничем не подтвержденная, но разве не собирался он выиграть конкурс Чайковского? или победить на турнире в Вейк-ан-Зее? несомненные факты, и они подсказывают новую тему, они, можно сказать, вопиют, не услышит только глухой, не закрывать глаза, не затыкать уши, не боюсь ни грома, ни молнии, если уж я рассказал о рукоблудии, то тема честолюбия мне нипочем, это была не жажда почестей, а жажда первенства, снова интерпретации, жажда славы – древняя добродетель, слава – единственное, к чему стоит стремиться мужчине, лавровый венок, посмотри, как пальмовой ветвью гордится , и если уж лошадь желает славы, то мужчина просто не может ни о чем другом думать, иначе он не будет мужчиной, наказ самому себе: перечитать древних перед тем, как браться за следующий эпизод, дух агона.
МЕЧТЫ И ГРЕЗЫ
детство Гулливера еще рядом, недалеко я ушел от него, совсем недалеко, и сейчас собираюсь вернуться, чтобы дополнить сказанное, скрижали этого не запрещают, принцип последовательности лишь указывает общее направление, допуская отдельные исключения, так пациент, пропустивший очередь, все-таки хочет попасть на прием, и я иду ему навстречу, открываю дверь, приглашаю войти, что вас беспокоит, о чем вы мне сегодня расскажете, о скуке, он много скучал, у него не было компании, с которой он мог бы проводить время, а без друзей занимать себя можно только книгами, телевизором, музыкой, исследованием чердака и подвала, прогулками по городу и за городом, рисованием, музицированием, чтением, книги, музыка, прогулки, чердак, подвал, чужие дворы, книги, музыка, все по кругу, после школы и домашних заданий оставалось еще много времени, и его нужно было как-то убивать, поэтому он часто ходил в кино, у него хватало карманных денег, а когда не хватало он таскал их из родительских кошельков, жил припеваючи, есть, конечно, семьи и побогаче, намного богаче, но в таких семьях часто и с детьми обращаются намного строже, попробуй, вытащи что-нибудь из папиного кошелька, хотя есть, наверное, и бунтари, добившиеся свободы, их, может быть, даже много, трудно держать детей в узде, и сейчас и тогда, узды он не чувствовал, жил, как хотел, вот только хотел он одного и того же, день за днем, год за годом, еще не подрос, чтобы ходить на танцы, да и подростком на них не ходил, может быть, раза два, избегал толпы, в толпе чувствовал себя неуютно, а в одиночестве часто скучал, совсем по Шопенгауэру, ему хотелось подчинить свою жизнь какой-то цели, это было бы замечательно, стремиться к чему-то, добиваться чего-то, каждый час был бы наполнен этим стремлением, каждую минуту он что-то делал бы для достижения цели, а если не делал, то отдыхал с чувством исполненного долга, Дон Кихот посвятил свою жизнь защите обиженных, угнетенных и распространению рыцарских идеалов, Дон Кихот не скучал, приключения сыпались на него одно за другим, и все потому, что он нашел руководящий принцип, но у Гулливера, не было руководящего принципа, какие-то мелкие принципы, да, но большого руководящего принципа не было, и поэтому ему часто казалось, что можно заниматься и тем, и этим, занимайся чем хочешь, а в результате он не занимался ничем, тосковал и скучал, совсем по Шопенгауэру, languor, так называл это состояние философ, что-то по-французски, иногда Гулливер загорался мыслью взяться за изучение языков, хотя бы одного, французского, большая цель – выучить французский, чтобы читать в оригинале «Трех мушкетеров», сомнительный факт, просто неправдоподобный, но то, что он пытался учить языки, это достоверно, он просто маялся от безделья, так говорила мать: ты маешься от безделья, замечательное слово – маета, и странно, что в переводах Шопенгауэра оно не встречается, хотя у Ницше можно прочесть: «Жизнь без музыки – одно лишь заблуждение, маета, чужбина» (письмо Гасту), что стало бы с планетами, если бы вдруг Солнце исчезло? они разлетелись бы в разные стороны, так и он чувствовал себя разделенным, стремящимся в разные стороны, раздираемым противоположными стремлениями, в его жизни не было центра притяжения, чувствуют ли то же самое и другие? влюбленность избавляла его от languor, в самом деле, возможно, подростки так ценят любовь потому, что она создает в их жизни центр притяжения, да и в любом возрасте люди чувствуют то же самое, влюбляются, чтобы получить руль и ветрила, влюбленность и мечты о великих свершениях – вот что придавало его жизни смысл, цельность, устойчивость, в настоящем – любовь, в будущем – деяние, и он не понимал, как остальные могут жить без того и другого, ему казалось, что в их жизни нет ни того, ни другого, и действительно, большинство людей, пережив молодость, уже не ищет любви и не думает о деяниях, тянут лямку, занимаются благоустройством быта, без руля и ветрил, полный штиль, на мели, в каком-то смысле, на дне, я что-то говорил о его симпатии к «опускающимся на дно», но то было другое дно, все это как-то согласуется, здесь нет противоречия, могут ли факты противоречить друг другу? тогда какой-то из них – не факт, а иллюзия, подтасовка, перестав надеяться на победу в музыкальном конкурсе, он решил посвятить свою жизнь шахматам, не поздно ли, Торре выиграл крупный турнир в девятнадцать лет, мечты и грезы, он жил иллюзиями и мечтами, потому что надо же было как-то жить.
БЕГСТВО И ПЕССИМИЗМ
продвигаюсь медленно, принцип обстоятельности, снова тема кинематографа, некоторые фильмы он смотрел по пятнадцать раз, факт, который приводится здесь без всякой интерпретации, некоторые фильмы он смотрел по пятнадцать раз, а некоторые по семь, добавляют ли эти сведения что-то новое? он перечитывал приключенческие и фантастические романы, неудивительно, что и фильмы он смотрел по нескольку раз, и ему не надоедало, такова была сила его тоски, что бы он ни делал, он бежал от этого мира, кинотеатр – подходяще место, чтобы спрятаться от действительности, эмигрант, дезертир, фабрика грез, обычное дело, для того и строятся кинотеатры, для того и снимаются фильмы, если подсчитать все билеты, то окажется, что он потратил на кинематограф немалое состояние, только благодаря ему эта отрасль развлекательной индустрии еще не угасла, телевидение не одолело кинематограф, что бы ни говорили журналисты и философы, и все благодаря его поддержке, такому полагалось бы звание почетного зрителя, с правом на бесплатное посещение раз в неделю, самое меньшее, у входа в его любимый кинотеатр должны были поставить памятник, а к его любимому стулу привинтить бронзовую табличку, но ничего этого не произошло, да ему и не нужна была такая слава, он мечтал о другой, все эти кинематографические истории обостряли его смутное чувство иного мира, иногда музыка к фильму действовала на него сильнее, чем классическая, Джонс и Морриконе трогали его сильнее, чем Бетховен, что-то они в нем задевали, до чего не добирался Бетховен, ему полюбились пейзажи Сен-Тропеза, и вообще Лазурный берег, море, яхты, самоуверенные мужчины, красивые женщины, они были такими самостоятельными, независимыми, деньги, машины, фешенебельные квартиры, ночная жизнь, игорные дома, любовные приключения, что такое по сравнению с этим жизнь доцента кафедры английского языка или сисадмина торговой компании, хотя отпуск они проводили на юге, и один раз побывали на том самом берегу, сомнительный факт, который, тем не менее, верен, в то время не было видеодисков, и даже видеомагнитофон был большой редкостью, поэтому он и смотрел фильмы так часто, чтобы запомнить наизусть, полтора часа в темном зале, и когда выходишь на улицу, реальность бьет по глазам, тебя начинает тошнить, но глаза у него впервые заболели в кинотеатре, и тогда он понял, что становится близоруким, напасть, которая угрожала самым главным его увлечениям, может быть, он еще и терял слух? от громкого хард-рока люди глохнут, классическую же музыку можно слушать сколько угодно, не устает слушать ухо, и не устает говорить язык, но с глазами все иначе, он уже предвидел полную слепоту, он вообще был склонен предвидеть худшее, юноши склонны к пессимизму, Шопенгауэр как вечный юноша, по Мечникову, все дело в плохой работе пищеварительных органов, самоотравление ядами, физиологи ищут причины, а я излагаю факты, перечитывать скрижали утром и перед сном, протирать, обмахивать специальным веничком, щеткой, беречь от попадания прямых солнечных лучей, хранить каждую в отдельном ящичке, сделать копии и положить их в банк, застраховать на большую сумму, отлить в бронзе, выжечь на теле, если они будут потеряны, всему конец, начну двигаться вслепую, и уж точно никуда не доберусь, он постепенно терял зрение и был уверен, что к двадцати пяти потеряет его совсем.
БЕСПЕЧНЫЙ ИГРОК
это произошло вскоре после того, как он поступил в музыкальный колледж, потеря ветра и ветрил, может быть, только ветра, и, конечно, руля, хотя руль без ветра – вещь бесполезная, теряй – не теряй, за этим иносказанием кроется следующее: окончив школу, он перестал видеться с девушкой, которая была его возлюбленной, и хотя он знал, где она живет, и у него был номер ее телефона, однако он ни разу ей не позвонил и не попытался с ней увидеться, в этом проявлялось умерщвление воли, в котором он, сам о том не подозревая, упражнялся не прочтя ни страницы из Шопенгауэра, он мучительно переживал разлуку с возлюбленной (так я называю девушек, в которых он бы влюблен платонически), мир казался ему пустым, и среди музыкантов он чувствовал себя неуютно, этот мир был ему чужд, он был только слушателем, не исполнителем, но еще не осознал этого различия, и вот так он провел два года, может быть, самых мрачных в его жизни, стараясь заглушить чувство пустоты игрой в шахматы, картами, выпивкой, случайными связями, назовем это так, ни одна из сокурсниц ему не нравилась, и он встречался с девушками из профучилищ – будущими парикмахерами, продавщицами, портнихами, поварами, библиотекарями, он говорил себе, что прожигает жизнь, да так оно и было, он получал стипендию, которую потом сняли из-за плохой учебы, деньги у него водились, он играл в карты, покер, в одной компании, и в шахматы – в другой, пил и с теми, и с этими, время было мрачное, но веселое, никогда он не чувствовал такой беспечности, хотя игра шла на деньги, но деньги небольшие, это была дружеская компания, где всегда можно было сыграть в долг и, проиграв, отдать проигранное через месяц, позднее он попробовал играть с другими людьми, и там игра шла серьезнее, там случалось разное, ставки не доходили даже до тысячи, в пересчете на доллары, фунты, евро, таких денег ни у кого не было, но сумма долга могла перевалить за две тысячи, и тогда начинались проблемы, хотя что такое две тысячи, вот к чему приводит потеря ветра, повисшие паруса, сломанный руль, это все было позднее, а в том году игра была не такой серьезной, да и вообще в ней не было ничего серьезного, листок со словами Торре висел над его кроватью, он участвовал в шахматных турнирах, ездил в разные города, кроме того, он разучивал прелюдии и фуги Баха, сонаты Моцарта, концерты Бетховена, казалось, он живет полной, разнообразной жизнью, но в сердце его была пустота, он никого не любил и не очень-то верил, что ему удастся чего-то добиться за роялем или шахматной доской, в таком настроении он наткнулся на книги Кафки, и это было кстати, одинокие персонажи в абсурдном мире, Кафка был первым настоящим писателем, не детективщиком и не фантастом, которого он читал с увлечением, потому что в сердце его была пустота, и у него не было возлюбленной, вряд ли он что-то понимал в литературе, но это интерпретация, я пускаюсь в объяснения, привожу психологические мотивы, подражаю Толстому, каждый пишущий по-русски держит на своих плечах эту глыбу, как Портос держал свод пещеры, на один миг он и в самом деле, уповая на крепость своих стальных мышц, мог надеяться на спасение, но монолит продолжал медленно опускаться , только факты, никаких объяснений, а факты таковы: он прочел все книги Кафки, какие были в городской библиотеке, и купил те, какие нашлись в магазинах.
СОХРАНИТЬ ЛИЦО
он занимался вдобавок ко всему рисованием, учился рисунку в студии, и у него неплохо получалось, учитель его хвалил, но рисовать вазы, цветы, людей, пейзажи ему было скучно, а привнести в рисунок что-то от себя он не мог, он мог только копировать, удвоение реальности, которая и так его тяготила, фантазия была скована, как и тело за роялем, его пронизывало какое-то внутреннее, душевное напряжение, мешавшее двигаться и воображать свободно, не было ни одного дела, в котором он чувствовал бы радостную свободу, только читая или слушая музыку, он ощущал себя свободным, потому что забывал о себе, но бегал он быстро, парадокс, он был чемпионом школы по бегу на сто и четыреста метров, завоевал второе место в межшкольных соревнованиях, но однажды, когда команда готовилась принять участие в городской эстафете, врач сказала, что у него дефект в сердце, и заниматься бегом ему нельзя, гром среди покрытого тучами неба, еще один камень для мавзолея его надежд, и хотя, по словам врача, дефект этот ничем не угрожал его жизни (если он исключит большие нагрузки), он почувствовал себя так, будто смерть поджидает его в любой момент, он вообще отличался мнительностью, что свойственно ипохондрикам, вроде Шопенгауэра, если бы он читал Шопенгауэра и верил в переселение душ, то наверняка решил бы, что душа Шопенгауэра заняла его немощное тело, он уверил себя, что не доживет и до тридцати, будущее было не радужным: слепота в двадцать пять, смерть от сердечной недостаточности в тридцать, а ведь еще были проблемы с желудком, язва двенадцатиперстной кишки, тошнота и рвота, как он ухитрялся заниматься всем, о чем говорилось, музыкой, шахматами, бегом, рисованием, азартной игрой, сексом и выпивкой, что-то тут не складывается, но факты упрямы, я держусь фактов, я тоже упрям, относитесь к этому как хотите, к кому я тут обращаюсь, ведь я один, и возле меня никого, и вдалеке никого, никаких читателей, даже предполагаемых, жизнь Гулливера превратилась в хаос, бег с препятствиями в разных направлениях, кто-то бежит, кто-то бредет, кто-то ползет, похоже на беспорядочное отступление роты, сражение проиграно с самого начала, он всегда чувствовал себя проигравшим и лишь искал способа проиграть достойно, «сохранить лицо», это было единственное, что зависело от него самого, держаться благородно, стоически, хотя бы на тебя ополчилось море бед , вот почему его привлекали персонажи вроде Атоса, потерять все надежды, но сохранить достоинство, хранить свою тайну, молчать, в современной литературе ему такие персонажи не попадались, только в фильмах – вестернах, некоторых боевиках, Шопенгауэру понравилось бы его умонастроение, но он не читал Шопенгауэра, из серьезных писателей он читал только Кафку, в котором тоже находил что-то стоическое, это слово было ему знакомо, он думал, что оно происходит от глагола «стоять» или «выстоять», на этом описание детства, отрочества и юности Гулливера, как будто, закончено, похоже, мне удалось обойти несколько рифов, несколько мелей, и все благодаря принципам, тем скрижалям, которые и так далее, будут ли они полезными и в дальнейшем, не попадется ли мне новая скрижаль, отменяющая все предыдущие, не знаю, но пока они послужили неплохо, хотя со стороны может показаться, какому-нибудь читателю со стороны, читатель всегда в стороне, а мой читатель в такой далекой стороне, что как бы и вовсе не существует.
II
Эти ученые большую часть своей жизни проводят в наблюдениях
над движениями небесных тел при помощи зрительных труб,
которые своим качеством значительно превосходят наши.
Джонатан Свифт. «Путешествия Гулливера»
Из их лекций я помню мало, почти ничего. Многого я не смог понять.
Но некоторые описания я, кажется, сохранил, вопреки собственному
желанию. Они прочли мне курс о любви, о разуме, очень ценный,
очень ценный. Они учили меня считать и даже рассуждать.
Сэмюэль Беккет. «Безымянный»
ОСТРОВ БЕЗ СОКРОВИЩ
пора поставить новый диск, детство, отрочество, юность позади, впереди молодость, иначе говоря, катастрофа, плавание было недолгим, едва только судно вышло в море, как в трюме обнаружилась течь, корпус гнил, металлические части ржавели и рассыпались, мачты шатались и падали, капитан смотрел на горизонт в подзорную трубу, а штурман следил за показаниями компаса и сверялся с картой, но все это было лишено смысла, вернее, имело только один смысл: достойно уйти под воду, однако, как это обычно случается в приключенческих романах, впереди по курсу неожиданно показался остров, необозначенный на карте, и когда они подошли ближе, капитан увидел красавицу в бикини, она стояла на берегу и махала капитану рукой, корабль бросил якорь, команда сошла на берег, капитан представился, сделал предложение (пристойное) и счастливо зажил с молодой красавицей, он перестал пить, играть в карты, заниматься сексом с незнакомками, забыл о пороке сердца и близящейся слепоте, он выздоровел и духом, и телом, духом больше, чем телом, потому что все еще продолжал упражняться на рояле, сияющий черный «стейнвей» спустили с корабля на берег, и капитан вечерами играл на нем джаз, рок-н-ролл и рапсодии Листа, красавица предпочитала джаз, но соглашалась на рок-н-ролл и на Листа, команда построила плот и уплыла в неизвестном направлении, капитан и красавица остались на острове вдвоем, капитан почему-то думал, что на острове спрятаны пиратские сокровища, половину дня он проводил в поисках этих сокровищ, но за целый год ничего не нашел, кроме костей подохших животных, красавица оказалась капризной и требовательной, она давала капитану многочисленные поручения, как в сказке, и он старался их все исполнить, эти труды – поиск сокровищ, выполнение заданий и совершенствование исполнительского мастерства – требовали от капитана больших усилий, но он проявлял необычайное упорство, рассчитывая, как всегда, компенсировать неблагоприятные обстоятельства стойкостью и терпением, обстоятельства действительно складывались неблагоприятно, красавица разочаровалась в капитане, по ее словам, она ошиблась в нем, каждый день она стояла на берегу и всматривалась в море, ожидая, когда появится другой корабль, с другим капитаном, и однажды Гулливер понял, что пора строить плот или лодку, он построил лодку, укрепил на ней парус и поплыл куда глаза глядят, точнее, куда ветер дует, красавица стояла на берегу и смотрела в противоположную сторону, на ней был тот самый белый купальник, в котором она встретила Гулливера, вскоре остров исчез, наступила ночь, и над Гулливером загорелись звезды, он плыл один, в легкой лодке, посреди огромного моря, под яркими звездами, без компаса, карты и подзорной трубы.
НОВАЯ ЭПОХА
еще раз, по-другому, чтобы не исказить факты, не создать превратного впечатления, без веселых иносказаний, итак, он познакомился с девушкой, работавшей в Художественном музее, обычно она сидела в каком-то дальнем помещении, приводила в порядок документацию, каталоги, что-то писала, что-то читала, он не знал в точности, чем занимаются музейные работники, но иногда она проводила экскурсии, если их заказывали, и вот так он с ней познакомился, увидел во время экскурсии по залам, которых было не так уж много, провинциальный музей, ему нравилась только одна картина: «Лунная ночь в Неаполе» Щедрина, игра тьмы и света, луна в разрыве облаков, лунная дорожка на воде, фигуры у костра, большое темное здание на берегу, он сразу в нее влюбился (в девушку-экскурсовода), такой у нее был тип лица, такая фигура, так она говорила, все сошлось, он смотрел на нее издалека, не смешиваясь с экскурсантами, и потом несколько раз приходил в музей, чтобы ее увидеть, но экскурсии заказывали не часто, увидел он ее только через месяц и спросил о картине и художнике, завязался разговор, так они познакомились, он снова влюбился, в его жизни появился фокус, центр притяжения, он уже не был блуждающей планетой, ему нравилось с ней разговаривать, а ей нравилось слушать, как он играет, он приводил ее в колледж, в репетиционный класс, он играл, она слушала, там же они и целовались, наконец-то соединились обожание и телесное влечение, это было в начале лета, он сыграл на экзамене лучше обычного, они ездили за город и там занимались любовью в березовых рощах, смешанных лесах, стогах, а еще – у нее дома, она жила с матерью, отца не было, и весь рабочий день квартира была в их распоряжении, он никогда не приглашал ее к себе, почему-то ему казалось невозможным любить ее в квартире родителей, и так продолжалось несколько месяцев, а потом они поженились, хотя у них не было денег, чтобы снять квартиру, поэтому они жили у нее, и он не очень-то ладил с тещей, которая считала, что их брак непрочен, что разница в возрасте (он был моложе) вскоре скажется, но ему это казалось нелепым, Вероника об этом, конечно задумывалась, но он умел ее успокоить, вот так начался новый период в его жизни, эпоха, пусть и недолгая, еще до того, как они поженились, в нем проснулась вдруг жажда знаний, Вероника знала больше и в самых разных областях, его это восхищало, как-то раз он принес из библиотеки Канта – «Пролегомены ко всякой будущей метафизике», перед ним распахнулись горизонты культуры, снисходительность к метафорам, чтобы не замедлять продвижения, он заинтересовался философией, в книжных магазинах он обнаружил полки, к которым никогда раньше не подходил, он уже знал, что не будет музыкантом, но еще не думал о том, чтобы стать философом, однако читал кантовские тома с увлечением, восхищался выражениями вроде «трансцендентальная дедукция чистых рассудочных понятий» или «первоначально-синтетическое единство апперцепции», они походили на заклинания, в кантовских трудах тоже открывался иной, трансцендентный, мир, и вот, вместо того, чтобы прикидывать, чем он будет зарабатывать на жизнь, когда окончит колледж, он разбирал антиномии чистого разума, это не очень-то нравилось Веронике, к тому же их сексуальные отношения были не удовлетворительными, возможно, потому, что он ее обожал, он не мог заниматься с ней любовью так, как проделывал это с безразличными ему девицами, а может быть, дело было в Веронике, но главная беда заключалась в том, что у них не было собственной квартиры, и постепенно его обожание сменилось сожалением, если хочешь сохранить любовь, не женись, так говорил один его друг, и он в этом убедился, ребенка у них не было, и они легко развелись через год, как раз тогда, когда он окончил колледж и должен был начинать трудовую жизнь – концертмейстером оперетты, в городе был музыкальный театр, и его распределили туда концертмейстером, репетировать с певцами, да, эта стезя ждет большинство выпускников музыкальных заведений – работа преподавателем, пианистом-иллюстратором в ДМШ, колледже или аккомпаниатором в опере, музыкальном театре, лишь немногие становятся солистами или профессорами консерваторий, если ты заурядный скрипач, сидеть тебе в оркестровой яме, и у него было такое чувство, будто он попал в яму, снова провал, снова неразбериха, из его жизни ничего не получалось, она не складывалась, а ему уже было больше двадцати, к этому времени все талантливые люди чего-то добивались, Щедрин закончил Академию, получив Большую золотую медаль, что давало ему право жить «на пенсию» за границей, Рембо в восемнадцать уже расстался с литературой, Кант, правда, опубликовал первую книгу в двадцать два, но к шестнадцати он уже знал, кем он будет, чем он хочет заниматься, что он сделает со своей жизнью, просто удивительно, как легко многие находят свой жизненный путь и идут по нему, никуда не сворачивая, дальше и дальше, выше и выше, он сам мечтал о таком пути, но, вместо того, чтобы упорно карабкаться, победоносно маршировать, топтался на месте, ходил кругами, он не знал, что делать с собой, воспользуемся банальным сравнением: жизнь утекала между его пальцев, как песок.
ПОВОРОТ
что же осталось от той прекрасной эпохи? каковы были последствия? самые пагубные: он проникся недоверием к людям, он и раньше не слишком-то им доверял, но мадонны были исключением, поэтому он и влюблялся, после развода недоверие стало всеобщим, никаких исключений, никаких мадонн, научиться жить, ни к кому не привязываясь, ни в кого не влюбляясь, должен найтись какой-то другой смысл, помимо любви, и если бы такой смысл нашелся, он был бы огражден, защищен от соблазнов, искушений, ни одна женщина не залучила бы его в свои силки, но где искать этот смысл, он снова начал пить, играть в карты, на самом деле он считал свою жизнь конченой, пропала жизнь, как восклицает кто-то в старой пьесе , помог случай, театр отправился на гастроли, и вот, бродя по чужом городу, где он никогда не бывал, он зашел в магазин и купил пару книг, как биограф, делаю все, что в моих силах, ручаюсь, главного не упускаю, факты привожу подлинные, но в каких-то мелочах память меня подводит, вернее, отказывает, может, это и к лучшему, иначе я увяз бы в деталях, а так облегчается проблема отбора, все к лучшему в этом лучшем из повествований, которое добралось уже до второй эпохи в жизни Гулливера, если детство, отрочество и юность объединить в одну, я не помню название первой из этих книг, зато хорошо помню, как называлась вторая: «Эренфест – Иоффе. Научная переписка», добавление «научная» было блефом, о науке там говорилось мало, Эренфест больше рассказывал о себе, Гулливер ничего не знал ни о Иоффе, ни об Эренфесте, физику в школе он не любил, хотя, как читатель фантастики, знал кое-что о современных физических теориях и проблемах, Эренфест писал Иоффе длинные письма, в которых жаловался на мрачное настроение, признавался, что у него нет никаких способностей к физике, что жизнь его не удалась, а в предисловии сообщалось, что подавленный этими мыслями Эренфест застрелился, писем Иоффе было немного, они были холодными и скучными, но письма Эренфеста удивляли своей откровенностью, и Гулливер читал их как роман, он полюбил этого человека, так похожего на него самого, не удивительно ли, профессор Лейденского университета, физик, с мнением которого считались выдающиеся ученые, жаловался, что жизнь его не имеет смысла, до этого Гулливеру казалось, что он один такой неудачник, упускающий жизнь, не способный выстроить ее, придать ей цельность, направление, теперь у него как будто появился друг, судьба Эренфеста странным образом его ободрила, он решил, что не все еще потеряно, что жизнь можно начать заново, он решил поступить в университет и стать философом, физиком он себя не представлял, тут и говорить было не о чем, с детских лет он считал физиков особенными людьми, но почему бы не сделаться философом? философы тоже были особенными, но не такими, как физики, философы были ему ближе, он просмотрел список философских факультетов и решил поступать в столичный университет, до экзаменов оставалось полгода, и он провел это время в усердных занятиях, изучая литературу, русский язык, историю, английский, он заучивал наизусть поэтические отрывки, внимательно читал прозаиков, повторял школьную программу с таким пылом, будто собирался стать учителем литературы, проштудировал несколько учебников по истории, одолел аудиокурс английского и прочел в оригинале всего «Отца Брауна», темой вступительного сочинения было сатирическое изображение высшего света у Пушкина, и он с этим справился, на устном экзамене пришлось отвечать по «Преступлению и наказанию», и с этим возникли сложности, он никак не мог предполагать, что городской пейзаж в романе играет важную роль, историю и английский он сдал без проблем, и через несколько дней увидел свое имя в списке принятых, похоже, я слишком торопливо перешел к следующей эпохе в жизни Гулливера, может быть, стоит задержаться и рассказать что-то о его супружестве, это было бы интересно для определенного круга читателей, или читательниц, ах да, все они в дальних краях, в самых дальних кругах, ау, как вам там, дорогие читательницы, не надейтесь на пересмотр дела, а что касается супружества, посмотрим, кто постучится завтра в дверь первым, ничего не предрешено.
ДОЛОЙ ИСТОРИЮ
вот что было результатом прекрасной эпохи: он убедился, что каждый любит прежде всего самого себя, думает прежде всего о себе, все рассчитывает и оценивает по отношению к себе, а другими манипулирует, даже в любви, и особенно в любви, эгоизм –окончательное слово в теории мотивации, человек заботится о другом, идет ему навстречу, интересуется им лишь до тех пор, пока это совпадает с его интересами, пока он может извлечь из этого пользу для себя, но как только баланс нарушается, помощник превращается в противника, ничего не поделаешь, так устроено, что каждый смотрит со своей колокольни, из своего подвала, держится своего маршрута, стреляет по тарелкам, которые жизнь подбрасывает специально для него, каждый стреляет по своей мишени, и поэтому каждый одинок настолько, что это даже трудно вообразить, вот к чему он пришел после года супружества, с одной стороны, это усиливало его печаль, а с другой, делало более стойким, может быть, ему этого как раз и не хватало – жесткости и внутренней независимости, он все еще искал мадонну, на коленях которой мог бы удобно устроить свою голову, теперь этим поискам пришел конец, люди его больше не интересовали, а интересовало его только устройство мира и то, что было создано людьми в искусстве и науке, ему не нужно было больше играть на рояле, и это пошло ему на пользу, так все соединилось – он отдалился от людей, его не тревожили человеческие мнения и моральные предписания, никто не имел права его в чем-то обвинять, что-то от него требовать, он был сам по себе, а они – сами по себе, и вдобавок он перестал заниматься делом, которое и было причиной его болезни, он больше не испытывал внутреннего конфликта, он поздоровел, желудочные боли прекратились, тошнота ушла, сердце его не беспокоило, он сделал лазерную операцию на глазах, и к нему вернулось нормальное зрение, началась новая жизнь, он жил в столице, в общежитии университета, прилежно посещал лекции, потом шел в библиотеку, еще он знакомился с городом, чувство провинциала, переехавшего в столицу, Париж раскинулся перед ним, перед кем? что-то такое, наверное, есть у Бальзака, не спешить, обстоятельно описать его новые обстоятельства, комната в общежитии, здание университета, лекционные аудитории, однокурсники, преподаватели, город, концертные залы, бары, погребки, ночные клубы, притоны, манежи, стадионы, художественные галереи, дома моды, фабрики и заводы, вендиспансеры и психбольницы, суды и тюрьмы, власть и оппозиция, закон и преступники, теле- и киностудии, посольства и представительства, архитектура, реки, мосты, прогулочные суда, плавучие рестораны, фейерверки, шествия и митинги, музыкальные конкурсы и театральные фестивали, и многое другое, о чем вряд ли я что-то смогу сказать, потому что у всякой обстоятельности есть мера, в сентябре, едва только начались занятия, он отыскал Большой зал консерватории и другие залы, и потом раз в две-три недели, а то и два раза в неделю, ходил на концерты, слушал, как играют известные музыканты, он по-прежнему любил музыку, хотя никогда не подходил к инструменту, стоявшему в гостиной общежития, кроме того, он привык обходить (посещать) букинистические магазины, вот этим – посещением концертных залов и книжных антиквариатов – долгое время и ограничивалось его знакомство с городом, поначалу он записался в шахматный клуб и даже играл за сборную университета, что избавляло его от обязательных занятий физкультурой, есть ли в расписании зарубежных университетов занятия физкультурой? например, в Сорбонне или Оксфорде? ни к чему сравнивать, иначе мера обстоятельности будет нарушена, история Гулливера превратится в сравнительное описание двух идеологических и социальных систем, чего я старательно избегаю, допуская анахронизмы, явные и скрытые, да, здесь рассказывается история Гулливера без всякой связи с историей, вне исторического времени и пространства, вреда для жизни от истории больше, чем пользы , в университете он прочел Шопенгауэра и Ницше, отдельные фрагменты, знание которых требовалось в курсе истории философии, он разминулся с Шопенгауэром: прочел его тогда, когда жизнь манила его интеллектуальными соблазнами, он позабыл о своей меланхолии, ипохондрии, перед ним раскрылось бескрайнее поле философствования, интеллектуальной деятельности, и он бодро шел по нему, веря, что где-то там, вдалеке, его ждет еще не обработанная территория, он ее освоит, зароет зерна, собранные по дороге, в землю, и они прорастут.
ПРИЗРАКИ И АРТЕФАКТЫ
каждая страница должна походить на чистый холст, на поле сражения между армией клише и воином-одиночкой – как художник борется с клишированными образами, так и писатель должен бороться с клише, но часто получается, что после битвы остаются только груды костей, ничего живого, поэтому нужно стремиться к тому, чтобы овладеть заклинанием «берсерк», это заклинание не уничтожает вражеский отряд, а превращает его в союзника, полная победа, подчинение своей воле всей вражеской армии, победитель становится повелителем тысяч и тысяч, повествование течет свободно, никаких препятствий, всякий, кто становится на его пути, немедленно обращается в друга, но овладеть таким заклинанием нелегко, и есть опасность, что враг применит его первым, герой, идущий впереди вражеской армии, может оказаться намного сильнее, и ему удастся сделать тебя своим адъютантом, прощайте, большие и малые надежды, будешь скакать по земле и водам призраком, тенью, симулякром третьего уровня, поэтому прежде всего постарайся отыскать брелок, который защищает от этого заклинания, если его найдет первым враг, твоя битва проиграна, не помогут никакие щиты, мечи и шлемы, о чем же рассказывать, порядок устанавливается сам собой, это я помню, но иногда приемная оказывается пуста, никого, что такое? забастовка водителей общественного транспорта? улицы закрыты в связи с террористической угрозой? нет, причем тут это, посетители есть, не хватает порядка, посетителей даже слишком много, никто не может протиснуться в дверь, так кофе не желает высыпаться из пачки, если дырка в ней чересчур мала, другое сравнение: так верблюд не может протиснуться сквозь ушко со всей своей мордой и шеей, со всеми своими горбами, хвостами, рогами и копытами, придется выбирать кого-то наугад, с помощью какого-то генератора случайностей, между прочим, он заглядывал и на другие факультеты, слушал профессоров самых разных наук, включая математические, университет, вернее, Главное здание университета и соседние с ним корпуса были особым миром, чем-то вроде Ватикана, и можно было годами исследовать подвалы и башни, переходы и закоулки, приобщаясь к различным отраслям знания, что он и делал, воодушевленный свободой, никогда он не был так свободен, впервые он жил без родителей, год брака не в счет, если хочешь найти себя, уезжай из отчего дома, правда, совсем с родителями он не порывал, они высылали ему деньги, и летние каникулы он проводил дома, но при этом он чувствовал себя свободным, огромный город, колоссальное здание университета, и звездное небо над ним, и зов, все тот же зов «Будь собой» где-то в душе, бывало, когда он выходил из корпуса после семинара, на котором ему удался ответ, и собирался в обход книжных магазинов, или уже после того, как он наткнулся в лавке на редкую книгу, его охватывало горячее, обжигающее чувство счастья, будто солнце взрывалось в груди, и жар распространялся вверх и вниз, к голове и животу, это было что-то вроде экстаза, в эти мгновения он был заодно и с собой, и с миром, как будто исполнялось его заветное желание, Главное здание располагалось на высоком холме, можно было выйти на смотровую площадку и увидеть перед (и под) собой город, так бальзаковские и стендалевские герои глядели, наверное, на Париж, чувство Наполеона, добирался ли он до этих высот? но главным было не чувство победителя, завоевателя, а чувство, что ты принят в орден и приобщаешься к знанию, он вырос в немузыкальной семье, и его интерес к музыке был вторичным, а интерес к знанию – первичным, говоря языком, подходящим для вопроса о сознании и бытии, и теперь, наконец, он нашел дорогу, чудесное это чувство – идешь своей дорогой среди прекрасных пейзажей, да еще в окружении спутников, парк в классическом духе – аллеи, решетки, фонари, фонтаны, на крышах – статуи, у входов – памятники, и лифт возносит тебя сразу на двадцатый этаж, он жил, можно сказать, на крыше мира, лонгфелловский паренек, добравшийся до вершины, судьба его победно трубила в серебряный рожок, и где-то за облаками были слышны фанфары.
НА ГОРАХ
требует ли обстоятельность, принцип обстоятельности, чтобы я рассказал о соседях Гулливера по комнате? конечно, он жил не один, и комната, само собой, не походила на те, которые показывают в голливудских фильмах о студентах, например, о Марке Цукерберге, он, кажется, тогда еще и не родился, а, может, уже научился говорить, я биограф, а не хронист, для биографии даты не так важны, как обычно думают, внутренняя жизнь протекает вне времени, вне физического времени, это давно известно, поэтому даты здесь не важны, как и сравнение комнат в общежитии Гарвардского университета с комнатами МГУ, аналогичными по назначению, но не по комфорту, а как с размерами, если подсчитать число квадратных метров на человека, то сравнение тоже будет в пользу Гарварда, комфорт в Гарварде, вероятно, создается самими студентами, все они богатые сынки и дочки, у них хватает денег на то, чтобы декорировать временное жилище, набить его разным барахлом, им это разрешается, может быть, это разрешалось и в МГУ – завесить стены коврами, постерами, безделушками, положить что-то на пол, повесить красивые шторы, светильники, поменять старые рамы на финские стеклопакеты, провести кабельное телевидение, интернет, снести перегородки или, наоборот, разделить помещение, может быть, все это и дозволялось, но Гулливер ничего об этом не знал, образ его жизни был аскетический, такого же образа жизни придерживались и его соседи, потому-то они и объединились, их интересовала только истина, и они презирали жизненные удобства, жили среди голых стен, довольствуясь самым необходимым, ни телевидения, ни Интернета (я до сих пор не пришел к мнению, как следует писать это слово – с прописной или строчной буквы, и я не знаю точно, как писать, например, «треш», «слеш», «мэшап» и другие слова, где ставить «е», а где «э», и как передать по-русски имя Rachel, хорошо еще, что имя Гулливер не вызывает таких сомнений, хотя можно было бы задаться вопрос, не правильнее ли писать и произносить его как «Гулевер», с ударением на первом слоге, без иностранных заимствований не обойтись, и не только в лексике, но и в образе мыслей, я не уверен, что смог бы написать эту автобиографию, придерживаясь другой манеры, не уверен, правда, и в том, что доведу ее до конца и этим способом, но, по крайней мере, получилось ее начать, что немаловажно, никакое предприятие не может быть окончено, не начавшись, и если конец – венец дела, то начало – его подошвы или каблуки, сделаем же каблуки прочнее и выше, если эти качества можно соединить, поднимайте стропила, плотники, беги, кролик, беги ), итак, с описанием жилища, покончено, и о Главном здании сказано достаточно, интересующиеся могут найти подробное описание в интернете (на этот раз – с маленькой буквы), там же размещены и снимки фасада и интерьеров, у читателя может возникнуть подозрение, что я взял эти описания из Сети, как и многое другое, не стану его в этом разубеждать, какой смысл спорить с призраком, с тем, кто не существует, завершая эту тему (здания и жилища), добавлю, что ГЗ вместе с соседними корпусами и прилегающей территорией (огороженной высокой решеткой) составляло как бы отдельный мир, отдельную страну, в которой можно было жить месяцами, не выбираясь за ограду, в «город», не пользуясь общественным транспортом, не сталкиваясь с «горожанами», университет и город были разделены как Ангулем и Умо, и нравственно разъединены еще больше, чем физически, Ангулем славился в ближайших провинциях как город, где получают хорошее воспитание, Гулливер не был более обывателем Умо, он жил в верхнем Ангулеме , и в город выходил только для того, чтобы посетить концертный зал или книжные магазины, по натуре он был аскетом, это ясно из описания его детства, аскетизм соединялся с чувством аристократизма, так бедный Дон Кихот считал себя благороднее многих богачей, потому что стремился к высокому и высочайшему, раскрывшиеся перспективы так захватили Гулливера, что поначалу он принялся читать не только специальную, но и художественную литературу, до Сервантеса он не добрался, зато прочел многое из Гофмана, если кому-то покажется странным такой выбор чтения, я напоминаю ему, что он, как читатель, не существует, даже в образе тени, и его мнение никого не интересует, в том числе и меня, автора этой истории.
ЗЛАЯ ЗВЕЗДА ГУЛЛИВЕРА
я остановился на Гофмане, случайная остановка, хотя имя не случайно, это выяснится из дальнейшего, так я предполагаю, нет гарантии, что мои предположения оправдаются, может быть, Гофман больше не вернется, но это не повод, чтобы говорить о нем сейчас, если не вернется, тем лучше, вместо него явятся другие, Бротиган, например, а может быть, Брет Истон Эллис, да мало ли кто, двери раскрыты настежь, круглосуточный прием без предварительной записи, такой выдался денек, в какой же отрасли философского знания специализировался Гулливер? он выбрал логику, и сделал это под влиянием лекций, конечно, лекции читались и по другим предметам, но ему больше нравилась манера преподавателя, знакомившего первокурсников с основами логики, он был искренне увлечен предметом и как бы индуцировал эту увлеченность в студентах, почему я не сказал «передавал», это не требовало бы никакого предлога (верного или неверного), достаточно было бы поставить дополнение («студентам») в дательном падеже, может быть, потому, что предчувствовал: речь скоро пойдет об индукции, и вот уже она началась, выбрав логику, он позднее сузил свои интересы до индуктивной логики, тема курсовой работы должна быть сужена до частного вопроса в каком-то разделе логики, и ему показалось, что он может сказать что-то интересное на тему миллевских правил, заблуждение, самообман, неизбежный для студента младшего курса, и поскольку на кафедре не было специалистов по теории индукции, никто его от этой затеи не отговорил, так он начал изучать раздел логики, ставший в то время (чего он еще не знал) актуальным, благодаря статьям Карнапа и финских логиков, но для работы в этой области требовалось отличное владение математикой, и не алгеброй, а теорией вероятности и анализом, не догадываясь об этом, он потратил много времени на чтение старых учебников и вложил в эту работу столько труда, что потом уже ему трудно было от нее отказаться, он следовал своему давнему принципу упорства, как я следую в этом повествовании принципам обстоятельности и последовательности, были еще какие-то скрижали, не могу вспомнить, но когда придет их время, они вспомнятся без труда, я уверен, нужно ли объяснять, что такое индукция, позднее этим наверняка придется заняться, но сейчас можно оставить без объяснений, и не из сочувствия к читателю, читателя нет нигде, ни близко, ни далеко, итак, не из сочувствия к несуществующему читателю, которого я помучу позднее, а из соображений момента, в чем бы они не заключались, только отступления и помогают продвигаться вперед, в чем же заключаются эти соображения, в усталости, ощущении близости конца страницы, желании посмотреть (в записи) матч Магуайр – Свейл из первого раунда Большого финала PTC (Голуэй, Ирландия), я уже знаю, что Свейл показал фантастический comeback – проигрывая 0:3, выиграл 4:3 у шестого номера мирового рейтинга, а ведь Свейлу уже сорок три, и он ушел из профессионалов, такие примеры воодушевляют, ободряют, биться до конца, не терять надежды, и даже потеряв, продолжать сражаться, писать автобиографию, историю Гулливера, историю о том, как Гулливер стал лилипутом, если я правильно помню исходный замысел, не уверен, но даже потеряв уверенность, следует держаться курса, вперед, к островам, то есть к концу страницы, 67 строк, сколько строк в полной странице Ворда? индукция, позвольте вам объяснить, – это способ умозаключения, противоположный дедукции, так пишут в старых учебниках, и если последний способ (дедукция) представляет собой выведение частного из общего, то первый (индукция) – выведение общего из частного, что выглядит логически невозможным, и тем не менее практикуется под названием inductio, то есть «наведение», не хватает еще трех строк, заполним их примерами, «все люди смертны; Гулливер – человек; следовательно, Гулливер смертен» – это дедукция, «доктор Бетс умер, и дядя Джон умер, и все, находившиеся на борту «Антилопы», кроме Гулливера, тоже умерли; следовательно, каждый человек, родившись, когда-нибудь умрет» – это индукция, не то чтобы Гулливер был не согласен с этим выводом, он считал его убедительным, но ему хотелось прояснить логическую структуру, найти критерии, отличающие правильный индуктивный вывод от неправильного, вот этим он и занялся и продолжал заниматься все годы обучения, хотя вскоре понял, что, как и прежде, сел не на тот корабль, он попытался сделать в пути пересадку, но из этого ничего не вышло, такова была его злая звезда: выбирать костюм не по росту.
КРИТИКА ИДЕОЛОГИЙ
прежде чем двигаться дальше, оговорка, которой я, кажется до сих пор не пользовался, не в том смысле оговорка, что сказано неправильно, а в том, что здесь оговаривается некое условие, прежде чем двигаться дальше, упомяну о том действии, которое оказало на Гулливера занятие спортом – бегом и шахматами, особенно шахматами, потому что бегом он занимался совсем недолго, а вот увлечение шахматами растянулось на десятилетия, играя в шахматы, он познал радость побед и горечь поражений, замечательное клише, было бы грех его не использовать, тоже клише, насколько они облегчают дело, просто диву даешься, рассказ идет как по маслу, он научился переносить поражения, важный урок, этому учит спорт – тех, конечно, кто способен учиться, у Гулливера еще раньше, независимо от шахмат, сложился идеал оловянного офицера, стойко переносящего удары судьбы, судьба всегда бьет, а что она еще может делать, например, поражать стрелой, стрелы судьбы, удушать, отравлять, способы, которыми можно покончить с человеком, многообразны, но судьба, кажется, прибегает только к двум, ударам и стрелам, и шахматы развили в нем эту стойкость, и вообще привили вкус к состязанию, или, если этот вкус был у него и раньше, развили его, как развили стойкость, случалось, он проигрывал одним ходом уже выигранную партию, раны затягиваются, но шрамы остаются, так профессиональный снукерист всю жизнь помнит незабитый шар, который мог бы принести ему титул, и даже не такие важные шары, пусть не все, но некоторые, так и Гулливер помнил свои ошибки, он научился жить с этими шрамами, вся его память была в шрамах, рубцах, а некоторые раны еще не затянулись, кровоточили, но получены они были, конечно, не за шахматной доской, с шахматами он простился, он больше не играл за сборную, не интересовался матчем на первенство мира, он весь ушел в изучение проблемы индуктивного знания, работа осложнялась отсутствием нужной литературы, этого он тоже не мог предположить, когда выбирал тему, постепенно перед ним вырисовывалось истинное положение дел в этой области и в философии вообще, достаточно было сравнить число англоязычных философских журналов с числом «два» – столько философских журналов издавалось в его отечестве, но еще нагляднее было сравнение качества печати – бумаги, шрифта, полей, обложек, – даже не обращаясь к содержанию, можно было понять, что с философией в стране дела если и шли, то хуже некуда, обращаясь же к содержанию, непредвзятый читатель быстро понимал, что дела могут идти еще хуже, или, вернее, что дел на самом деле никаких нет, формальная логика была единственной областью, где что-то делалось, но очень мало, вся философия, вместе с академическим Институтом, профессорами, академиками, была лишь потемкинской деревней, клише, симулякром, клише, кажимостью, еще одно выражение, сделавшееся клише, благодаря авторитету классика, проще: видимостью, камуфляжем, декорацией, Гулливер угодил в ловушку, предназначенную для пытливых умов, так создаются мнимо-оппозиционные партии, чтобы отбирать электорат у настоящих оппозиционеров, но задача, конечно, была не только в этом, и в последнюю очередь в этом, я не стану пересказывать труды Манхейма, Поппера, Адорно, Хоркхаймера и прочих, вот с какой литературой имел дело Гулливер, получая к ней доступ, как студент философского факультета, что, может быть, и не соответствует действительности, поскольку для этого ему потребовалось бы специальное разрешение, основанием которого мог быть только документ с указанием, что он пишет курсовую работу на соответствующую тему, то есть работает над критикой критиков идеологии, проблемы же индуктивной логики к этой критике не имели прямого отношения, хотя Карл Поппер и написал о ней немало, другие студенты читали перепечатанные на машинке труды Бердяева, но он учился критике идеологий у неопозитивистов венской школы, косвенно, читая их статьи о языке и познании, я умышленно позволяю себе эту терминологию, без нее не обойтись, я пишу интеллектуальную биографию, то есть биографию отдельно взятого интеллекта, и мне плевать на читателей, которые этих терминов не понимают, плевать, конечно, я на них не могу, их попросту нет, это клише, одно из многих, тех клише, которые облегчают рассказывание, делают его легким и приятным, и вот так, незаметно, я добрался до конца страницы и даже перешагнул, переполз, преодолел, я уже на второй странице, какое достижение, ведь с утра казалось, что и первой не написать.
ОСЕЛ И ОБРУЧ
как я могу описать ситуацию Гулливера, рассказать его историю, не говоря о ситуации в стране, пусть я пишу биографию души, а не человека, предполагая, что душа более независима от обстоятельств, нежели человек, убрав «нежели» и поставив «чем», получим неудобопроизносимое «чемче», однако стилистически «нежели» того же рода, что и «ежели», решить эту дилемму можно только одним способом: написать «нежели», а потом сделать оговорку, как бы отменяя написанное, вот так я и продвигаюсь вперед, от «нежели» к «ежели», от дерева к дереву, от острова к острову, что бы это ни означало, в условиях закрытых границ, спецхранов и прочих государственных мер по охране территории, интеллектуальной и географической, семантическая связь здесь, похоже, нарушена, но скучно смотреть на человека, который шагает, не оступаясь, вот он запнулся, улыбка вместо зевка – хорошее достижение, итак, в этих условиях профессионально заниматься можно было только геологией, физическими науками и математикой, предпочтительнее последней, даже стать шахматистом-профессионалом было неимоверно трудно, если иметь в виду звание международного гроссмейстера и регулярное участие в международных турнирах, с логикой дело обстояло примерно так же, даже хуже, потому что, кроме формальной логики, существовала логика диалектическая, и они бились друг с другом, не на жизнь, а на смерть, как доисторические ящеры в передачах канала Discovery, хотя доисторической можно назвать только одну из этих логик, другая же была более поздним видом, при отсутствии профессиональных контактов, профессиональной литературы сделать что-то толковое, изобрести что-то новое в логике было невозможно, Гулливер убедился в этом уже на втором курсе и попытался перейти на механико-математический факультет, чтобы заняться математической логикой, с которой все было иначе, потому что математическая логика рассматривалась как раздел математики, но такой переход не предусматривался ни правилами, ни исключениями, Гулливеру пришлось бы сдавать вступительные экзамены наравне с другими абитуриентами, поэтому он был вынужден заниматься тем, чем и занимался, индукцией, и это привело к катастрофическим последствиям для его веры в разум, потому что итогом программы Карнапа по созданию индуктивной логики был разрушительный вывод: индуктивной логики без произвольных допущений не существует, и не в том беда, что научные законы следует считать вероятными, а в том, что нет никаких рациональных оснований приписывать им хоть какую-то вероятность, понятно ли я говорю, разумеется, непонятно, разумеется, я говорю невразумительно, для кого, сам-то я все понимаю, разумею, и этого достаточно, дальше, дальше, и еще дальше, дальше как только можно, все эти книги и статьи, критикующие разум, Гулливер читал в Библиотеке иностранной литературы, и не только читал, но и копировал, по двадцать страниц из книги за раз, больше не разрешалось, его новым увлечением стало собирать библиотеку из ксерокопий, затраты были велики, но родители ему помогали, не догадываясь, конечно, на что идут деньги, в библиотеке, дожидаясь, пока принесут заказанные журналы и книги, можно было полистать альбомы Дали, дизайнеров моды и рекламы, перед Гулливером постепенно раскрывался мир чужой культуры, настолько чужой, что она, казалось, существовала на другой планете, в другой галактике, иногда скрижаль обстоятельности тянет вниз, как мельничный жернов, привязанная к телу, я был так расстроен, что не заметил, как по дороге к месту моего ночлега у меня слетела шляпа, которую я привязал к подбородку шнурком, когда греб в лодке, и плотно надвинул на уши, когда плыл по морю, вероятно, я не обратил внимания, как разорвался шнурок, и решил, что шляпа потерялась в море, беглец со скованными руками прыгает в воду, камнем на дно, чуть погодя всплывает лишь шляпа , я стал махать ночным колпаком (моя шляпа давно уже износилась) и платком по направлению к острову , вперед, к островам, в шляпе или без шляпы, но я до них доберусь, есть у меня скрижаль с золотой надписью «ты должен» , ее-то я не потеряю, поднимаешься на вершину ослом, а катишься с нее обручем , вот такие дела .
КРУШЕНИЕ РАЦИОНАЛИЗМА
в серии «для научных библиотек» издательством «Наука» (или каким-то другим) издавались переводы философских трудов, написанных авторами с другой планеты, инопланетянами, ограниченным тиражом, распределялись сразу по библиотекам, минуя магазины, иногда, каким-то чудом, можно было наткнуться на книгу из этой серии в магазине или приобрести ее у перекупщика (в пять раз дороже), один такой томик Гулливеру привез из Софии однокурсник, болгарин, сын академика Болгарской академии наук, только так и можно было получить эту книгу («Структура научных революций» ), о которой Гулливер много слышал, он мог прочесть ее в библиотеке, но ему все было недосуг, находилось чтение поважнее, зато теперь, когда она была в его личной собственности, и он мог открыть ее в любое время дня и ночи, он ее прочел, и она убедила его, что здание науки стоит на сваях, уходящих в болото, кажется, это метафора из книги другого автора, может быть, Карла Поппера, да, были и другие книги, в которых доказывалось то же самое, а Пол Фейерабенд, например, даже предлагал отделить науку от государства, классический рационализм был потрясен и сокрушен, его место заняли «критический рационализм», «методология исследовательских программ» и другие пост-рационалистические теории, объяснять суть которых было бы утомительно, и даже принцип обстоятельности не заставит меня это сделать, лучше подвести черту, сделать резюме: Гулливер, с его интересом к «мировым загадкам» и желанием хоть в чем-то обрести абсолютную истину, вновь оказался с пустым неводом, у разбитого корыта, никакой золотой рыбки в океане знания никогда и не водилось, прав Коперник или прав Птолемей, что вокруг чего вращается – это вопрос праздный, другими словами, бессмысленный, истина – вопрос эффективности, прагматического удобства, чтобы ее открыть нужна, конечно, незаурядная изобретательность, настойчивость, герои науки по-прежнему оставались героями, но искать прагматическую истину Гулливеру почему-то не хотелось, для конструирования же формальных систем ему не хватало математической подготовки, широкие горизонты снова сузились, ворота захлопнулись, Гулливер увидел себя на том же месте, он никуда не продвинулся, прошло пять лет, и за это время он так и не научился ничему дельному, он мог, конечно, остаться в столице, преподавать логику, защитить диссертацию, стать доцентом, профессором, но все это – ради денег: обычный способ тихо провести зрелость, старость и благополучно дотянуть до гроба, но чего же еще он ждал от себя, от жизни? может быть, он хотел сделать что-то выдающееся, оставить свой след в истории? да, что-то вроде этого, недаром же он читал Жюль Верна и других фантастов, гулял среди бюстов в парке перед главным входом, он все еще думал, что жизнь приготовила для него пьедестал, и ему нужно только найти этот постамент и взобраться на него, он все еще верил, что ему дано какое-то задание , что у него в жизни есть какая-то миссия, исполнив ее, он отправится пировать в Валгалле вместе с другими героями, что-то такое вертелось у него в голове или, вернее, таилось, рождая чувство неудовлетворенности тем, что он имел и чего еще мог достичь, если бы не искал ничего другого, а ведь ему уже было сильно за двадцать, почему бы так не сказать, он был ближе к тридцати, чем к двадцати пяти, годы летели, жизнь проходила впустую, никакой добычи, никакого урожая, никакого улова, он получил диплом и поступил в аспирантуру, приятнее было бы сказать: «докторантуру», магистр философии – это звучит красиво, но система научных званий в стране отличалась от традиционной, поэтому он и не стал шахматным мастером, а имел лишь звание кандидата в мастера, даже в этом ему не повезло, как и многим другим, такова была система – десятки тысяч кандидатов в спорте и науке проводили жизнь в этом подвешенном состоянии: не перворазрядники, но и не мастера, не магистры, но и не доктора, в этой стране вся жизнь казалась какой-то нереальной, подвешенной, правильнее сказать, отложенной, все откладывалось на будущее, начиная с построения коммунизма, и еще это напоминало зависшую программу: компьютер гудит, что-то в нем делается, но результата никакого, ничего не меняется, и такое гудение может продолжаться сутки, месяцы, годы, десятилетия, я как будто объясняю свои неудачи недостатками системы, а разве я не прав, в других условиях у меня были бы шансы стать мастером спорта или доктором философии, что я говорю, какое противоречие, разве это нужно было Гулливеру, скрижаль: никаких объяснений, только факты, и не такие мелкие, гладкие, как пляжная галька, а крупные, грубые, как глыбы, вырубленные из скалы.
КОЕ-ЧТО НОВОЕ О ГУЛЛИВЕРЕ
в детстве он часто скучал, дожидаясь возвращения матери, и постепенно эта скука приобрела всеобщий характер, стала постоянной, ожидал он, правда, уже не мать, а кого-то другого, чего-то другого, что-то должно было произойти, сейчас я выражусь отчетливее, если сумею, намерение такое у меня есть, если бы произведения оценивались по намерениям, это, без сомнения, заняло бы одно из первых мест в списках бестселлеров, в академических канонах, если говорить о жизни вообще, то ждал он не возвращения, а появления кого-то извне, а может быть, какой-то мысли в собственной голове, он хотел обрести цель, которой бы подчинялись все его поступки, так чтобы ни одно действие или бездействие не уклонялось от этой цели, тогда у него был бы критерий, помогающий определить, что нужно делать, а чего следует избегать, верно ли он поступает сейчас и верно ли поступал в прошлом, это было бы что-то вроде пробирного камня, жизненного алгоритма, его часто раздирали противоречивые желания, например, сделать уроки или сходить в кино, он хотел исполнить долг (ученический и сыновний), но хотел и сходить в кино, часто случалось так, что выполнить оба желания, одно за другим, не удавалось, и тогда приходилось выбирать, или вот еще пример, рукоблудие, мой спасительный круг, чуть было не сказал «скрижаль», часто ему одинаково хотелось и предаться мастурбации и воздержаться от нее, эти примеры не доказывают, не показывают того, что я собирался доказать или показать, ведь в каждом из этих случаев он знал, что нужно делать, недаром же я сказал: борьба долга и желания, но если углубиться в проблему, то окажется, что представление о надлежащем не обладало надлежащей силой потому, что неясны были основания его надлежания, то есть возвышения над чем-то, обретающимся внизу, вправе ли был доктор Моро мучить животных на острове или нет? прав ли был Поль Гоген, бросивший жену и детей ради жизни художника-одиночки? последний вопрос особенно волновал Гулливера, потому что он часто поступал вопреки желаниям родителей, да и позднее развелся с женой, стремясь к одинокой самостоятельной жизни, совсем как Гоген, вот только дела у него не было, в его жизни не было той страсти, какая была у Гогена, Поль много лет плавал юнгой, работал биржевым брокером, но при этом всегда хотел рисовать, живопись была его страстью, и Гулливер хотел бы иметь такое дело, ради которого можно было бы пожертвовать всем остальным, его привлекал образ Гаттераса, на север! ему нравились жюльверновские и уэлссовские чудаки, полупомешанные, сосредоточенные на одной идее, да, ему хотелось иметь какой-то идефикс, жизнь тогда значительно был упростилась, он жил бы в бедности, один, занимаясь любимым делом, у него не было состояния, как у Гаттераса, но он согласен был и на жизнь Гогена, вот только не хватало алтаря, на котором можно было бы принести все эти жертвы, одно время таким алтарем была музыка, потом шахматы, потом философия, но алтари эти рассыпались, будто изъеденные древоточцем или ржавчиной, или еще по какой-то причине, а без алтаря жизнь казалась бессмысленной, были еще алтари любви, но после развода Гулливер не обращал на женщин внимания, они для него перестали существовать, он плыл на яхте, одинокий и независимый, как путешественник Конюхов, и никто не следил за его продвижением, как следили за продвижением Конюхова, да и цели у него не было такой, как у Конюхова, хотя в итоге все получалось похоже: он наматывал в своей жизни круг за кругом, его жизнь шла по кругу, жизнь-кругосветка, для Конюхова обойти на лодке земной шар, вернувшись в исходное место, значило победить, а для Гулливера это было поражением, вся жизнь его была поражением, так, вообще говоря, живет большинство людей, но Гулливер считал себя предназначенным для чего-то другого, достойным чего-то другого, несмотря на все неудачи, он хотел чего-то добиться, складывается впечатление, что он хотел добиться бессмертия, это мысль, что бы я ни наговорил раньше о его пренебрежении славой (наверняка я что-то об этом говорил), он жаждал ее, он боялся смерти и надеялся оставить в веках хотя бы имя, правдивый факт, самый правдивый из всех приведенных, другие тоже правдивы, ничего, кроме правды, Гулливер мог бы провести жизнь в безвестности, если бы у него была мадонна, как у рыцаря Тогенбурга, но мадонны не было, и любовь заменило желание славы, то же самое произошло и с Марией Башкирцевой, почитайте ее дневники, и вы увидите, как, разочаровавшись в любви, она бросилась искать славы, в случае Гулливера эти два стремления, возможно, уживались, то есть существовали одновременно, и когда одно захирело, другое, естественно, взяло верх, он искал дела, которое принесло бы ему славу, отлично, я выбрался на укатанную дорогу, дальше будет легче, а пока оставим Гулливера в том положении, в котором он оказался, дипломированный философ, подающий надежды аспирант, не знающий, что ему делать в жизни, вот тут-то он и начал читать Гофмана и Ницше, хотя Гофмана он читал раньше, он читал его на первом курсе и сейчас лишь перечитывал, кому придет в голову читать и перечитывать Гофмана, я вижу столбовой указатель с надписью: литература.
ПОСЛЕДНИЙ ГОД
желание прославиться сильно в нас до невероятия , и те, кто пишет о презрении к славе, ставят на книгах свои имена, никуда не деться от этого, любовь и голод правят миром, и если погреб, холодильник полон, голод превращается в желание славы, которое, по мнению некоторых, есть лишь замаскированное стремление к власти, любовь и стремление к власти правят миром, те, кому не везет в любви, идут в политику, становятся министрами, президентами, госсекретарями, диктаторами, полковниками, генералами, крестными отцами, а некоторые стремятся сделать себе имя в искусстве, науке, спорте, космонавтике, шоу-бизнесе, экстремальном туризме и где-то еще, например, в протыкании, разрезании и прижигании частей своего тела, путей, ведущих к вершине, много, и по этим склонам карабкаются миллионы, среди них был и Гулливер, грезы любви отвлекали его от этой цели, но когда они рассеялись, вершина славы предстала перед ним во всем великолепии, словно Юнгфрау, вся его жизнь озарилась ее сиянием, в этом слоге есть что-то праздничное, устроим праздник вольности, жизнь коротка, жить настоящим, секс, наркотики и так далее, какой рокер не мечтает о славе, чувак, ты только прикинь, мы никогда бы не имели таких красоток, если бы не рок, женщины падки на имена, больше, чем на богатство, пусть рожа у тебя похожа на порвавшийся барабан, но ты сделаешься кумиром, Гулливер, следовательно, искал такого дела, в котором он мог бы прославиться, самое простое объяснение всех поворотов его жизненного пути, методологическое правило: из двух гипотез выбирай ту, что попроще, новая скрижаль с выбитой на ней старой истиной, самых больших успехов добивается тот, в ком это стремление подавляет все остальные, что, по-твоему, Санчо, принудило Горация в полном вооружении броситься в глубину Тибра ? что побудило Кортеса сжечь свои корабли? настало время и для Гулливера – жечь корабли, один корабль, жечь мосты, он так, собственно, всегда и поступал – сжигал прошлое в надежде на лучшее будущее, позади простиралась выжженная пустыня, жажда почестей делает людей способными на громадные усилия, и тогда они могут совершать чудеса, Гулливер всегда верил в силу воли, не так он верил в свои способности, как в свое упорство, способность пожертвовать всем ради одного, можно, конечно, спросить: не был ли этот мазохизм изначальным, то есть он жертвовал и сжигал не ради будущего, а ради своего прошлого, если принять, что характер формируется пережитым или является врожденным, прошлое довлеет, господствует, воля человека не меняется, velle non discitur, как говорит Сенека, а вслед за ним – Шопенгауэр, человек стремится к чему-то не потому, что считает это наилучшим, а наоборот, считает это наилучшим, потому что так устроена его воля, его хотение, так устроен он сам, часто во вред себе, носит в уме и сердце семена саморазрушения, они прорастают и приносят плоды, горькие, ядовитые, странным временем для Гулливера было лето после окончания университета: он остался в столице, жил на тех же горах, на семнадцатом этаже, ожидая экзаменов в аспирантуру, однокурсники разъехались, никаких занятий, никаких встреч, предоставлен самому себе, изучал математику, пытался решить логическую задачу, но при этом чувствовал, что работает впустую, свободного времени оставалось порядочно, нельзя же сутки заниматься теорией вероятностей или доказывать полноту логической системы, он много слушал музыки – Баха, Листа, Вагнера, в сочинениях двух последних гремели барабаны и фанфары славы, но Гулливер был слишком слаб, чтобы увидеть в них родственные души, он скрывал от самого себя свое тщеславие, точнее, стремление к славе, безоценочно, не предрешая вопроса о том, что это такое – порок или добродетель, славу он называл матерью доблестей (Диоген о Бионе), самые лучшие всего более руководствуются славой и так далее, но Гулливер хотел изгнать из себя слабость, неуверенность, чувство поражения, поэтому он и слушал Листа и Вагнера, сегодня я дал волю стремлению к истолкованию, не просто излагаю, а еще и интерпретирую, забвение всех принципов и скрижалей, надеюсь, что временное, худший вид литературы, это известно со времен Стайн, читал ли Гулливер Стайн? нет, а Хемингуэя? да, и много, вернемся назад, на пятом курсе, убедившись в бесплодности своих попыток сделать что-то в логике, он принялся читать художественную литературу, голый факт, никаких интерпретаций, затем следует перечисление авторов, которых он читал, будущее время: последует, я уже, кажется, говорил, что наступило время литературы, неужели он решил стать писателем? здесь напрашивается какое-то сокращение, типа lmfao, или icsl, чудесные времена Интернета, текстовой редактор упорно переделывает первую букву в заглавную, ему лучше знать, хотя часто он попадает впросак, например, подчеркивает красным слово «прозак», возможно, я оговорил Гулливера, возвел на него поклеп, навел навет, ведь есть два рода славы: одна – в небесных эфирных пространствах, а другая – здесь, на земле, и факты, голые факты, свидетельствуют, что Гулливер больше мечтал о первой, чем о второй, допущение противоположного – домысел, интерпретация, а им здесь не место, никаких домыслов, аргументов, только факты, в последний год своего пребывания в столице Гулливер усердно читал художественную литературу, он даже купил биографию Хемингуэя на английском, написанную Бейкером, вот все, что я хотел об этом времени сообщить, может быть, мне вспомнятся еще какие-то факты, но истолкований не будет, конец празднику, выходят уборщики и сметают шутихи и конфетти.
III
…библиотеки их не очень велики. Так, например, королевская, считающаяся
самой значительной, заключает в себе не более тысячи томов,
помещенных в галерее длиною в сто двадцать футов,
откуда мне было дозволено брать любую книгу.
Джонатан Свифт. «Путешествия Гулливера»
…я и не знаю, стоит ли продолжать. Я имею в виду: продолжать
производить опись имущества в соответствии, возможном,
но маловероятном, с фактами, и не лучше ли мне
бросить это все…
Сэмюэль Беккет. «Мэлон умирает»
ЛЕЧЬ НА ДНО
нелегко быть репортером, придерживаться фактов, только фактов, не сообщать читателям ничего, кроме фактов, воздерживаясь от интерпретаций, таковы заповеди репортера, его скрижали, с которыми он сверяется, даже если знает, что никаких читателей нет, он с ними давно разделался, но когда все солдаты полегли, остается еще воинский долг, честь офицера, так, значит, читатели были, но он послал их на смерть, я послал их на смерть, заранее, еще до сражения, чтобы не мешали мне исполнять свой долг, хитро, любопытно, в каком я звании, генерал? полковник? мой долг в том, чтобы рассказать об увлечении Гулливера литературой, это произошло так, снова интерпретации, нельзя ли назвать это реконструкцией? как ни назови, запрещена ли интерпретация репортеру? может быть, интерпретация – дело аналитика? в любой редакции есть аналитики и репортеры, почему я решил ограничиться жанром репортажа, не помню, но были какие-то основания и, видимо, веские, теперь уже ничего не поделаешь, держаться выбранного курса – первая (или вторая) скрижаль, это так утомительно, позволительны ли передышки? кофейные паузы? перерывы на ланч? выходные? отпуск, в конце концов? разуверившись в науке, в объективной ценности ее гипотез, Гулливер начал погружаться в свой внутренний мир, как подводная лодка, получившая пробоину, затоплено два-три отсека, потеряна плавучесть, субмарина медленно падает на дно, так было и с Гулливером, лишившись опоры во внешнем мире, он отступил в мир внутренний, в котором он когда-то и жил, пока не выбрался наружу, не помню уж, благодаря чему или кому, вода была его родной стихией, он был кем-то вроде человека-амфибии, с ним обращались ненадлежащим образом, и он утратил способность дышать легкими, теперь он мог жить только под водой, жить не умом, а сердцем, он вдруг проникся жалостью к самому себе, вспомнил детские мечты, юношеские грезы, а что еще оставалось делать, отступить можно только в детство, он дезертировал из объективной действительности и регрессировал в действительность субъективную – к тем временам, когда он находил себя, чувствовал себя «при себе», «в себе», «для себя» только в музыке и книгах, он снова начал слушать Шуберта и Шопена, покупал фантастику – англоязычные пингвиновские издания, распродал книги по философии и на вырученные деньги купил художественные альбомы, в столице можно было купить много такого, что невозможно было купить в провинции, его потянуло к искусству, потому что искусство было эмоциональным, субъективным, в нем он хотел увидеть отражение своего «я», он заинтересовался своим «я»: что оно собой представляет? «я» человека не сводится к его делам, а раз так, то нельзя ли заниматься своим «я», не занимаясь ничем другим? этим, конечно, и занимаются мудрецы, но он имел в виду что-то другое, на этом реконструкция (интерпретация) заканчивается, маршируют факты, дорогу фактам, каким-то образом ему попался сборник Верхарна, уже не припомнить, каким, разве что под гипнозом, он читал стихи в той же Библиотеке иностранной литературы, факт, однажды он пересек улицу и купил билет на сеанс в соседнем кинотеатре, показывали «Ложное движение» Вима Вендерса, без перевода, он ничего не понял, его жизнь тоже была ложным движением, это он понимал, до сих пор он старался сузить свои интересы, ограничить их логикой, надеясь за счет такой аскезы чего-то добиться, великие ученые, все они были фанатиками, у Эренфеста были широкие интересы, не потому ли он и сделал так мало, меньше, чем Иоффе, об интересах и кругозоре которого Гулливер ничего не знал, но полагал, что они были значительно уже, и теперь он избавлялся от этого ярма, перед ним снова раскрывались горизонты, так бывало каждый раз, когда он делал поворот, выбирал новую цель в жизни, разочарование сменилось надеждой, единственное, что его угнетало, – неизбежное расставание с Москвой, концертными залами и библиотеками, в том случае, если он решил бы уйти из аспирантуры, он не хотел соглашаться на компромисс, распыляться, заниматься и тем, и этим, ему нужна была свободная голова, чтобы заниматься новым делом (каким?), он готов был пойти на завод чернорабочим (факт), но по правилам того времени выпускников университетов на такую работу не брали, он мог бы жениться во второй раз, например, на девушке из Подмосковья, с которой он познакомился, когда курс отправили на военные сборы (отдельная глава – военная подготовка, после которой он научился разбираться в двигателе, электропроводке, смазочных маслах, снарядах и пушках, гранатах и револьверах, газах и противогазах, получил звание младшего лейтенанта и специальность: командир бронемашины), но такая мысль избегала его головы, об этом он даже не думал, следовательно, оставалось одно: вернуться к родителям, но не блудным сыном, а кем-то вроде засекреченного спецагента, ничего не рассказывая им о перемене, но чем же его увлек Верхарн? и читал ли он что-нибудь из современной литературы? ходил ли в театры? в музеи? и что он, собственно, собирался делать со своим «я»? к чему все клонилось? обширное поле фактов, никакой механизации, приходится собирать вручную.
ЖИЗНЬ И ВЫМЫСЕЛ
если до сих пор читатель (не существующий) верил хоть немного моим историям, то теперь он, скорее всего, посчитает их чистым вымыслом, и ошибется, рассказывая об увлечении Гулливера поэзией Верхарна и прозой Гофмана, я так же правдив, каким был до этого, с самого начала, никаких преувеличений, искажений, подчисток, заповедь репортера, если бы эта книга не была абсолютно правдива, она не имела бы никакого смысла , происходящее в жизни часто нелепо, с точки зрения вымысла, и нелепость эта устраняется только тем, что жизнь правдива, основополагающие принципы у жизни и вымысла различные, вымысел, чтобы быть правдивым, должен избегать копирования жизни, а жизнь, чтобы быть правдивой, должна оставаться самой собой, впрочем, можно ли считать это принципом? ведь жизнь не может изменить себе, даже умирая, принципами должен руководствоваться повествователь, а жизнь обходится без принципов, все, что происходит, происходит необходимо, как можно предъявлять какие-то требования силе тяготения? закон тяготения нельзя назвать принципом, не буду объяснять, почему, что же Гулливер нашел в сочинениях Гофмана? почему он заинтересовался этим старинным автором и заинтересовался настолько, что прилежно скупал все тома на немецком, издававшиеся в одной стране Восточного блока и продававшиеся в магазине «Дружба народов», не зная языка, но надеясь выучить его когда-нибудь для того, чтобы прочесть Гофмана, все десять томов, из которых он успел купить только половину, а чем его заинтересовал Верхарн? к стихам он до сих пор был равнодушен, точнее, до каких пор? дата неизвестна, возможно, отдыхая на каникулах дома, он читал тома Библиотеки всемирной литературы, Гофман увлек его своим безудержным романтизмом, хорошее слово – «безудержный», не зная удержу, неудержимо, чем дальше, тем язык становится все архаичнее, еще бы: скоро исполнится двести сорок лет со дня рождения Гофмана, как далеко он регрессировал, образ одинокого музыканта, капельмейстера Крейслера, различающего голоса других, высших, миров, напоминал ему его самого, конечно, это был регресс, но он думал, что вернулся на верный путь, с которого сбился, когда поступил в университет, жить чувством, а не умом – так он это для себя сформулировал, он искал свое «я» и решил, что его «я» похоже на «я» капельмейстера Крейслера – страстное, романтическое, живущее тоской по высшему миру и ничего не желающее знать о мире низшем, то же самое он нашел и в ранних стихах Верхарна, он снова представлял себя звездным мальчиком, попавшим в чуждый, суровый мир, какой регресс, явные признаки психического заболевания, в то время, наверное, он совершал много чудных поступков, в его костюме ничто не поражало, не бросалось в глаза, и все-таки внешность его обличала нечто странное, необычное , но не то же ли самое можно было сказать и об окружающей его жизни, страна сама себе присвоила статус резервации, под видом «работы для будущего» сохранялись многочисленные пережитки прошлого, в этих условиях нелегко было оставаться здравомыслящим (если ты хотел чего-то иного, кроме конуры и ошейника), все вокруг казалось нереальным, реальность скрывалась где-то за горизонтом, куда уходило солнце, в картинах Дали было больше реального, чем в полотнах советских художников, и в работах Поппера было больше реального, чем в трудах все философов-академиков, еще больше реального было в сочинениях Ницше, которого он тоже усердно читал, разочаровавшись в познании и науке, именно из стремления к реальности и происходили все его чудачества, этим он напоминал Крейслера, дикого, безрассудного человека , если человек слышит зов иного мира, в этом мире он становится чудаком.
НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР
иногда я думаю, что нужно как-то прояснить отношения между мной и Гулливером, может сложиться (и уже складывается) впечатление, что я и Гулливер – одно лицо, только в разное время жизни, ошибка, ложный вывод, ничего подобного, тот, кто пишет, никогда не совпадает с тем, о ком он пишет, в данном случае это проявляется ясно, отчетливо, хотя я потратил немало усилий, чтобы создать иллюзию тождества, совпадения, если мне это удалось, я охотно выслушаю похвалу, чью? до сих пор я настаивал на том, что пишу автобиографию, но это делало мой рассказ ничуть не более правдоподобным, чем если бы я писал новую историю Гулливера, Новый Гулливер, или Обновленный Новый Гулливер, по аналогии с Novum Organon Renovatum, сочинение Уильяма Уэвелла, писано в девятнадцатом веке, до сих пор не переведено, и уже не будет переведено никогда, есть время, подходящее для переводов, а есть время, неподходящее для переводов, и когда первое уходит, непереведенное остается непереведенным, а переведенное – переведенным, хорошо или плохо – другой вопрос, бывает, правда, что время возвращается, но это не относится к трудам по индукции, для Уэвелла время уже никогда не наступит, как печально это звучит: никогда, никогда не говори никогда, но время только это и говорит, что-то другое редко от него услышишь, я хочу сказать, что история, которую я пишу – вымысел, я называл ее автобиографией, но отсюда еще не следует, что она достоверна, потому что не проясненным остается статус повествователя: кто он – реальное лицо или фикция? и когда я заявляю, что мой герой вымышлен, что такого Гулливера никогда не существовало, как и его предшественника, то это не может быть выдумкой, обманом, если автор этой книги реален и заявляет, что его история – вымысел, то это должно быть принято за истину, потому что реальному автору нет никакого резона обманывать читателя, это не способствует продажам, как раз наоборот, авторы часто выдают вымышленные истории за реальные, чтобы привлечь внимание читателей, склонных ценить только реальное, интересующихся только действительным, крепко привязанных к практической жизни, колесу рождения и смерти, запутавшихся в покрывале Майи, если же автор – фикция, то тем более, все, что он скажет, следует считать вымыслом, получаем безупречную дилемму: из двух возможных альтернатив следует одинаковое заключение, что означает и так далее, посмотрим, как понравится читателю такой поворот, достанет ли у него интереса листать страницы, честно говоря, у меня самого пропадает всякое желание вести рассказ, потому что я по натуре репортер, добытчик и продавец фактов, сочинять вымыслы не в моих привычках, тут я иду наперекор себе и читателю, ради чего? чтобы доказать свою свободу, суверенность, этим я объявляю, кому? объявляю самому себе, заявляю самому себе, что? что я независим от себя самого, от того, что я пишу, от читателя, от издателя, от критиков, от поклонников, от любого целеполагания, от всякого умысла, но не от вымысла, только вымысливая, воображая несуществующее и не существовавшее, человек обретает свободу, итак, что же нравилось Гулливеру в стихах Верхарна? названия сборников – «Края дороги», «Вечера», «Разгромы», «Черные факелы», «Галлюцинирующие селения» – и кладбищенский романтизм: «угрюмые часы крутой зимы, печально, меланхолически, над думою моей развейте в тишине ваш саван погребальный, из листьев сотканный истлевших и ветвей, убитых холодом» , какая грусть! настоящая жесть, как сказал бы современник, Верхарн – предшественник и провозвестник дет-метала, «Моя умирающая невеста», «Месса со свечами», «Кельтский мороз» и другие, «морозом скована серебряная даль, морозом скованы ветра, и тишь, и скалы, и плоские поля; мороз дробит хрусталь просторов голубых, где звезд сияют жала» , в молодости Верхарн писал о холоде, мраке, отчаянии, а холод, мрак и отчаяние с детских лет поселились в сердце Гулливера, может быть, он уже родился с ними, вот почему он читал Верхарна, предпочитая переводы Шенгели, сомнительные, по мнению критиков, «бессмысленность растет, как роковой цветок», «влекусь к безумиям с их бледными солнцами», все в этих стихах было огромно, сумрачно и морозно, а на самом деле – огненно, Гулливера охватила жажда новых слов, перед ним раскинулись широкие горизонты литературы – как раньше распахивались горизонты музыки и науки, он решил стать писателем? трудно сказать, преждевременный вопрос, последовательность, обстоятельность – это все при мне, насколько невероятна представленная здесь история? не сделать ли ее еще более невероятной, упомянув об увлечении Гулливера малоизвестными немецкими романтиками Жан-Полем и Вакенродером?
В ТОЙ ЖЕ МАНЕРЕ
здесь было бы уместно изменить лексику, тон, ритм, заговорить собственным языком, чтобы убедить тех, кто, по правде говоря, и не нуждается в убеждении (потому что не существует), что я и Гулливер – разные люди, и говорим мы по-разному, разные люди говорят по-разному, но верно и обратное: те, кто говорят по-разному не могут быть одним и тем же человеком, но, подумав, я отказался от этой мысли, меня раздражают эти приемчики: вставки, врезки, чередование манер, а то и повествователей: Маллисон, Стивенс, снова Маллисон, Рэтлиф, Стивенс , а говорят-то все примерно одинаково, и об одном и том же, то есть об одной и той же, коллажи: вставляем то, вставляем это, «производство чугунных чушек ограничено», «тело убитого богача сожжено в подвале» , чтобы дать панораму, объемную картину, текст 3D, все это раздражает и никак не способствует, даже у романтиков: вставные новеллы, «Рукопись, найденная в Сарагоссе», «Тысяча и одна ночь», все эти химеры, призраки, блуждающие огни, рассказывать нужно так, будто даешь показания на следствии, на суде, под угрозой наказания за лжесвидетельствование, я так и поступаю, говорю открыто, я настаиваю: мы с Гулливером – разные люди, ни в чем не схожи, я мог бы представить доказательства, но зачем стараться ради несуществующего, я отвечаю только перед собой, могу намекнуть (мне это ничего не стоит), что Жан-Поля Рихтера я никогда не читал и до недавнего времени путал его с Жан-Полем Сартром, а что до Вакенродера, то для меня он такой же загадочный писатель, как и Винкельман, поэтому, рассказывая о Гулливере, я встречаю большие трудности, мало того, что я отказался от своего языка, чтобы дать представление о языке Гулливера, тут я ошибаюсь, вовсе не для этого, Гулливер, я уверен, если бы заговорил, то другим языком, не похожим на этот, я пользуюсь этим языком только потому, что так мне удобнее говорить о Гулливере, о себе я рассказывал бы иначе, почему же о Гулливере я рассказываю именно так, этого я, признаюсь, не понимаю, но как бы то ни было, главное – тянуть нить, нести крест, катить бочку или бревно, и раз мне это удается, нет смысла менять манеру, как говорят комментаторы: если теннисист выигрывает гейм за геймом, то лучше ему ничего не менять в своей игре, не искать каких-то новых ходов, и я с ними согласен, не ищи лучшего, когда имеешь хорошее, ничего не могу сказать о Вакенродере и Жан-Поле, хотя и знаю, что Гулливер их почитывал, другое дело – Ницше, с этим автором я хорошо знаком (кое в чем мы с Гулливером все-таки сходны), как раз сейчас издается полное собрание сочинений Ницше, много раз затевалось, да не удавалось, но в этот раз, есть все основания полагать, дело будет доведено до конца, Гулливеру же приходилось довольствоваться дореволюционными изданиями, что его не очень расстраивало, даже наоборот, наполняло чувством гордости, тешило его тщеславие – он имел доступ к текстам, которые обычному читателю были недоступны, если быть точным (а я по-прежнему придерживаюсь этого правила), усердно читал он в то время только «Заратустру», хотя заглядывал и в другие книги, чем же соблазнял его Заратустра, отшельник и сказочник? обещанием показать дорогу к своему «я», Гулливер думал, что потерял свое «я» или еще не обрел, расставшись с одним делом, он взялся искать другое, зачем темнить и откладывать, он и вправду решил заняться литературой, математики, физики создают великие теории в молодости, но написать великий роман можно и в среднем возрасте, так считал Гулливер, это был его спасительный круг, он никак не мог расстаться с мыслью о своей исключительности, Заратустра, конечно, укреплял его в этом самомнении, потому эта книга так популярна и у не-философов, и больше у них, чем у философов, многие, как и Гулливер, считают себя исключениями, свободными ионами, античастицами, многие мечтают о великих деяниях, и, слушая проповеди Заратустры, думают, что эти речи обращены к ним, что в них есть задатки «творческой личности», употребим такое словосочетание, которое никогда бы не употребил Заратустра, хотя от переводчиков можно ожидать всякого, литература казалась Гулливеру подходящим занятием, средством, материалом и инструментом, сравнение, оказывается, не работает, аналогия неточна, чтобы сделать слепок со своего «я», предварительно, конечно, нужно было преобразовать это «я», сделать его достойным изображения, вот так перед Гулливером возник идеал самовоспитания, самосовершенствования, годы и годы труда, а в конце – «я», сверкающее, как бриллиант, остается вставить его в оправу.
ГУЛЛИВЕР СПУСКАЕТСЯ С ГОР
и все же неплохо бы предусмотреть место для вставки, инсталляции, инкрустации – чтобы окончательно развеять сомнения в различии Гулливера и того, кто о нем пишет, а кто только не писал о нем, ясное дело, Гулливер не мог быть сразу всеми этими авторами, отличное доказательство от противного, косвенное или прямое, я как-то сегодня плохо соображаю, да и вообще я далек от логики, не то что Гулливер, потому, наверное, его образ и выходит у меня таким неправдоподобным, впрочем, это не главное, разве правдоподобны путешествия первого, еще не обновленного Гулливера? итак, нужно предусмотреть место, которое я позже заполню собственной речью, рассказом о себе, по примеру Башкирцевой, она сформулировала замечательную дилемму: жить долго и стать знаменитой или умереть молодой, оставив после себя интересный человеческий документ, мне это подходит, с этого, наверное, и следовало начинать, напрасно я выбрал накатанную дорогу, я думал написать роман о вымышленном человеке, как обычно пишут романы, выдав роман за автобиографию, а потом от этого заявления отказавшись, чтобы заинтриговать читателя, того самого, которого я предварительно удалил за Полярный круг, опять же в целях интриги, да, я интриговал, интересничал, хотел вызвать интерес к себе, к своему тексту, а нужно было поступать по примеру Башкирцевой, она ведь не знала, станет ли знаменитой, и все-таки начала дневник, надеясь заинтересовать читателя откровенностью, как я надеялся добиться его внимания последовательностью и обстоятельностью, чисто мужской подход, не помню, говорил ли я о том, что я мужчина, ведь из текста не ясно, кто я, этот текст могла бы писать и женщина, выдавая при этом себя за мужчину, вторая Жорж Санд, Джордж Элиот, Роберт Гэлбрейт, правда, в наше время писатели-мужчины часто выдают себя за женщину, возможно, это увеличивает продажи, продажные женщины, не хочу никого осуждать, не судите, говорю вам, слышите ли вы меня, если нет, мне все равно, дальше следует моя речь, из которой становится ясно, насколько я отличен от Гулливера, кусок будет вставлен позже, а сейчас я продолжу, чтобы не сбиваться с ритма, не изменять этой лексике, которая уже делается для меня привычной, не свыкнусь ли я с Гулливером, не станет ли он моим двойником, смогу ли я позже привести доказательства, сказать что-нибудь от себя, пожалуй, нужно ускорить темп, я топчусь на месте, заповедь обстоятельности, конечно, остается в силе, но кто сказал, что ее нужно придерживаться всегда, есть заповеди тактические и стратегические, может быть, эта принадлежит к первым, несколько слов о Ницше, и довольно, без Ницше, без Заратустры он вряд ли решился бы оставить университет, ни Верхарн, ни Гофман не могли бы подвигнуть его на это, если что и можно назвать в повседневной жизни подвигом, так именно такие поступки, когда человек бросает прибыльное занятие биржевого маклера и едет в Париж, где ему с трудом удается заработать на хлеб, а то и вовсе не удается, и тогда он едет на острова, так и Гулливер покинул столицу (то же самое, что переехать на остров), подобно Заратустре, он спускается с гор, но не для того, чтобы проповедовать, а чтобы искать себя, farewell, концертные залы, библиотеки, книжные лавки, университетские аудитории, ветки метро, площади и проспекты, мосты и реки, Гулливер уезжает в глухую провинцию, что-то вроде Ионвиль-л’Аббея или Тоста, отныне он может пользоваться только внутренними ресурсами, но он уверен: в его душе таятся богатые залежи, их нужно только найти и освоить, он будет жить в провинции и построит в себе самом столицу духа, удачное ли выражение, папа остается папой и в Авиньоне, многие выдающиеся люди никогда не покидали своего родного провинциального городка, примеры подождут, итак, Гулливер грузит оставшуюся часть своей библиотеки на тележку и отправляется в путь, вперед, мой ослик, мой сурок, мои звери: орел, лев и змея, неплохая компания, родители, конечно, удивлены, Гулливеру еще нужно подыскать работу, в отделе культуры его помнят, и он получает место в учреждении с длинным названием, учреждении, имеющем отношение к самодеятельному искусству, народному творчеству и чему-то еще, о чем он имеет смутное представление, почти весь световой день, с девяти утра до шести вечера, Гулливер проводит в большой комнате вместе с пятью другими работниками, зато оставшееся время целиком принадлежит ему, он покупает пишущую машинку, компьютер у него появится позже, он ни с кем не общается, не возобновляет старых знакомств, живет духовным отшельником, вроде Заратустры, Гулливер спустился в долину, но воображал себя по-прежнему на горах, да так оно, по сути, и было, если подумать, крепко подумать, станет ясно, что я хочу сказать.
ПЯТЬ ШКАФОВ
тот, кто ищет себя, никогда не найдет сочувствия у близких, и, в особенности, у самых близких, то есть близких по крови, проще говоря, у родителей, ведь родители растят детей не для таких поисков, для чего они их растят – вопрос, к делу не относящийся, преждевременный, но ясно, что не для этого, примеров можно отыскать множество, поэтому я не приведу ни одного, пять лет, а если учесть обучение в колледже, то и девять, а если присоединить сюда еще школьные годы, то почти двадцать лет (и больше, если считать от рождения) отец и мать содержали Гулливера, потакая ему во всем, или почти во всем, с надеждой следя за его ростом, образованием, испытывая даже некоторую гордость за него, и тут, возвращаясь к преждевременно заданному вопросу, я его переформулирую: чего может желать доцент кафедры иностранных языков для своего сына? чтобы он стал профессором такой же кафедры или какой-то другой, чего может желать системный администратор торговой фирмы для своего сына? чтобы он нашел место с зарплатой не ниже, чем у менеджера этой фирмы, когда же их планы рушатся, они думают, что их предали, и это в каком-то смысле верно, за свое девятичасовое просиживание штанов (или протирание штанов – отсиживают задницу, штаны протирают) Гулливер получал чуть больше младшего продавца, понять, почему он на это согласился, можно было, только узнав планы Гулливера относительно его занятий литературой, но об этом Гулливер ничего не говорил, молчи, скрывайся и таи – он хорошо запомнил эти слова Заратустры, переведенные русским поэтом, то ли Тютчевым , то ли Фетом, наконец-то я могу заняться перечислением имен поэтов, дальше они будут встречаться чаще, и поэты, и прозаики, потому что Гулливер поставил себе задачей прочесть всех писавших по-русски, от Мономаха до Сорокина, без интернета сделать это было нелегко, он снова принялся собирать библиотеку, на этот раз – художественную литературу, свою комнату в квартире родителей он обставил книжными шкафами, так начала сбываться его детская мечта: запереться в комнате, полной приключенческих и научно-фантастических романов, и читать с перерывом на еду и сон, пищу Гулливеру должны были передавать через окошечко в двери или стене, вероятно, через него же он передавал и горшки, но нет, о таких подробностях он не думал, сейчас в бестселлеры попадают книги о том, как совершают туалет космонавты, как занимаются сексом инвалиды, но Гулливер в мечтах представлял себе только приятное, хотя секс тоже приятен, даже если это секс инвалидов, ничего, дальше, инвалиды меня простят, а если и нет, неважно, и если космонавты на меня обидятся, какая разница, они не числятся среди моих потенциальных читателей, я думаю, читатель это давно уже уяснил, как ни странно, но вся русская литература с полными собраниями Кантемира, Державина, Жуковского, Батюшкова, Пушкина, Дельвига, Лермонтова, Грибоедова, Гоголя, Гончарова, Некрасова, Огарева, Тютчева, Фета, А. К. Толстого, Л. Н. Толстого, Тургенева, Достоевского, Майкова, Короленко, Бунина, Маяковского, Цветаевой, Пастернака, Мандельштама, Ахматовой, Гумилева, Белого, Платонова, Бродского, Булгакова, Пелевина, Сорокина, вместе с тремя четвертями Большой библиотеки поэта, двумя многотомными сериями русских философов, незаконченным изданием ПСС Розанова, «Бесконечным тупиком», «Школой для дураков», «Молодым негодяем» и прочим, и прочим, вся эта литература уместилась в двух шкафах (от пола до потолка), неудивительно, что Гулливер за три года прочел все мало-мальски примечательное на русском языке, как и собирался – от Мономаха до Сорокина, но не нашел ничего, что помогло бы ему в поисках формы и языка, тогда он обратился к переводам, которые занимали оставшиеся три шкафа, от пола до потолка, и тут ему повезло больше.
УРОК ПОЗИТИВИЗМА
были вещи и поважнее, чем стремление к славе, да, он хотел чего-то добиться, но это стремление росло каким-то чертополохом на бескрайнем пустыре его скептицизма, он пришел к скептической точке зрения, читая сочинения позитивистов и прагматистов, приведу имена, чтобы сделать себе приятное, известно: художественное творчество той же природы, что и самоудовлетворение, хотя я занимаюсь не вымыслом, а репортажем, я вернулся к прежней характеристике своего занятия, разрешите представиться: репортер такого-то издания, ежедневного или еженедельного, не знаю, может быть, я печатаюсь раз в год, это правдоподобнее, может быть, я вообще не печатаюсь, занимаюсь репортажами из любви к фактам, чтобы сделать приятное самому себе, если сам себя не ублажишь, то кто же, на других надейся, а сам не плошай, признаю, мне нравится перечислять известные имена, сейчас я это докажу, нет, не буду, кому бы я стал это доказывать, скажу только, что когда их произносишь, они тают на языке, будто леденцы, разве мне нравятся леденцы, точнее, будто капля R;my Martin, после многочисленных проб я пришел к убеждению, что из напитков этого класса, RM – самый лучший, я часто отклоняюсь, дурная привычка, детство, отрочество, юность – время, когда в нас прорастают семена дурного, и не хватит зрелого возраста, чтобы выполоть всходы, а в старости появляются новые, безнадежная борьба, и могила ничего не исправит, вот так я подошел к очередной теме, первой задачей позитивизма было искоренение метафизики, смотри замечательную работу Карнапа «Устранение метафизики посредством логического анализа языка», Гулливер ее проштудировал, до этого, конечно, он прочел и несколько работ Витгенштейна, итогом этих штудий стало убеждение в бессмысленности всех утверждений, кроме фактических и тех, которые сводятся к фактическим каким-нибудь хитрым образом, теоретические термины науки – лишь удобные инструменты, фикции, позволяющие связывать и предсказывать факты, что же говорить о понятиях философии, вся философская литература – языковой хлам, утверждения философов не просто ложны, они бессмысленны, вот так Гулливер очутился в лишенной человеческого значения вселенной, вот куда завел его эмпиризм, «в беспредельном пространстве бесчисленные светящиеся шары, вокруг каждого из которых вращаются около дюжины меньших, освещенных первыми, горячих изнутри и покрытых холодной корой, на которой налет плесени породил живые и познающие существа, – вот эмпирическая истина, реальность, мир. но тягостно для мыслящего существа находиться на одном из этих бесчисленных шаров, свободно летящих в беспредельном пространстве, не зная, откуда несешься, не зная, куда; тягостно быть только одним из бесчисленных похожих друг на друга существ, которые сталкиваются между собой, гонят и мучают друг друга, беспрестанно рождаясь и погибая в безначальном и бесконечном времени, где нет ничего устойчивого, кроме материи и повторения всех тех же разнообразных органических форм, посредством известных путей и каналов, существующих изначально и навсегда. все, что может сообщить эмпирическая наука, это лишь более точные свойства и законы таких процессов» , – это лишь одна из цитат, которые я собираюсь привести, вот другая: «но все, что возникает, заслуживает гибели. может быть, пройдут еще миллионы лет, народятся и сойдут в могилу сотни тысяч поколений, но неумолимо надвигается время, когда истощающаяся солнечная теплота будет уже не в силах растапливать надвигающийся с полюсов лед, когда все более и более скучивающееся у экватора человечество перестанет находить и там необходимую для жизни теплоту, когда постепенно исчезнет и последний след органической жизни, и Земля – мертвый, остывший шар вроде Луны – будет кружить в глубоком мраке по все более коротким орбитам вокруг тоже умершего Солнца, на которое она, в конце концов, упадет. одни планеты испытают эту участь раньше, другие позже Земли; вместо гармонически расчлененной, светлой, теплой солнечной системы останется лишь один холодный, мертвый шар, следующий своим одиноким путем в мировом пространстве. И та же судьба, которая постигнет нашу солнечную систему, должна раньше или позже постигнуть все прочие системы нашего мирового острова, должна постигнуть системы всех прочих бесчисленных мировых островов, даже тех, свет от которых никогда не достигнет Земли, пока еще будет существовать на ней человеческий глаз, способный воспринять его» , сильно сказано, в юности автор этого фрагмента подумывал о том, чтобы стать поэтом, и еще одна: «мы начали с системы галактик и постепенно перешли к нашей собственной галактике, к нашей собственной маленькой солнечной системе, к нашей собственной крошечной планете, к бесконечно малым крупинкам жизни на её поверхности и, наконец, как к пределу незначительности, к телам и сознаниям тех странных существ, которые вообразили себя владыками творения, концом и целью всего необозримого космоса» , вставлять цитаты – этим занимался Гулливер, когда писал курсовые, забавно влезть в его шкуру, возвращаюсь к цитатам, есть еще один известный фрагмент: «пусть человек отдастся созерцанию природы во всем ее высоком и неохватном величии, пусть отвратит взоры от ничтожных предметов, его окружающих. пусть взглянет на ослепительный светоч, как неугасимый факел, озаряющий Вселенную; пусть уразумеет, что Земля – всего лишь точка в сравнении с огромной орбитой, которую описывает это светило; пусть потрясется мыслью, что и сама эта огромная орбита – не более чем еле приметная черточка по отношению к орбитам других светил, текущих по небес¬ному своду. но так как кругозор наш этим и ограни¬чен, пусть воображение летит за рубежи видимого; оно утомится, далеко не исчерпав природу. весь зримый мир – лишь едва приметный штрих в необъятном ло¬не природы. человеческой мысли не под силу охва¬тить ее. сколько бы мы ни раздвигали пределы наших пространственных представлении, все равно в сравнении с сущим мы порождаем только атомы. Вселенная – это не имеющая границ сфера, центр ее всюду, окруж¬ность – нигде... а потом, вновь обратившись к себе, пусть человек сравнит свое существо со всем сущим; пусть почувствует, как он затерян в этом глухом углу Вселенной, и, вы¬глядывая из тесной тюремной камеры, отведенной ему под жилье, – я имею в виду весь зримый мир, – пусть уразумеет, чего стоит вся наша Земля с ее державами и городами и, наконец, чего стоит он сам. человек в бесконечности – что он значит?» , если встать на точку зрения логического позитивизма, он не значит ничего, на этой точке и стоял Гулливер, и стоял твердо, соблазненный ясностью языка и отчетливостью аргументов, человеческая жизнь казалась ему бессмысленной, и он пытался найти в ней хоть какой-то смысл, придать миру и человеку хоть какое-то значение, пусть с натяжкой, приблизительно, но согласующееся с рассуждениями позитивистов.
ОСТОРОЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СЕКСУ
в учреждении, где работал Гулливер, кроме него был только один мужчина, тоже холостой, и примерно пятнадцать женщин, многие из которых были незамужними, ясное дело, велись разговоры, составлялись планы, плелись интриги, он сам был не прочь поразвлечься или вступить в какие-то отношения, и это ему удавалось, Гулливера то и дело посылали в командировку, чтобы он набирался опыта, при этом с ним отправлялась одна из коллег, как руководитель экспедиции, понятно, что из этого могло получиться, и что из этого получалось, Гулливер был сравнительно молод, сравнительно с собой прежним, вообще-то он был мужчина в расцвете лет, чего не скажешь о его духе, но болезненное состояние духа он тщательно скрывал, к нему относились с симпатией, он располагал к себе, особенно незамужних, и пользовался этим, хотя и с оглядкой, он опасался, что какая-нибудь предприимчивая дама поймает его в ловушку, объявив, что беременна, скорее всего, страхи его были преувеличены, но они мешали ему наслаждаться сексом, общение полов даже в наше свободное время затруднено культурными нормами, но и природа ставит ему препоны, насколько безопаснее наслаждаться духовными благами, но Гулливер, преодолевая свою недоверчивость, все же шел навстречу судьбе, то есть коллегам, лучше было вместо «коллег» сказать «сотрудницы», преимущество русского языка – три рода существительных, отключить опцию Spell, Style, Grammar, писать как придется, для этого нужна смелость, похоже, мне ее не хватает, я еще малодушнее, чем Гулливер, лилипут по сравнению с ним, утешает то, что и Гулливер кончит тем же, ничего не сказано о женском теле, не упомянута ни одна часть, где эротика, время от времени читателя следует развлекать, каково ему там, за Полярным кругом, но я не собираюсь облегчать ему жизнь, ссылку, зимовку во льдах, если ему холодно, пусть попрыгает или займется самоудовлетворением, у Данте не предусмотрено круга для таких грешников, пусть вступит в общество асексуалов, путь отрубит себе палец, как отец Сергий, пусть отрежет себе еще что-нибудь, я только посмеюсь, читатель, ты не вызовешь у меня сочувствия, что бы ты ни предпринял, но ты ничего не можешь предпринять, ты давно уже превратился в ледяную глыбу, волосы в сосульках, запорошены снегом, между прочим, Гулливера посылали в командировки и зимой, что не мешало его сближению со спутницей, наставницей, одна и правда оказалась наставницей в таких делах, она научила его кое-чему, он и не предполагал, что такое возможно проделывать с дипломированной специалисткой, то есть лицом, получившим высшее образование, известно, что эти лица в постели чувствуют себя неуверенно, на полу тоже, и в кресле, и в ванной, и на диване, на столе, на холодильнике, при этом он ясно давал понять, что не собирается вступать в брак, но дамы были согласны и на неузаконенные отношения, что поделаешь, институт брака приходит в упадок, все меньше пар регистрируют свои отношения, консервативные ценности вянут на глазах, жухнут, подумать о слове «жухнут», звучит странно, но есть в нем что-то привлекательное, итак, возвращаясь к Гулливеру, Гулливер отсиживал по девять часов в присутственном месте, ездил в командировки, занимался сексом (нечасто), в остальное же время читал русскую литературу, он читал еще и Платона, наконец-то он мог прочесть всех авторов, упоминавшихся в курсе истории философии, хотя бы самых главных, в университете приходилось ограничиваться учебниками, на чтение источников времени не хватало, его и теперь было немного, но голова у Гулливера оставалась свободной, и по выходным он читал Платона, и очаровывался его идеями, у него возникла мысль, как примирить эмпиризм и платоновский идеализм, знание и веру, и я не пожалею времени, чтобы рассказать об этом.
БЛИЗКО И ДАЛЕКО
ситуация Гулливера обрисована недостаточно, известно приблизительно, где он жил, чем занимался, но этого мало, он так тосковал по столице и университету, что попытался вернуться в аспирантуру, что, конечно, было невозможно, ему следовало, как советовали преподаватели на кафедре, взять академический отпуск, но он предпочел обрубить концы и теперь в отчаянии пытался ухватиться за обрывок, но рука его не дотягивалась, да и обрывка никакого не было, галлюцинация, вызванная переохлаждением, обезвоживанием, потерей крови, он был похож на матроса торпедированного военного корабля, Тихий океан, жаркая ночь, ты устраиваешься на палубе, в одних штанах, а где-то за километр японская подлодка уже выпустила две торпеды, и вот ты уже в воде, держишься за какую-то доску, ночь, звезды и сужающиеся круги акул, при переходе в Ост-Индию мы были отнесены страшной бурей к северо-западу от Вандименовой Земли , меня всегда интересовало, где находится эта Земля, теперь я знаю – в Индийском океане, между двумя котловинами, Южно-Австралийской и Тасмановой, буря могла отнести корабль Гулливера как раз к первой, в сторону Большого Австралийского залива, то есть знаменитая Лилипутия находится недалеко от южного побережья Австралии, и остров Робинзона располагался вблизи устья Ориноко, но что значат мили и километры в такой ситуации, Гулливер мог добраться до столицы за полтора часа самолетом, включая проезд в аэропорт и из аэропорта, однако в том виртуальном мире, где он жил, это расстояние было неизмеримым, как и Робинзон, он жил на острове Отчаяния, он держался за свои мечты, как за спасательный круг или жилет, если вспомнить сравнение с матросом потопленного корабля, иногда на него находили сомнения, правильно ли он сделал, что ушел из университета, и тогда он чувствовал, что захлебывается, и вот-вот пойдет ко дну, однако большую часть времени он жил в общении с классиками и уверенности, что когда-нибудь напишет тоже что-то классическое, никакой идеи такого сочинения у него пока не было, он писал рассказы, но они выходили слабыми, подражательными, в них не было ни правды жизни, ни правды вымысла, да и закончил-то он всего два рассказа, никуда их не посылал, и они затерялись в его архиве, теперь ситуация Гулливера прояснилась, и я могу переходить к рассказу о его знакомстве с Платоном, которое неожиданно оказалось для него, который оказался для него, словом, получилось так, будто за ним послали самолет, гидроплан, кто послал? какие-то высшие силы, позднее я поясню, почему выражение «высшие силы» здесь уместно, для этого я должен перевести дух, говоря по правде, моя ситуация ничем не лучше ситуации Гулливера, она гораздо хуже, она попросту безнадежна, и я пишу все это, не рассчитывая услышать шум самолета, я давно уже не прислушиваюсь и не вглядываюсь, моя песенка спета, если то, что звучало, можно назвать песней, скорее, эти звуки напоминали музыку Анны Хольц, которую Бетховен назвал «пердежом» , или как-то так, Эд Харрис замечательно сыграл этот эпизод, имитируя пердеж губами и подыгрывая себе на рояле, эта сцена не уступает сцене дирижирования Девятой, жизнь одних людей напоминает симфонию, а жизнь других сводится к пердежу, и если со мной все ясно, то у Гулливера остается еще шанс, призрачный шанс, жаль, что я не могу ему помочь, все, на что я способен, если способен, – это сообщать факты.
РАСТУЩИЙ БОГ
может быть, еще тогда, в детстве, выглядывая в окно, дожидаясь матери, он увидел то тяжелое, мрачное, изжелта-черное, как брюхо ящерицы, как облако саранчи, летящее, ползущее , так бывает, дожидаешься матери, а является что-то ужасное, и память об этом ужасном осталась в нем навсегда, это видение лишило его уверенности, обрекло на поражение, он так и жил – с поражением в уме и сердце, он сознавал поражение умом и чувствовал сердцем, ни в чем нет смысла, все пожирается саранчой, сердце в нем медленно перевернулось, потому он так и стремился к исключительному – ему казалось, только исключительное может противостоять саранче, мраку, пустоте, уцелеть может только исключительное, заурядное обречено, но иногда его охватывало отчаяние: исключительное тоже обречено, не за что уцепиться, он чувствовал отвращение к жизни, ко всему на свете, я проклял знаний ложный свет, а слава – луч ее случайный неуловим, мирская честь бессмысленна, как сон , и так далее, весь земной шар с его населением, мгновенным, немощным, прикованным к глыбе презренного праха, эта хрупкая, шероховатая кора, этот нарост на огненной песчинке нашей планеты, по которому проступила плесень, величаемая нами органическим, растительным царством, эти люди-мухи, в тысячу раз ничтожнее мух, их слепленные из грязи жилища, крохотные следы их мелкой, однообразной возни , их забавной борьбы с неизменяемым и неизбежным, все ничтожно, потому что уничтожимо, потому что уничтожается, как можно ценить преходящее, но Платон исцелял его, воодушевлял, заражал своей верой в мир идей, и не просто верой, но восхищением и любовью, он осознал, что значение чему бы то ни было придается только любовью, восхищением, благоговением, если употребить это устаревшее и позабытое слово, смысл появляется только там, где есть благо, которым можно восхищаться, которое можно любить, чувство любви изначально и окончательно, здесь прекращаются все вопросы, благо влечет нас, как магнит, и первое проявление блага – красота, если же расширить значение этого слова, то прекрасным окажется все благое, благо будет совпадать с красотой, прекрасный кувшин, прекрасный конь, прекрасная девушка, прекрасная речь, прекрасное знание, прекрасный поступок – так строится лестница красоты, высшее на земле – это прекрасный человек, соединяющий в себе красоту ума и тела, а выше такого человека только верховное благо, или красота сама по себе, поверить в такую красоту Гулливеру, начитавшемуся неопозитивистов, было трудно, поэтому он поставил выше человека Вселенную, которая совершенствуется, переходя от абсолютного хаоса к абсолютному порядку, и что важно: человек и Вселенная не враждуют друг с другом, они заодно, человек – часть Вселенной, он – ее глаза, руки, ум, в человеке Вселенная совершенствует самое себя, созерцает самое себя и наслаждается своей красотой, здесь мысль Гулливера теряла отчетливость, рассеиваясь в космическом пространстве, которое он, однако, не считал пустым – мир представлялся ему единым, этаким огромным ксенофановым шаром, весь он видит и слышит , что-то вроде абсолютного максимума Кузанца, он и автор, и созерцатель своих произведений, и он же их конечная цель , да, это было своего рода прозрением: он вдруг понял, что вещи не отделены друг от друга, а представляют собой что-то вроде солнечных протуберанцев или волн на воде, солнце едино, и океан един, отдельность вещей условна, все они связаны между собой, и на элементарном уровне неясно, где заканчивается одна и начинается другая, в действительности существует только Вселенная, претворяющая себя в Космос (прекрасный порядок), позднее Гулливер обнаружил, что примерно так рассуждал Тейяр де Шарден: мир есть бог, но не наличествующий, а становящийся, наткнувшись самостоятельно на эту мысль, Гулливер испытал экстаз, образ Прекрасной Вселенной был сильнее всех доводов разума, сильнее всех аргументов неопозитивистов, долгие годы Гулливер жил любовью к Прекрасной Вселенной, вот что сделал для него Платон – бросил ему спасательный круг, веревочную лестницу, Гулливер плыл один, в океане, держась за доску, вокруг него уже кружили акулы, но тут в небе зарокотал гидроплан, на месте пилота сидел Платон, «держись, пловец!» – крикнул он в мегафон и посадил самолет рядом с Гулливером, и вот Гулливер уже на борту, вместе с Платоном поднимается выше и выше, Земля превращается в сверкающую точку, такую же, как мириады других, внезапно эти точки вспыхивают еще ярче, и все заливает ослепительный свет.
РАДИО НИОТКУДА
я скачал из Сети полный дневник Башкирцевой (до этого у меня были только «избранные страницы») и с удивлением прочел в предисловии, что она чуть ли не с трех лет «стремилась к величию», «с тех пор как я сознаю себя – с трехлетнего возраста (меня не отнимали от груди до трех с половиною лет) – все мои мысли и стремления были направлены к какому-то величию, мои куклы были всегда королями и королевами, все, о чем я сама думала, и все, что говорилось вокруг моей матери, – все это, казалось, имело какое-то отношение к этому величию, которое должно было неизбежно прийти», что бы сказал психоаналитик, он сказал бы, что стремление к величию компенсировало отлучение от груди, может быть, то же самое случилось и с Гулливером, если бы не запрет на интерпретации, я с удовольствием порассуждал бы на эту тему, откуда взялись эти запреты, кроме меня здесь нет никого, ни издателей, ни читателей, неужели я сам на себя наложил эти ограничения, чтобы лишить себя удовольствия, мастурбация и мазохизм, похоже, они каким-то образом совпадают, интересная тема, жаль, что я должен оставить ее, но, может быть, еще придет время, время всегда приходит, кто-то, например, Годо, не приходит, но время всегда приходит, и уходит, и снова приходит, просто не знаю, о чем еще говорить, Гулливер удалился, я здесь один, привет, друзья, это радио ниоткуда , сейчас я расскажу вам о Гулливере, вы, конечно, слышали о нем, его песни уже третий месяц не покидают десятку, и вам, конечно, интересно знать, как живет Гулливер, есть ли у него семья, дети, внуки, правнуки, нет? вам это не интересно? тогда я просто пущу в эфир одну из его последних песен, слушайте и кайфуйте, итак, Гулливер сочинял песни, то есть рассказы и повести, ах да, вспомнил, его озарение, Прекрасная Вселенная, само собой, он решил, что напишет большой роман, где расскажет о своих долгих исканиях и находках, вот чем он занимался – обдумывал роман, собирал материалы, читал и делал выписки, а что насчет формы и языка? с этим у него не клеилось, из прозаиков он больше всего любил Гофмана, но считал, что нужно писать в манере Хемингуэя, он увлекся Хемингуэем еще в университете, мало кто тогда читал Хемингуэя, время его прошло, так обычно с временем и бывает, приходит и уходит, бежит, бежит безвозвратное время , приходит снова, но не возвращается, какая чепуха, совсем не в духе Хемингуэя, но в том и дело, что попытки Гулливера писать в духе Хемингуэя порождали какие-то вымученные фрагменты, пытаясь писать в духе Хемингуэя, Гулливер сочинял что-то вымученное, пытаясь писать как Хемингуэй, Гулливер вымучивал каждый абзац, и в результате рождалось что-то жалкое и неживое, объективную хемингуэевскую манеру письма Гулливер осваивал с трудом, она была противна его натуре, но он считал, что хорошая проза пишется именно так – объективно и лаконично, жарища в тот день была адова, мы соорудили поперек моста совершенно бесподобную баррикаду, баррикада получилась просто блеск, высокая чугунная решетка – с ограды перед домом, такая тяжелая, что сразу не сдвинешь, но стрелять через нее удобно, а им пришлось бы перелезать, шикарная баррикада , где здесь духовные поиски, можно ли таким способом что-то о них написать, он пытался писать и в манере Брэдбери, но выходило еще хуже, у него ничего не получалось, он старался, но у него не получалось, он очень старался, но чем больше он старался, тем хуже у него получалось, может быть, ему не следовало так стараться, но он старался, он очень старался, он надеялся, что эти старания оправдаются, но они не оправдывались, усилия вообще редко оправдываются, может быть, никогда, что-то дается без усилий, но и теряется без усилий, ничего нельзя удержать, все усилия бесполезны, и все же он старался, он верил, как и Мария Башкирцева, что ему обещано что-то большое, если не даром, так по заслугам, и он пытался это большое заслужить, он очень старался, но у него не получалось, ничего у него не получалось, ни большое, ни малое, такой он был человек, никчемный, ни на что не годный человек, полное ничтожество.
ПРОБЛЕМЫ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ
отношения с родителями делались все напряженнее, мать пыталась вернуть его к карьере преподавателя, устроить в институт, где она работала, но он не соглашался, отец, хотя и ни в чем его не упрекал, но тоже считал, что он не оправдал надежд, ничем не возместил усилия и жертвы, можно ли с гордостью ответить на вопрос, чем занимается ваш сын, если сын работает на странной должности в странной конторе, получая за это до смешного мало и не пытаясь что-то в своей жизни изменить, так это представлялось со стороны, никто не догадывался, о каких переменах он мечтал, на какие перемены он рассчитывал, ради каких перемен трудился, это был настоящий труд – усердное чтение и обдумывание будущего романа, в конце концов он решил уехать из родительской квартиры, из родного города, ему надоели высказанные и невысказанные упреки, чувства вины в нем и так было много, он с ним боролся, слушая Вагнера и Листа, читая Ницше, но домашняя обстановка была неблагоприятной, он впадал в уныние, депрессию, я что-то путаю, это было раньше, а сейчас он чувствовал себя уверенно, да, ему нипочем были упреки родителей, как с гуся вода, ведь за ним стояла Вселенная, так за политиком стоит партия, а за партией – избиратели, это наполняет самоуважением, верой в успех, и все же Гулливеру хотелось больше свободы, он переписывался с одним школьным другом, жившем в Пскове, и тот сообщил, что на заводе требуется дворник, жилье обеспечено, Гулливер представил, как он машет метлой, скребет скребком два часа в день, с семи до девяти, а то и меньше, а потом полный день – на свободе, чудесная перспектива, восьмичасовой, а считая с обеденным перерывом, девятичасовой день казался ему невыносимо долгим, это было рабство, хотя и не утомительное, зимой он уходил на работу и возвращался домой в темноте, и так пять дней в неделю, почему, удивлялся он, пролетариат не требует сокращения рабочего дня? сколько десятилетий уже не меняется эта норма? где митинги, демонстрации, баррикады? он думал о рабочих западных стран, самоотверженной борьбой западный пролетариат добился когда-то сокращения рабочего дня до восьми (девяти) часов, но на этом остановился, от пролетариата своей страны он ничего не ждал, хотя именно отечественный пролетариат в союзе с матросами, солдатами и крестьянами устроил в начале века социалистическую революцию, в городе повсюду были развешены и выставлены знаки, напоминавшие о революции, это был город с революционным прошлым, но сейчас революционный пролетариат тянул лямку восьми (девяти) часового рабочего дня, и не было слышно никаких протестов, ни на западе, ни на востоке, поэтому Гулливер решил спуститься еще на пару ступеней вниз по социальной лестнице, он решил сделаться дворником, жизнь дворника казалась ему похожей на жизнь богемы, не случайно ведь многие диссидентствующие интеллектуалы, художники и писатели выбирали это занятие, какое-то время Гулливер колебался, а потом быстро собрал вещи и отправился на такси во Владимир, а оттуда на электричке – в Москву, там он сел в самолет до Пскова, предупредив друга телеграммой, прилетел он ночью, таксист довез его до нужного дома, но друг ему не открыл: накануне он уехал в отпуск, не успев прочесть телеграмму, Гулливеру пришлось ночевать на вокзале, днем он узнал в отделе кадров, что дворника уже нашли, кадровик посоветовал ему заглянуть на городской почтамт, это была отличная идея, почтальонов не хватало почти в каждом отделении, его взяли на работу и дали место в общежитии, показали маршрут, и через день он приступил к работе, напоминаю читателю, что это все факты моей собственной биографии, я пишу о себе, да, бывали и мы в Палестинах, Аркадиях, спали там-то и там-то, работали там-то и там-то, видели то-то и то-то, имя Гулливера появилось случайно, это всего лишь ярлык, бейджик, я пользуюсь им, когда мне надоедает наррация от первого лица, а надоела она мне очень быстро, в самом начале, тем не менее, это все обо мне, как бы я не отнекивался, не пускал дым, или пыль, в глаза, продолжаю о Гулливере, нет, страница уже написана, а читать такого рода текст больше страницы зараз утомительно, я бережно отношусь к читателю, спокойно, читатель, тебя берегут, о тебе заботятся, ты под присмотром автоматов благодати и любви , сделаем перерыв, чтобы ты мог отдохнуть и подумать о проблемах рабочего движения, подумай, читатель, какие требования ты выдвинул бы, если бы был лидером крупнейшего профсоюза во Франции, Италии, Англии или США.
ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ БЕССМЫСЛЕННОСТЬ БЫТИЯ
для биографа самая большая неприятность – потерять уверенность в своей памяти, тем более, если он пишет о самом себе, свою внутреннюю биографию, кто же лучше него знает факты его внутренней жизни, и если он что-то напутает, никто уже не распутает, я делаю эти оговорки, чтобы оправдать свое намерение несколько изменить ход событий, внутренняя жизнь Гулливера сделалась такой сложной, что в ней легко заблудиться, а ведь последовательность здесь важнее, чем где бы то ни было, какие обороты, ясно ли я говорю, бывает, скажешь что-то и задумываешься, и чем больше думаешь, тем меньше понимаешь в сказанном, мышление, если оно долго и настойчиво занимается каким-нибудь одним предметом, заволакивается туманом, притупляется и, наконец, погружается во мрак , вернувшись в родной город после университета, Гулливер устроился на место тренера в областной спортивной школе, где учил детей шахматам, он подрабатывал еще и почтальоном, у него уже тогда зародилась мысль – накопить денег, чтобы потом несколько лет не работать, занимаясь только духовными поисками, ничего оригинального, многие ищущие, назовем их так, мечтали о том же, некоторые пытались разбогатеть, играя на рулетке, некоторые думали выиграть в лотерее, а некоторые, вроде Гулливера, не доверяя случаю, ограничивали себя во всем, откладывали понемногу каждый месяц, надеясь через несколько лет выкупить себя у повседневности, ты свободен, дядя Том, так что с работой почтальона Гулливер познакомился несколько раньше, еще до своего отъезда в Псков, и это имело важные последствия, городской почтамт стоял на невысоком холме, и вот однажды, закончив рабочий день, приблизительно в полдень или чуть позже, Гулливер вышел из почтамта, радуясь предстоящему дню, половина суток в полном его распоряжении, он мог заниматься, чем хотел, с холма он увидел дорогу и трамвайные пути, уходящие вниз, он видел горизонт и белые облака, он видел как бы весь мир перед собою, и его пронзило острое чувство свободы: все равноправно, все бесцельно и бессмысленно, вот и хорошо, вот и чудесно, большинство людей заняты борьбой за выживание, заботы, заботы, заботы, нет времени на вопрос «зачем», однако некоторые имеют досуг, но что меняется от этого? ничего, вопрос теперь звучит так: как использовать свой досуг? ответ прост: используй как тебе заблагорассудится, цели нет, смысла нет, освободиться от желания увековечить себя в деянии, славе, это стремление основывается на вере в вечную жизнь человечества, люди потому и несчастны, что верят, будто человечество вечно, но представь, что когда-нибудь человечество исчезнет, все – пыль, и ты почувствуешь восхитительную бессмысленность бытия, ты улыбнешься и скажешь: хорошо! вот о чем думал Гулливер, когда стоял на холме и смотрел вдаль, на горизонт и облака, вероятно, он впервые осознал, в чем прелесть простой работы: не нужно ничего держать в голове, не нужно беспокоиться о сделанном и о том, что еще предстоит сделать, не нужно писать статьи, готовиться к занятиям, как это делала его мать, заботы, заботы, заботы, а тут: сделал дело – гуляй смело, забудь о работе, наслаждайся свободой, и Гулливер распространил это чувство беспечности на жизнь в целом, он нашел ответ на вопрос «зачем», он разрешил его тем, что признал бессмысленным, но не так, как философы-эмпиристы, никогда не работавшие почтальонами, а по-своему, недостаток такого решения заключался в том, что ответ основывался на чувстве, и когда чувство свободы притупилось, ответ стал казаться уже не таким убедительным, и все же это переживание было важным для Гулливера, он понял, что означает странное выражение: «довлеть себе», он пережил это состояние самодовления: ни в чем не нуждаться, ни о чем не заботиться, так, вероятно, чувствует себя Абсолют, постигнуть Бога – значит постигнуть его беспечность, его беззаботность хотя бы на миг, без этого переживания Гулливер не смог бы позднее восхищаться Прекрасной Вселенной и верить в «магию красоты», но прежде ему нужно было повстречаться с красотой и пережить ее так, как он пережил «восхитительную бесцельность жизни», и произошло это в Пскове, куда он поехал, думая не о красоте, а о том, чтобы жить независимо от родителей, дальше все произошло так, как и описано, а что же работа в «конторе», командировки и «приключения»? было и это, но позже, когда он вернулся из Пскова, утомившись созерцанием красоты и жизнью в общежитии, насколько проще было бы писать не автобиографию, а роман, но нет, моя профессия – репортер, и если я что-то путаю, то стараюсь при первой же возможности, как только осознаю путаницу, дать опровержение и представить читателю верные факты, мне нравится обращаться к читателю, а еще больше мне нравится представлять, как он тоскует на берегах Леты или еще какой-то реки, кстати, на берегу реки Великой в Пскове Гулливер впервые и встретился с красотой.
ДЕНЬ НА РЕКЕ
это время в жизни Гулливера представляется мне особенно темным: не потому, что это была темная полоса в его жизни, хотя и такой она тоже была, а потому, что в это время произошло много событий, не внешних, а внутренних, хотя и внешних было немало, заповедь требует, чтобы я изложил эти события последовательно, в хронологическом порядке, но сделать это трудно, настолько трудно, что я начинаю сомневаться, действительно ли я и есть Гулливер, действительно ли все это происходило со мной, неужели я мог забыть такие важные вещи, лишний повод для читателя усомниться в правдивости моей истории, разумеется, ему только дай повод, хорошо, что никакого читателя нет, поводов было бы предостаточно, так над чем же трудился Гулливер? он что-то писал, да, он хотел стать писателем, это мы знаем, сочинял какие-то рассказы, фантастические, аллегорические, если быть точным, полгода переделывал один рассказ, за это время он начитался Платона и пережил озарение «чудесной бессмысленности бытия», одно с другим вроде бы не вяжется, но в то время Платон еще не произвел на него того действия, какое он произвел позже, внушительная конструкция, для этого Гулливеру не хватало еще живого впечатления, переживания красоты, с таким настроением он и уехал в Псков, мы видим его снова в общежитии, в комнате на троих, на узкой неудобной кровати, он пытается заснуть, у противоположной стены курьер-мотоциклист занимается любовью со своей девчонкой, она приходит к нему по ночам, когда Гулливер и третий жилец (телефонный мастер) предположительно спят, Гулливера эти свидания, в общем, не раздражают, он полон энтузиазма, он пытается вжиться в образ проклятого гения, настоящие гении, вроде Рембо и Ван Гога, жили бродягами, нищенствовали, в уме Гулливера одно тесно связывается с другим, написать шедевр в комфортных условиях, например в Montreux Palace, казалось ему невозможным, Хемингуэй жил бедно и писал в холодной комнате или кафе, куда он ходил погреться, Гулливер ходил в псковскую городскую библиотеку и читал там Хемингуэя, при желании он мог бы познакомиться с девушками-библиотекарями, которые проявляли к нему интерес, он мог бы жениться на псковитянке и перебраться из общежития в обычную квартиру, но не для этого он бежал из родного города, он бежал от быта, от родителей, от личных отношений, ему хотелось жить независимо, отдалившись от людей, и если для этого нужно было делить комнату на троих, что ж, в тесноте, но в отдалении, с соседями он разговаривал мало, они появлялись в общежитии под вечер, а он проводил вечера у друга, который к тому времени уже вернулся из отпуска, хорошо было бы, конечно, им снять комнату на двоих, но друг тоже жил в общежитии предприятия, в комнате, за которую он практически ничего не платил, на двоих они зарабатывали немного, поэтому вариант Холмса и Ватсона отпадал, закончив разносить почту, Гулливер шел в библиотеку и читал там до вечера, а потом шел в гости к другу, они вели длинные разговоры на кухне (в квартире была еще одна комната, и там жили двое), это было неплохо, все устраивало Гулливера, кроме одного – он не мог ничего закончить, ни одного наброска, это, конечно, было важнее всего остального, поэтому настроение у Гулливера делалось все более мрачным, и в конце концов он вернулся к родителям, но поначалу, когда он еще был полон надежд, все его удовлетворяло, а в самом начале, когда этих надежд было больше всего, он пережил счастливые мгновения на берегу реки Великой, прежде чем рассказывать о них, уточню, что Гулливер приехал в Псков осенью, стояли чудесные дни, сухие, ясные, солнечные, под ногами хрустели кленовые листья, небо было голубым и холодным, и воздух был таким же холодным и чистым, а потом выдалось бабье лето, потеплело, и однажды, после занятий в библиотеке, Гулливер вышел на берег, река текла медленно, кучевые облака неподвижно висели в небе, чистом, голубом, горизонт расплывался в дымке, на мелких волнах покачивались чайки, вдалеке виднелся мост, еще дальше – краны, трубы, напротив – другой берег: деревья, церквушка, тихо летит одномоторный самолет, солнце смотрит прямо в глаза, этот вечер был словно живым – теплое, доброе, любящее существо, Гулливер принялся зарисовывать пейзаж в блокноте, позднее, в общежитии, он попробовал описать этот вечер словами, но у него ничего не вышло, из Пскова Гулливер уехал, так ничего и не написав, зато он увез живое переживание красоты, красота сделалась для него чем-то живым, одушевленным, именно так, наверное, относился к прекрасному и Платон.
ИДЕАЛ
наступила зима, и это были чудесные дни, белый снег, голубое небо, мир, будто сделанный из радуги и серебра, но его литературные труды не приносили плодов, в местной газете опубликовали его заметку об Изборске и пригласили стать внештатным корреспондентом, но об этом ли он мечтал, быть корреспондентом провинциальной газеты, телефонным мастером, профессором университета, академиком Академии, он чувствовал себя так, будто живет в стране лилипутов, этих достижений ему было мало, вернее, они существовали в другом измерении, но что представляло собой его собственное измерение, этого он пока не знал, ему было уже под тридцать, он работал почтальоном, жил в общежитии связистов, что из этого могло выйти, как будто, ничего, уже ничего, но я не знаю (пока), вышло что-то или не вышло, то есть я знаю, но законы повествования и так далее, словом, он вернулся в родной город, в квартиру родителей, шестой этаж девятиэтажного дома, если я не запутался в фактах, что легко может случиться, фактов становится слишком много, с чем же он вернулся из Пскова? главным его приобретением было переживание красоты, в красоте он нашел что-то самодовлеющее, абсолютное, Платон подсказал ему, что искать, а псковские впечатления помогли это что-то найти, но разве не искал он своего «я»? не с этого ли он начинал? и к чему привели эти поиски? нет, он не отказался от них, эти поиски соединились с теми, и возник идеал Прекрасного Человека, Платон говорил о «хорошо ухоженной» душе, такая душа и представилась Гулливеру высшим воплощением красоты, идеал гармонически развитой личности – это было как раз то, о чем твердили функционеры от образования, и если раньше Гулливер не придавал их словам никакого значения, то теперь они наполнились для него глубоким смыслом, здесь следовало бы перечесть «Письма об эстетическом воспитании человека» Шиллера, Гулливер их читал, так же, как сочинения Альберти и труды психологов-гуманистов, но я не могу привести ни одной уместной цитаты, пусть читатель додумывает сам, если ему нечем заняться, а ему действительно нечем заняться, он уже выше всех дел, мне же еще далеко до конца страницы, поэтому я вместо цитирования известных и малоизвестных авторов перескажу эту идею своими словами, как я поступал до сих пор, читатель, который не у дел, надеюсь, заметил, как редко я прибегаю к цитатам, хотя нет такой скрижали, которая бы мне это запрещала, платоновская лестница красоты вела от прекрасных тел к прекрасным душам и выше, но Гулливер отказывался подниматься вместе с Платоном в мир эйдосов, для него лестница заканчивалась на прекрасной девушке с прекрасной душой, или прекрасном юноше с прекрасной душой, словом, на гармонично развитом человеке, в котором все прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли, такой человек сам по себе уже был прекрасным творением, но он, конечно, не мог оставаться бездеятельным, прекрасный человек создавал прекрасные вещи, и одну из таких вещей хотел создать Гулливер, но для этого ему нужно было развить свою душу и мысли, чем он и занялся, по возвращении из Пскова, с большой охотой, так оправдывались его литературные неудачи: все впереди, думал Гулливер, сначала нужно подготовиться, это была его отличительная черта: выступая на турнире, он тщательно готовился к встрече с противником, изучал его любимые дебюты, запоминал варианты, и откладывал спортивные успехи на «потом», когда он достаточно «подготовится», так же и в музыке он откладывал все на далекое будущее, хотя его сверстники добивались всего уже в настоящем, и вот теперь ему явился идеал гармонически и всесторонне развитой личности, но вдохновлял его, собственно, не этот идеал, а представление о том произведении, которое он напишет, когда приблизится к этому идеалу, зимой в Пскове, он затосковал по своей библиотеке, по своему архиву и решил вернуться, чтобы готовить себя к созданию совершенного произведения.
МАГИЯ КРАСОТЫ
если устроить праздник разбитых скрижалей, то находку (переживание красоты, идеал гармонической личности) Гулливера можно объяснить так: он был нарциссическим ребенком и остался таким, повзрослев, он пытался проявить себя в каком-то деле, но при этом думал (бессознательно) только о выражении своего «я», в конце концов нарциссизм победил, Гулливер отказался от всякого дела, чтобы заняться самим собой, он оправдывал этот поворот теорией «гармонической личности», он выписывал подходящие цитаты из Платона, Шиллера, Маркса, Роджерса, Сэва, но все это было лишь нарциссической любовью к себе, потому-то он и мог переносить и внешнее, и внутреннее одиночество, что ему было довольно самого себя, на этом праздник заканчивается, разбитые скрижали восстанавливаются, и мы возвращаемся в родной город Гулливера, который так и не получил названия, назовем его Безымянный, или оставим без имени, назовем его просто Б., позднее я, может быть, заменю буквами и названия других городов, обилие фактического материала может затемнить историю Гулливера, отвлечь внимание от главного, вернувшись в Б., он устроился в то самое учреждение, о котором я уже говорил, какое облегчение, можно не повторяться, он завел папку под названием «Смысл жизни и магия красоты», об этой его идее тоже было сказано достаточно, главное заключалось в том, что прекрасное очаровывает и этим разрывает бесконечную цепь вопросов «зачем», красота утверждает себя, о прекрасном не спрашивают «зачем», к этому добавлялась еще платоновская лестница красоты, на вершине которой стоял Прекрасный Человек, создать такого человека – вот наша цель, наш долг, наша обязанность, думал Гулливер, эта цель и делает жизнь осмысленной, главное то, что смысл открывается не разуму, он открывается чувству, нелегко дался Гулливеру этот отказ от знания и науки, но если ищешь последнее звено в бесконечной цепи, разум тебе не помощник, он хотел написать такое произведение, которое было бы изображением его «я», всего лучшего в нем, создать «монограмму своего сокровеннейшего существа» , но чем было это существо? чем был Гулливер? что в нем было самое важное, самое лучшее? можно, конечно, считать такую одержимость собой симптомом патологического нарциссизма, но разве базельский философ не говорил: «я жажду себя – вот что было постоянной темой моих последних 10 лет», хорошенький пример, чтобы отвергнуть диагноз, но Гулливер, без сомнения, предпочитал быть чудаком-нарциссистом, чем здравомыслящим обывателем, у первого, думал он, хотя бы, есть шанс, однако был ли шанс у Гулливера, по всему судя, никаких шансов у него не было, он не создал ничего не то что замечательного, но даже заслуживающего прочтения, он был чокнутый неудачник, хотя подавал надежды в разных занятиях, и там, и там, но ему всегда хотелось большего, и в результате, как это обычно бывает, он остался у разбитого корыта, сказка о золотой рыбке – это сказка о Гулливере, безумству храбрых поем мы песни, но это похоронные песни, да и не на всех похоронах они поются, на земле жило, вероятно, немало храбрых, о которых никто так и не узнал, тихо они сошли в могилу, никаких песен, никаких фанфар, храбрость им ни в чем не помогла, а только сбила с дороги, кроме храбрости нужен еще и талант, при заурядных способностях храбрость – верный путь на дно, и Гулливер как бы предчувствовал свою судьбу, недаром ему нравились все эти чеховские неудачники, нравились и пугали, он не хотел, чтобы его жизнь превратилась в скучную историю, но как этого избежать, если знаменитый ученый, профессор, член всех российских и трех заграничных университетов, дожив до шестидесяти двух лет, не видит в своей жизни смысла, стареть, полнеть, опускаться , только это и остается, а если попробуешь найти что-то другое, например, стать пианистом или актером, то из этого ничего не выйдет, а если и выйдет, то получится то же, что с профессором, членом всех российских университетов, что получилось со всеми этими земскими врачами, дмитриями ионычами, михаилами львовичами, иванами петровичами, прошлое израсходовано на пустяки, а настоящее ужасно по своей нелепости , вот этого он боялся, израсходовать жизнь на пустяки, но именно это с ним и случилось, да и как может случиться что-то другое, если в жизни все – пустяки, все гадко, и жить незачем, в девушках душно, и замужем душно , похоже, именно это и было главной мыслью Чехова, но ведь есть же примеры, великие имена, которые воодушевляют, да, но все они, жили в Европе, преподавали в европейских университетах, рисовали в студиях на Монмартре или еще где-то, и если сходили с ума, то не в деревне Борисовке, а на площади в Турине, если бы Гулливер был математиком, он бы, возможно, уехал за границу, но с гуманитарным дипломом делать ему за границей было нечего.
НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
мой рассказ окончательно перешел в область рассуждений, в том смысле, что давно уже этой области не покидает, может быть, я надеюсь, когда-нибудь он из нее и выберется, но не в ближайшее время, хотя, не скрою, в этой области я чувствую себя как дома, здесь предполагается, что дома я чувствую себя хорошо, литературная условность, современные писатели избегают сложных конструкций, абстрактных мыслей, как я их сам избегал когда-то, начитавшись Хемингуэя, вряд ли Гулливер читал этого писателя, это, конечно, делал я, как появилось это имя, для чего я назвал себя Гулливером, этим, наверное, я выдал свое тайное чувство, всю жизнь мне казалось, что я живу в стране лилипутов, но ведь Гулливер жил и в стране великанов, поэтому, называя себя так, я еще не предрешаю вопроса, ответа, в какой стране я живу, и каков мой рост, по сравнению с ростом ее обитателей, ничего не решено, это и к лучшему, Гулливер – удобный ярлык, нейтральное имя, гораздо благозвучнее моего, когда-нибудь я его раскрою, и вы удивитесь, насколько его трудно выговорить, к тому времени я верну вас, читатели, из ссылки, из мест заключения, чтобы вы могли удивиться, а потом верну обратно, но пока я описываю жизнь Гулливера, я описываю его внутреннюю жизнь, говоря точнее, жизнь его духа, а эта жизнь тесно связана с абстракциями, потому в моем рассказе так много трудных и темных выражений, темных в том смысле, что непонятных, хотя по сути своей они светлые и радостные, Гулливер пришел к тому же, что и Ницше, заявивший в первом своем сочинении, его можно назвать манифестом, что человек, чтобы выносить жизнь, должен создать иллюзию, некий прекрасный образ, если бы мы могли представить себе вочеловечение диссонанса, – а что же иное и представляет собою человек? – то такому диссонансу для возможности жить потребовалась бы какая-нибудь дивная иллюзия, набрасывающая покров красоты на его собственное существо , так говорил профессор Ницше, для Гулливера это решение означало компромисс между разумом и сердцем, разум твердил, что жизнь ничтожна, что этому миру лучше не существовать, чем существовать, но сердце, обольщенное красотой, твердило обратное, и Гулливер принялся повсюду искать красоту, он хорошо знал музыку, но литературу еще недостаточно, и совсем плохо он разбирался в живописи, пластике и архитектуре, перед ним открылся огромный фронт работ, энергичное выражение, оно мне нравится, как и выражение «выдвигаться», я встретил его в одном из романов Саши Соколова, он выдвигался туда-то и туда-то – говорилось о персонаже, который просто шел, или бежал, или катил на лыжах, военные термины придают рассказу энергию, бодрость, Гулливер и правда чувствовал себя Тимуром, Александром, Цезарем, Наполеоном – по размерам предстоящих ему завоеваний, не творческих, хотя и этих тоже, но в первую очередь под завоеваниями здесь имеется в виду усвоение культурного наследия, как легко я строю такие фразы, выговариваю такие слова, когда ты дома, можешь передвигаться и с закрытыми глазами, вот я и выдал себя, эрудированный интеллектуал, хотя и без диплома, больше пока ничего не скажу, молчание, тишина, и пишу я, конечно, не для читателей Паланика и Бегбедера, и не для читателей Коэльо и Мураками, и не для читателей Прилепина и Сорокина, последний чем-то мне близок, тоже начитанный интеллектуал, и пишет интеллектуально, хотя и без абстракций, но в остальном, читатель может подумать, что я работаю в газете, веду колонку книжных новинок, и его предположение будет недалеко от истины, я же говорил: мне нравится перечислять имена, имена известных людей похожи на мраморные вазы в музее, или бюсты, или еще что-то такое же драгоценное, к чему приятно прикоснуться, хотя бы взглядом, как я прикасаюсь взглядом к корешкам книг на полках, читатель может подумать, что я библиотекарь, и он будет отчасти прав, так я ободряю читателя, чтобы он продержался еще немного, там, за чертой, не отдал концы, швартовы, придет время, и я сам их обрублю, но сейчас мне приятно сознавать, что где-то вдали, за Полярным кругом, коченеет на лютом морозе, в полярной ночи мой читатель, в таком состоянии он, конечно, будет рад любому огоньку, любому слову, любой строке, а я, словно торговец пушниной, приезжаю на санях, запряженных собаками, и обмениваю шкуры на спички и водку, никаких абстракций, никаких рассуждений, упряжки спарили, подъем взят, нарты снова в пути .
ЗАПАД И ВОСТОК
Гулливер полюбил все классическое, аполлоническое, если бы он читал на древних языках, он взял бы себе в образцы греческих и римских авторов, но ему приходилось обходиться переводами Ларошфуко и Паскаля, хорошими переводами, и вообще, он больше учился у переводчиков, чем у авторов, пишущих по-русски, в литературе на русском он не находил примеров «большого стиля», в текстах было много лишнего, необязательного, частного, неуниверсального, областные словечки, разговорные выражения, неправильные обороты и так далее, переводчики же были хранителями правильного языка, и в визуальных искусствах всем направлениям он предпочитал классицизм, ему нравились (или он уверял себя, что ему нравятся) картины Пуссена и Давида, скульптуры Кановы и Торвальдсена, парки Павловска, фонтаны Петергофа, да, в музыке он по-прежнему любил романтиков, но в литературе и живописи сделал своими кумирами классицистов, на него повлияли Ницше и Шпенглер, великие немцы поклонялись античному духу, веймарский классицизм, Гете и Шиллер, человек представляет собой ценность лишь постольку, поскольку он способен наложить на свои переживания клеймо вечности , Гулливер, ездил в Петербург, Павловск, Петергоф, чтобы проникнуться классическим духом, до чего же это странно, но так было, факты упрямее ослов, и я, как упрямый осел, придерживаюсь фактов, главное – идти всегда в одном направлении, тогда обязательно куда-то придешь, если начнешь шататься из стороны в сторону, рискуешь вернуться в то же самое место, откуда вышел, или потерять силы по дороге, неудивительно, что Гулливер увлекся жанром афоризмов, Ницше и Ларошфуко казались ему идеальными авторами, кроме того, ему нравились стихотворения в прозе, но здесь, опять же, Тургеневу он предпочитал зарубежных авторов, например, Элюара, Хименеса, если бы он верил в переселение душ, то наверняка бы посчитал, что в нем воплотилась душа какого-то западного литератора и мучается из-за того, что ошиблась языковым регионом, он чувствовал эту классическую выучку и у Хемингуэя, и у Фицджеральда, и у Сарояна, и у Буковски, и у Эллиса, самый заурядный кропатель детективов и триллеров, казалось, держал в голове классические образцы, Тцара был классичнее Хармса, а Хаксли – Замятина, ничего с этим не поделать, Достоевский ничему не научил Гулливера, и Пастернак тоже, ничему он не научился и у Сорокина, и у Пелевина, и у Рыбакова, и у Елизарова, и у Астафьева, и у Солженицына, и у Шишкина, и у Мамлеева, будто перебираешь драгоценные камни, радость скупого рыцаря, горят свечи, сундуки открыты, блестят рубины, сапфиры, алмазы, но и среди западных писателей ХХ века Гулливер не нашел никого близкого себе, кроме Кафки и Хемингуэя, сундуки закрываются, свечи гаснут, даже меня это утомляет, книгочея из книгочеев, я все больше говорю о себе, чего не собирался делать, надо поискать, нет ли среди моих скрижалей той, в которой дозволяется и даже предписывается говорить все, что взойдет в голову, я написал «взойдет», а не «взбредет», потому что это слово отдает чем-то старым и русским, я еще мало рассказал о том, как Гулливер изучал русскую литературу, как он пытался проникнуть в сердце, печенку и селезенку русского языка, он был пожирателем текстов, романов и повестей, съешь печенку врага и обретешь его смелость, он был не просто пожирателем, а гурманом, оценивающим каждое слово, каждый оборот, проверяющим его пробирным камнем, которым его снабдили большие знатоки русского языка, такие, как Нора Галь и Корней Чуковский, одно время он настолько влюбился в русскую литературу и русский язык, что ему уже не нужно было никакого Прекрасного Человека, он словно обрел настоящий дом, родину, убежище, укрывище, чего он только не прочел – «слова» Феодосия Печерского, проповеди Кирилла Туровского и другие тексты на старославянском и древнерусском, он ездил в Псков, Владимир, Суздаль, Ярославль, чтобы увидеть старые русские церкви, он пытался соединить классицизм и «народность», но это ему плохо удавалось, «классическое» и «русское» существовали в его сознании раздельно, и сойтись им не удавалось, очевидно, по складу ума и чувства он был западником, встречаются ли на западе люди, которых можно назвать восточниками, конечно, эти увлечения буддизмом, битники, хиппи, но это другой восток, не тот, на котором жил Гулливер, в котором он барахтался как лягушка в молоке, ничего не сбивалось, молоко оставалось молоком, и это не было материнское молоко, Гулливер чувствовал себя чужим и стране, и эпохе, да, ему следовало бы родиться в век Растрелли и не в Петербурге, а в Париже, а лучше бы ему вообще не появляться на свет, тогда не было бы никаких вопросов, нет человека, нет проблемы, как сказал А. Рыбаков, во вселенной нет никаких проблем, кроме человеческих, классицизм – это попытка гармонизовать негармоничное, соединить несоединимое, наложить клеймо вечности на преходящее, между тем Гулливеру уже исполнилось тридцать три года, и он еще ничего не сделал, ничего не достиг.
ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ
здесь я делаю остановку, беру перерыв, издали все казалось таким соблазнительным, многоцветным, роскошным, пиршеством духа и прочее, но вблизи все выглядит иначе, может быть, потому, что эта духовная эволюция Гулливера не имеет никакого объективного значения, многие блуждают по уже пройденным путям, топчутся на вытоптанных полянах, склоняются над пересохшими источниками, но в этом нет ничего живого, живет только новое, живой дух всегда завоевывает новые пространства, а в случае с Гулливером этого не происходило, хотя издали, повторю, замысел представлялся интересным, в чем-то поучительным, но вряд ли он поучителен даже как неудача, эта неудача не из тех, на которых учатся, и все же я доведу свою «гулливериаду» до конца, вот только отдохну от своего героя, подумать только, хотя бы в этом смысле Гулливера можно назвать героем, незадачливый герой незадавшегося повествования, но почему незадавшегося, может ли не удаться биография, если она точно следует фактам, конечно, не все факты могут составить интересное жизнеописание, как будто удача и неудача определяются интересом, оставляю это газетчикам, мое сообщение затянулось, а ведь я начинал его с одной целью: сообщить, что беру перерыв, что мне нужен отдых от персонажа и этой манеры, в которой смешивается объективное и субъективное, автор с героем, повествование с рассуждениями о повествовании, на самом деле эта манера мне чужда, не скажу, что у меня есть своя манера, но если бы она у меня была, она бы точно отличалась от этой, я писал бы обычную прозу, скорее всего, от первого лица, но не примешивая к рассказу авторские ремарки, я заканчиваю, читатель предупрежден, а я вооружен, то есть готов написать большой кусок в другом стиле, чем-то он наверняка будет связан с предыдущим, какими-то мотивами, но не буду загадывать, отдыхаешь только тогда, когда не чувствуешь принуждения, никаких планов, никаких скрижалей, прощай, Гулливер, до скорого, Гулливер.
Свидетельство о публикации №113032411733
