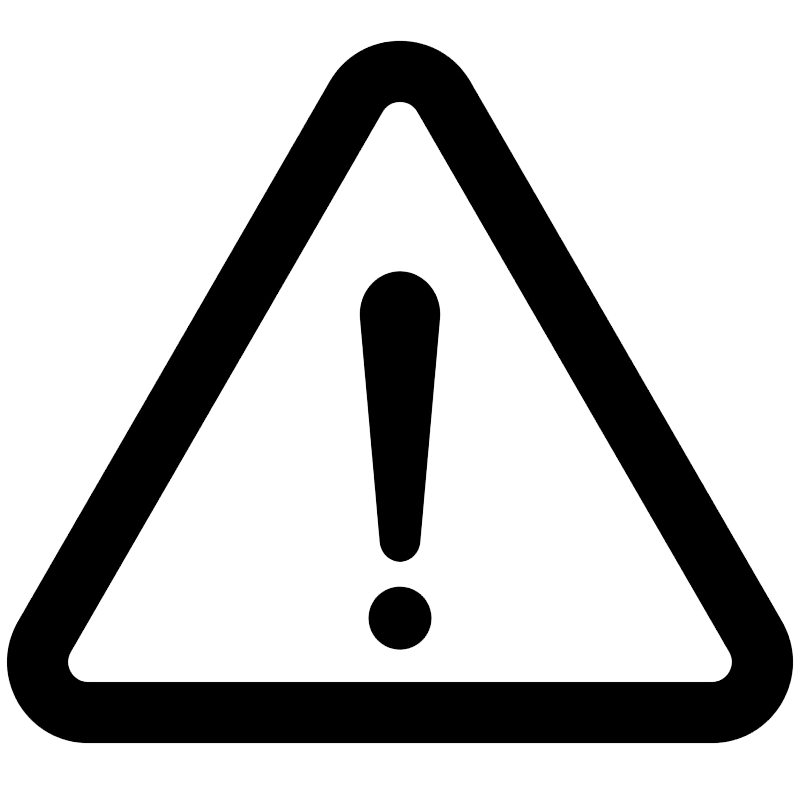
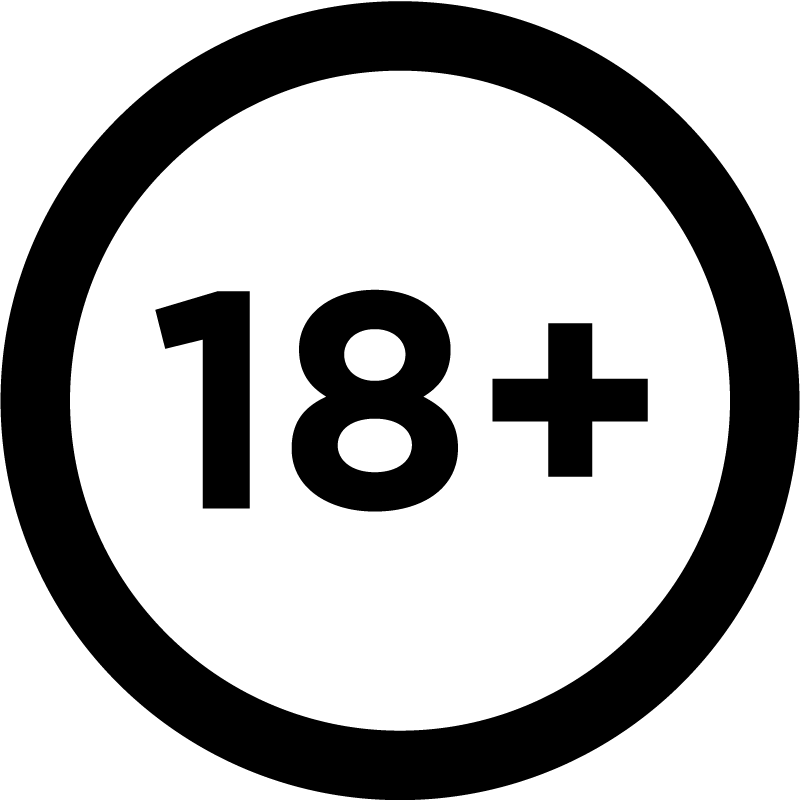 Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Воспоминания крови. Реальная мистика, повесть
День – как день. На улице мокрый снег. Поставила чайник, и опять – за компьютер. Всё она… мне покоя не даёт, прабабушка моя, давно уж покойная, Вера Павловна! А ведь не видела её никогда, только на фамильном портрете – в летах уже, высокая причёска, властное лицо, полноватые полуобнажённые руки. А в снах моих – намного моложе, чаще в профиль, в чёрном кружевном платье, напряжённая, будто заточённая в клетку птица с опасной безуминкой в косящем глазу. Однажды, правда очень давно, я её – пусть это покажется странным – и наяву видела!
Было мне тогда лет семь, гуляли мы с братом по берегу искусственного Кременчугского моря, и вдруг…
Здоровенный дубовый гроб плывёт. Тогда по берегам много посёлков и местных кладбищ этим злосчастным морем размыло, но чтобы гробы по воде плыли?..
Прямо – корабль, только без паруса. А в нём – она! Я её по косе узнала. Таких кос просто не бывает, потому, что не может быть: чёрная, как смоль, – толщиной в ладонь, и на лбу чуть не в четыре оборота уложена. Мне про эту косу бабушка Дарья Петровна рассказывала. Всем косам – королева! Ни у кого из женщин нашего рода потом такой и не было.
Так вот, крышки на гробу нет, грудь у неё чем-то красным покрыта, и виден только череп с проваленными глазницами. Медленно плывёт, торжественно….
И, показалось, на меня косится! Глаз нет, а всё равно, даже, когда мы с братом домой прибежали, и то казалось.
И поняли все наши – попрощаться выплыла. Ведь где и как похоронена, никто не знал.
Вышла однажды за ворота драгоценности на маковую соломку менять – цирроз печени у неё был, боли невыносимые – и как в воду канула.
Говорят, видели её у какого-то лекаря из дальнего уезда, влюбился вроде до безумия, только ведь и дня с ним не прожила, скончалась… А отчего? Кто теперь скажет?.. Может, от болезни своей ужасной, может, ещё от чего.
Ходили слухи – памятник ей тот лекарь поставил, словно княгине какой… Но слухи – есть слухи.
Только теперь я поняла – ко мне она тогда приплывала, силу свою нечеловеческую не передав, упокоиться никак не могла. А я убежала, не приняла подарочка… Вот теперь – и наказание. Только усну, и – поехало: уже и я – не я, и живу не своей, а той, её жизнью в те стародавние времена в её доме со всем её семейством. И всё – будто наяву!
Я, вообще-то, реалистка и думаю, что, скорее всего, это кровь её бешеная в моих жилах взбунтовалась, вспенилась и помчалась вспять, всё, что с её прежней хозяйкой случалось по берегам времени вспоминая.
Начала я эти воспоминания записывать, гляжу, а они на исповедь похожи!
Ведь Верой прабабку звали, а от веры истинной, то ли, беда страшная, с ней приключившаяся, увела её, то ли, ещё что. Вольная чересчур была и хара/ктерная, даже перед смертью не покаялась. Может, теперь через меня хочет?..
I. ВЕРА
1.Страдание о Борисах
Своего сына-первенца Вера Краснопольская назвала Борисом в честь двоюродного брата, Бориса Лажновского, в девичестве она носила ту же фамилию. Кузен Борис был лет на пять младше её, но чем-то привлекал внимание девушки, возможно, несколько неземным трагически-отрешённым взглядом. Думали, он станет философом или священнослужителем, но судьба распорядилась по-иному.
Зимой 1883-го, оканчивающий гимназию Борис Лажновский приехал к Краснопольским на Рождественские каникулы и впервые познакомился со своим тогда уже четырёхлетним тёзкой.
Оба Бориса были черноволосы, большеглазы и худы, сказывалась порода.
Хлопотавшей по хозяйству Вере нравилось наблюдать, как они, степенно рассуждая о чём-то, разглядывали новогоднюю ёлку, как на цыпочках младший водил старшего в детскую, поглядеть на спящую сестрицу, двухлетнюю Дашулю.
Пётр Аркадьевич, муж Веры, а значит по праву и нынешний владелец усадьбы и заводов, будучи военврачом, успешно вёл и частную практику. Больных он принимал на первом этаже центрального здания, в угловом, самом светлом из кабинетов. Особенно ему нравилось пользовать офицерских жён и дочерей. Зачастую дамы приходили к нему просто поболтать или посплетничать. Довольно обаятельный и тактичный, к тому же прирождённый слушатель, для окраинного заштатного гарнизона, он был скорее местной достопримечательностью, чем просто лекарем. И любая из его пациенток, нисколько не таясь, а даже с нескрываемой заинтересованностью легко делилась с ним как бытовой, так и вполне интимной стороной личной жизни.
Именно вследствие таких бесед Пётр Аркадьевич и решил втайне от семьи и даже близких друзей периодически записывать сии дамские откровения в чёрную тетрадь коленкорового переплёта с изображением некой демонической птицы, навевающей при известной доле воображения вполне подходящие ассоциации.
Уже лет семь наш доктор активно работал над книгой отношений между полами, вольно или невольно подражая в этом недавно открытому им г-ну Фрейду. Иногда с наиболее активными пациентками он проводил и личные исследования, конечно же, по взаимной симпатии.
В результате подобных экскурсов в ведомое и неведомое случались даже внебрачные дети… Но и эта, как и другие стороны его пытливой натуры, успешно скрывалась Пётром Аркадьевичем, и в городке он слыл не только знающим специалистом и добрым собеседником, но и образованным добропорядочным отцом и семьянином.
Парочку же тройку из присланных ему младенческих фото он, сам не зная почему, всё же хранил под вспоротой подкладкой давно отслужившего кожаного портмоне.
Верочка Лажновская познакомилась с будущим мужем на одном из губернских балов. Он сразу привлёк её внимание столичным обхождением и непозволительно раскованной манерой суждений. Столицу Петрушевский оставил, дабы где-нибудь в тихой провинции жениться, обзавестись крепким тылом и на свободе, наконец, заняться научной работой.
На балу он оказался в общем-то случайно, заехал погостить к другу, к вечеру тот предложил развлечься. И уже первый танец Пётр Аркадьевич танцевал с Верочкой. Вот уж точно – судьба!
Страстно увлекавшаяся философией, немецкой поэзией и оперным пением, которому ездила учиться даже у известных профессионалов, Вера столь же безоглядно увлеклась и нашим доктором. А позже, став женой Петра Аркадьевича, оказалась ещё и неплохой хозяйкой – любила чистоту и держала дом в строгости и порядке. К тому же у неё совсем не наблюдалось свойственной скучающим от безделья провинциалкам пагубной привычки беспардонно вмешиваться в чисто мужские дела.
Она нисколько не тяготилась вынужденным бездельем и затворничеством, а наоборот, как все творческие натуры, умела извлекать даже из этого, не в меру одомашненного своего положения, массу интересного, а подчас и духовно ценного.
Пётр Аркадьевич любил жену, если при его эгоистичной натуре «человека в себе» вообще можно было говорить о глубоких чувствах. Но, довольно высоко ценя её эрудицию и неординарность, он всё же частенько использовал Верочку и как подходящий объект для своих творческих изысканий.
Душа же Верочки, рано оставшейся сиротой, была целиком предоставлена себе и подчас забредала в такие философские глубины, что выбиралась из них почти на локотках… Интерес к философии, конечно же, поджигала постоянная полемика с мужем.
– Женщина отличается от человека органически на некоторый коэффициент «к», который обычно меньше единицы, – в весёлом расположении духа любил говаривать Пётр Аркадьевич, пожалуй, и не думая обидеть жену.
А она и не обижалась. Верочка считала, что женщина и не человек вовсе, а так… – чуждая земному миру, случайно залетевшая химера, явно не способная к самостоятельному земному существованию.
Лишь основательно укрепившись на каком-либо земном «скелете» – например, чувстве долга или всепоглощающей любви, эта химера вероятно и может на какое-то время обрести черты и качества земного существа, а именно – человека, но в этом случае она постоянно находится в жесточайшем, губительном и для неё и для окружающих противоречии между законами земного бытия и своим, уж конечно не подчиняющимся этим законам запредельным существованием.
Представьте себе окольцованную, беременную химеру, да ещё с поварёшкой в руке! Долго ли она выдержит?..
Вот эта, не поддающаяся никакому осмыслению, лишённая всякой земной логики и причинности женская запредельность и сводит с ума мужскую половину человечества – утверждала Верочка в одной из своих философских статей! Но при этом оговаривалась, что существуют и мужчины – химеры. Но, увы, как чрезвычайно редкая аномалия.
Знал бы Пётр Аркадьевич, что варится в головке его молодой жёнушки, знал бы!.. Да и не он один…
А тогда, не прошло и недели с их венчания, как он, в угоду своему исследовательскому азарту, уже досаждал Верочке расспросами об её отроческих чувствах к кузену Борису.
И, о, если б это было – из ревности, но, увы, увы, увы… Верочка, боясь чем-либо расстроить мужа, багровела до кончиков ушей, сердилась и путалась в ответах. Но и этот, ещё полудетский опыт её женской чувственности, был тщательно занесён Петром Аркадьевичем в его всепожирающий талмуд.
На следующий день по приезде Бориса Лажновского к Краснопольским, те как и всегда под праздники, затеяли поход по магазинам за новогодними подарками. Пётр Аркадьевич не любил подобных экскурсов: Верочка, как и множество только что вышедших замуж особ, была просто безудержна в покупках. Зрачки её вспыхивали, как раздутые на ветру уголья, пальцы не успевали отсчитывать купюры, и сколько бы ни было взято денег, их катастрофически не хватало! Ах, если бы они – она, в раже нескончаемых ахов и охов, а он, в напрасном стремлении хоть как-то попридержать её, могли только представить, что ждало их по возвращении, ах, если бы… Но, что предрешено, то предрешено.
Пока малыши под присмотром няни доедали пшённую кашу с тыквой – ломовую, как окрестила её в своё время Верина бабушка Ефимия, Борис старший решил забраться на чердак, где они с Верочкой частенько играли в детстве. Он надеялся найти там сборник стихов, подаренный ему кузиной лет пять назад.
Помнится, она тогда, не сдержавшись, чмокнула его в отворот сюртука. А он, вот стыд-то, побагровев, как перезрелый помидор, через ступеньку кинулся вниз, выбежал из дому и, укрывшись за кустом бузины, долго пытался успокоить своё взбунтовавшееся мужское естество.
Только после переезда Лажновских в Жмеринку, Борис, заскучав, припомнил эту оказию и начал, тайно лелея, раздувать в сердце едва зародившееся чувство.
Вот и теперь ему нестерпимо захотелось заиметь от Верочки хоть какую-то безделицу, чтобы потом, в минуты всё чаще накатывавшей любовной тоски, прижимать к губам хоть что-нибудь, прежде принадлежавшее ей…
Когда-то под крышей этого чердака они с кузиной бывали невообразимо счастливы. Свет из полукруглого цветного оконца падал на пыльные завесы паутины и груды «доисторических» вещей так волнующе, так таинственно, что всё вокруг мгновенно обращалось в сказку…
Теперь же чистюля Лажновский, брезгливо поглядывая на тотчас загрязнившиеся перчатки, поспешно перебрал медицинские брошюры и справочники, обшарил сундук и этажерки, но заветного томика так и не нашёл.
Уже у выхода он вдруг заметил под потолком старое ружьё в промасленной тряпице. До сих пор он ещё не держал в руках ничего подобного, поэтому, сняв ружьё с крюка, подошёл к окну и, направив дуло вверх, пару раз спустил курок. Выстрелов не последовало.
– Значит, не заряжено, – решил он.
Сбежав по винтовой лестнице, творению самого Петра Аркадьевича, которым тот необычайно гордился – ведь всё остальное, как и сам дом, было лишь приданным его жены – Борис заглянул в детскую.
– Берегись! – припугнул он притихших ребятишек и нечаянно выстрелил. У Бориса младшего разнесло пол головы, у Дашеньки застряло во лбу несколько крупных дробинок. Присев, она счастливо укрылась за столешницей.
Через пару минут, взбегая на тот же чердак, Борис старший слышал лишь бешеное биение своего сердца и истошные вопли няни, там, внизу.
– Как же так? Почему это?.. Что же теперь?! – Ответ пришёл мгновенно. – С этим нельзя жить, никак нельзя!
Разувшись, он попытался выстрелить себе в грудь, спустив курок большим пальцем правой ноги – где-то он читал об этом… – но курок щёлкнул впустую.
Тогда, отыскав среди хлама обрывок шнура, Борис привязал его к злосчастному крюку под потолком и, взобравшись на шаткий стул с треснутой ножкой, как сумел, сделал петлю. Чтобы стул не опрокинулся раньше времени, он подложил под него стопку недавно просмотренных книжонок.
Последней, самой верхней, оказалась та, Верина, которую четверть часа назад он так упорно искал, ещё в той, счастливой беззаботной жизни. Через мгновение Бориса Лажновского, красавца, эстета и умника, подававшего большие надежды, не стало.
Вера Краснопольская пролежала в нервной горячке с месяц. Когда поднялась, родные и близкие перестали узнавать её. В бедняжку будто бес вселился. Она боле не ходила в церковь, даже по воскресеньям, сделалась груба с мужем и холодна с маленькой дочуркой, вернее совсем не замечала её.
– И почему это всё именно со мной? – Не оставляли её горестные размышления. – Ведь не из-за Бориса же? Да нет, я ведь мужа люблю, у меня и в мыслях… А может, всё-таки было? – Вдруг холодно засосало у неё под ложечкой. – Ведь радовалась, что Борюся в Бориса уродился! А там…– Она со страхом подняла вверх помутившийся взгляд. – Уже, наверное, знали. Да что там – наверное… Неужто только за это?
Но тогда страшно жить, страшно думать, страшно быть самой собой! Ведь ничего же не было! Это невыносимо, за что?..
В её нынешней, пожалуй, уж совсем нереальной жизни, так ужасно и несправедливо она вдруг изменилась, Вере приходилось существовать теперь и без надежд, и без желаний, и без видимой цели – в общем, как получится… Какой-то главный стержень определённо сломался в ней, но на смену ему чуть ли не спасительницей тут же явилась совершенно неуправляемая субстанция её возбуждённой нервной, самости, которая теперь и стала Верой Краснопольской. Не слушая возмущённых увещеваний родни, эта, будто уже и не Вера, сдав на руки кормилице малолетнюю дочку, неожиданно для всех ушла на сцену в оперные певицы! И стала жить не своей, раз уж, там…, на верху, не позволяют, а чужими, как ей тогда мнилось, вовсе не требующими никакой ответственности выдуманными сценарными жизнями.
– Кто насочинял все эти страсти-мордасти, тому и отвечать! – подмигивала она кому-то в высоком овальном зеркале богемского стекла. И все не без оснований побаивались, что бедняжка вот-вот совсем сойдёт с ума!
– Не трогайте её, пусть поёт! – Отмахивался Пётр Аркадьевич. – Будет хоть чем-то занята – выкарабкается!
Но, как оказалось, спасла Верочку Краснопольскую отнюдь не оперная сцена, а – надо же! – её собственное полнейшее отрешение от себя прежней!
– Когда беда как бы и не с тобой, то и болит ведь меньше, не так ли?.. – наблюдая за женой, аккуратно записал в свою тетрадь Пётр Аркадьевич и стал уже подумывать о новом научном труде.
Сразу после трагедии Бориса Лажновского увезли хоронить в Жмеринку. А Борис младший упокоился на местном кладбище подле склепа упомянутой выше Вериной бабушки, Ефимии Слеповой.
– Всё-таки под присмотром. – Горестно вздохнул Пётр Аркадьевич, бросая в могилку ком сырой глины. – Всё-таки…
А через год Вера родила ещё девочку, Машеньку, явно без желания, просто так вышло. Все думали, что родины смягчат её, но, увы, она даже отказалась кормить новорожденную и уже через неделю, утянув холстиной грудь, вернулась на сцену.
И жизнь её, вернее то, что от неё осталось, как-то сама собой обратилась в две всецело захватившие Веру игры:
сценическую – постоянно балансирующую меж надуманным благом и столь же надуманным грехом, и житейскую – мелко суетную, состоящую лишь из скороспелых привязанностей и столь же скорых бесчувственных отречений – совершенно пустую, но успешно отвлекавшую её от чёрных мыслей.
– Принимайте – какая есть, другой не буду! – резко отсекала она любые попытки осудить или хотя бы вразумить её, но все продолжали любить строптивицу Верочку и с лёгкостью прощали ей то, что вряд ли простили бы кому-то другому.
Её особенное, трагически надорванное женское обаяние действовало на окружающих подобно сильному наркотику. И устоять пред ним, особенно мужчинам, не представлялось никакой возможности.
Да и стоило ли?.. – Грустно улыбнулся бы и сейчас любой из тогдашних её обожателей и, пожалуй, был бы прав.
Ведь именно в долгом, зачастую неоправданном ожидании истинной любви, многие из нас и терпят на пределе человеческих возможностей эти десятилетия, двадцатилетия нет, не семейной жизни – жалкого её подобия!
Время шло, а Вера Краснопольская не менялась. Душевная болезнь её не шла на убыль, а скорее прогрессировала и вскоре сделалась не чем иным, как новым Вериным характером, который в свою очередь определил ей и новую судьбу, столь же запутанную и противоречивую, как её хозяйка.
Июль, 1885-го
2. Волосы Веры
Отмахнувшись от солнечного луча, щекотавшего ей подбородок, Вера Краснопольская открыла глаза. Мир яви, как и в прежние её пробуждения, был отнюдь не её миром.
– Всё вокруг, всё-всё… – даже вчера купленная, вызвавшая столь бурное восхищение домашних расписная китайская лампа – фу…, уже с ноющей мухой внутри… – опять не имело к ней никакого отношения! Впрочем, как и вчера, как и третьего дни, как и год назад. Реальность была всё столь же не реальна! И это вызывало даже некоторую эйфорию:
– Новые ощущения, новые запахи… Каждый день – всё новое!
И опять ко всему – привыкать, приноравливаться. Ей Богу, как в театре! А, кстати, что же такое – эта жизнь, ежели я её и не чувствую вовсе?.. – Она попыталась разок другой ущемить воздух перед собой. – Нету, ничегошеньки нету. Фикция! Блеф.
Упорхнуть бы из этого обмана туда – к Борисам моим… – театрально вскинула она руки, по привычке оценивая взглядом их плавный лебединый излом.
– Хотя, и там, скорее всего, то же самое! Боже, как я устала, ещё и не жила, а устала! Неужто это всё – нервно облизнула она пересохшие губы, – ждёт и моих девчонок? Зря я их всё-таки нарожала…
Но ведь бывает же, бывает… Вдруг хоть одной из них, да повезёт?! И приживётся она здесь, как здоровое, удачливое животное, которое, мало размышляя, малого хочет, а потому и мало грешит и будет наивно счастлива, совсем как младенец, а значит… не выпадет, как я, из этой… – Вера на минуту запнулась, подыскивая наиболее точное определение, но кроме единственного, донельзя затасканного и ничего ни для кого здесь не определяющего, как – жизнь, так ничего и не нашла.
– Мотается жизнёнка моя, ну, как бокал с водой по скользкому подносу – туда-сюда, туда-сюда… И не ухватить! Да ведь ещё и насмехается над протянутой рукой! А пить-то всё равно надо! Боже, как я устала от этого «надо». Устала, устала, устала…
Вперив неподвижный взгляд в ближайшее трюмо, она зачем-то сжала в трубочку и тут же распустила запёкшийся от полуночных поцелуев рот:
– Спать надо по ночам, а не истеричные канканы устраивать! Опять – в гриме завалилась… А ведь лицо беречь надо, профессия обязывает!
Скинув на пол ночнушку, она надела гипюровый лиф и панталоны с такими же гипюровыми врезками – корсет, пожалуй, ни к чему, и так – оса осой! – жадно отхлебнула вчерашнего чаю и требовательно позвонила в колокольчик:
– Катя, умываться, одеваться и причёсываться! Ты же знаешь, у меня сегодня первое соло! Самое первое... А Пётр Аркадьич уже в гарнизоне?..
– Чуть свет поднялись, большие учения у них-с. Как же без медицины?.. – Свеженькая, умытая и гладко причёсанная Катя возникла тут же, будто всю ночь дожидалась под дверью. К груди она прижимала расписной фарфоровый тазик с пучком корпии, внушительной горкой гребней и заметно припотевшей, видно из кладовой, уже откупоренной бутылью медицинского спирта.
Вера оглядела её с явной неприязнью:
– Ишь, с утра уже цветёт! А, может, такие и не спят вовсе?..
Накинув халат, она по-птичьи уселась на край подставленного табурета и дважды сладко потянулась. Эти частые, на первый взгляд беспричинные потягивания позволяли Вере реальнее ощутить окружающее да и себя в нём. Она будто ласкалась к этому окружающему каждой вогнутостью и выпуклостью своего чувственного тела, ежесекундно примеряя его обновляющиеся реалии, как новоявленную кожу.
Вот и теперь… – и освежённые спиртом отдушки будуара, и схожие с водорослями потёки теней на его обоях, да и многое-многое другое – уже волновало и будоражило полуобнажённую Веру, будто беспечную рыбку, нечаянно завлечённую течением в опасные и потому столь сладостные глубины неведомого.
Катя, наконец, разделила волосы хозяйки на тонкие пряди и принялась тщательно прочёсывать их нанизанной на зубья гребёнки проспиртованной ватой.
– Опять чуть не на локоть вымахали! И куда растут?.. Как из бочки бездонной! – шутливо посетовала она. – Встали бы на табурет, а то опять все поизмараются, вон их какая пропасть…
И, правда, волосы Веры уже не только доставали до полу, но и лежали на нём крупными кольцами и чёрными серповидными завитками.
Волнистые, сами будто текущие, они почему-то совсем не признавали воды – слишком проста она была для них, что ли?..
Вот и теперь, пьяные от чистоты, слегка поскрипывая, они влажно лоснились под рукой Катерины, будто неведомые живые существа, подчас пугая её самовольными упругими перемещениями…
– Вот так и всё во мне… – подумалось Вере – живёт себе, как хочет! Интересно, когда умру, что это всё… делать будет?.. В трубу вылетит, когда заслонку откроют? Или в таких случаях половицу выламывают?..
Подхватив в охапку свои волосы, ей всё же пришлось забраться на табурет. Тут же отпущенные, они тяжело рухнули до полу, совсем скрыв Веру, и она стала похожа на одинокий чёрный айсберг, плывущий в океане ослепительного света.
В такие минуты Вера сама пугалась самостности своих волос, подчас ощущая себя одновременно и ниспадающим с кручи водопадом и робкой купальщицей под его же уж слишком неспокойными струями.
Вот и сегодня, нечаянно поддавшись их чарам, она вдруг высоко подпрыгнула на табурете:
– Я – всё! Я – везде…
– Да тише, вы! Тпру, ну, тпру же… – Как на взбрыкнувшую лошадь, прикрикнула на неё Катерина. – Ещё упадёте!
– Да ну тебя… Лучше послушай, это я сейчас придумала: «А волосы её текли, змеясь, и руки милого с опаской в них купались…» Правда, замечательно?! Правда?.. Это же стихи…
– Опять в украшениях спали-с? – заметила Катерина. – Всё лицо когда-нибудь исцарапаете!
– Вечно ты не о том… Лучше скажи – ну, почему у меня не получается хоть что-нибудь доделать, довести до конца?.. Наверное, потому…
– Потому, что – жить надо! – закончила за неё Катерина.
В коридоре послышались восхищённые смешки и возгласы девочек. Пятилетняя Даша и трёхлетняя Машка уже с полчаса подглядывали за утренним туалетом матери. В глазах их сквозило неподдельное восхищение, смешанное со страхом и дочерним почитанием.
– Какие… – с восторгом оценила волосы матери Даша. –
И у меня такие же будут!
– Нет, у меня! – взвизгнула Машка
И, видимо уж слишком надавив на створки дверей, обе малышки, попадав, ввалились в будуар матери.
– Мадмуазель Жули, за что я вам плачу? Немедленно заберите
девочек, они здесь всё разнесут! – Вера так притопнула по табурету, что он покачнулся, и одна ножка со скрипом отошла в сторону. Слегка косящие глаза мамы-Веры ещё больше закосили, и девочкам показалось, что откуда-то сверху, выгнув шею, на них глядит уже не матушка их, а вставшая на дыбы Лайба, чёрная кобыла дяди Сержа… Так и не поднимаясь с колен, обе малышки попятились к дверям.
– И вообще, почему это дети не одеты к завтраку? – казалось, возмущённо пророкотало само пространство по закоулкам тотчас оробевшего дома.
Перепуганная, с побелевшим лицом, мадмуазель Жули похватала упирающихся детей и, ворча, потащила их узкими изломанными коридорами в детскую.
Наконец, и Катерина справилась со своей нелёгкой задачей – туго-претуго заплела Верины косы и, когда та присела, уложила их на голове хозяйки высокой сверкающей короной.
3. Яйца всмятку
Как обычно перед выступлением, Вера оглядела себя в трельяже, выдвинула очередной ящичек с лосьонами, кремами и притираниями, уж конечно, собственного приготовления – красоту она не доверяла никому – и, зычно пробуя голос, пропела на манер оперной фразы:
– Катюша, – шляпку гри-гри-перль, ну эту, серую, в перловинку, и платье – с узким декольте, оно меня стройнит!
– Куда уж больше-то?.. – Подхватила табурет с тазиком Катя и, семеня, направилась к выходу.
– Шоколаду ещё не забудь, «Бон-бон», моего любимого – это с собой, да два сырых яйца – это сейчас, и непременно от рябой курицы, слышишь, – от рябой!
Катя поспешно удалилась, но почему-то надолго запропала, и Вере пришлось звать из детской Дашу.
– Эту Катьку только за смертью посылать! Принеси-ка мне Дашонок два яйца, да непременно из-под рябой курицы. Быстрее, я опаздываю!
Девочка с радостью бросилась выполнять поручение матери, прыгая через ступеньку, она почти скатилась по виадукам тёмной, ещё сырой с зимы лестницы и через чёрный ход выбежала во внутренний дворик.
Яростный свет уже набравшего силу дня почти ослепил её. Всё вокруг сияло, светилось и будто жмурилось от удовольствия.
– Конечно, зима вон какая долгая была… Вот всё и радуется!
Дашка толкнула плечом калитку курятника, но если и сдвинула её, то лишь на пядь. В образовавшуюся щель тут же протиснулась обезумевшая от внезапного света рябая курица. Наткнувшись на девочку, она уронила только что снесённое яйцо и, надо же, в лепёшку разбила его о подпиравший калитку кирпич. В тёплом гнезде, на котором она только что сидела, увы, не оказалось ни одного яичка. Не было их и в разбросанной вокруг соломе. Тогда Даша, обиженно шмыгнув носом, направилась в другой угол. В лукошке у белой курицы яиц было – сколько хочешь…
– Вот! – Тщетно пытаясь поймать ускользающий взгляд матери, изрядно перемазавшаяся, с куриным пером в тощей косице, Даша, наконец, протянула ей свою добычу.
– Боже, как я опаздываю… Нет, я окончательно опоздала! – металась по комнате Вера, поминутно роняя и подхватывая выпадающие из всех ящиков и ящичков заколки, шарфики и перчатки.
Наконец, она заметила дочку, у которой от огорчения уже подрагивали губы, выхватила у неё яйца и, взглянув на них, – оторопела…
– Я же сказала – от рябой, от рябой! У меня от этих аллергия – тупая, злая, упрямая девчонка! Вы меня с ума сведёте… И за что вы меня так ненавидите?! – уже почти хрипела она, впадая в очередную истерику, но, что удивительно, в то же время внимательно наблюдая за собой и откровенно ужасаясь тому, как ведёт себя с малышкой. – Да что же это я?! – Потеряно ахнул её внутренний голос! Но гадкие, мерзкие слова продолжали нестись из ее искривлённого рта, и рука в кружевной перчатке уже замахнулась для пощёчины.
У Дашки задрожали и щёки. Девочка попыталась заслониться локтем.
– Вот тебе! Вот тебе...
В доли секунды оба яйца были разбиты у малышки на голове и та, размазывая их содержимое по щекам и ушам, села на пол и отчаянно заревела.
– Уберите её! Уберите! – Схватилась за голову Вера. – Ну вот, – у меня уже мигрень! – Подбежав к трюмо, она смочила виски духами и, картинно покачнувшись, упала на постель.
Когда приступ несколько отпустил, она вдруг заметила, что мучают её уже не перемежающиеся колики и судороги в плечах и коленях, а жгучий необоримый стыд за только что содеянное. Единственным спасением от него – было забытьё. И Вера так же быстро, как пришла в неуправляемую ярость, взяла себя в руки: поднялась, припудрила щёки и уже с вполне искренним удивлением уставилась на малышку, всё ещё рыдающую на полу:
– Это ещё откуда?.. И зачем?!
В дверях спальни показалась ещё всклокоченная с ночи мадмуазель. Она подхватила Дашку на руки и вынесла из комнаты.
– Я не хотела, я не хотела… Простите меня, мамочка! Прости…– ещё какое-то время слышалось в коридоре, но хлопнула дверь детской, и всё стихло.
Вера только коротко вздохнула… Надо было жить заново. А угрызения совести вряд ли могли в этом помочь.
Быть нынешним вечером в форме – вот главная задача, которой уже всецело было подчинено её существо. Ничего другого она не знала и уже не желала знать.
Погодя появилась и Катерина:
– Я к соседям бегала. Наши-то, рябые, ещё не снеслись – у Свиридовых пяток одолжила.
Вера медленно, будто священнодействуя, выпила два яйца, пробив в них отверстия черенком инкрустированной чайной ложечки, и только после этого позволила накинуть на себя пелерину. Заметно успокоившись, уже без капризов, она, захватив зонтик и сумочку, наконец, отправилась в театр.
Когда дверь за ней захлопнулась, Катерина уселась в её кресло, вытерла кулаком испарину со лба и, копируя Веру, с хрустом потянулась:
– Всё! Выкатились... Теперь и жить можно-с!
– Когда кошки нет дома, мыши танцуют! – с распущенными бантами влетела в комнату Маша. За ней, в жёлтой рубашонке с сырыми потёками, ещё зарёванная, но уже с вымытыми волосами появилась и Дашуля.
– Катерина, причёсываться! – Взобралась она на соседний стул.
– Нет, я! – Вцепилась в неё Машка, изо всех сил стаскивая сестру.
– Убьётесь ведь! Все – в свою мамашу! – успела поймать их, уже падающих, Катерина и, зацепив одной рукой сразу обеих, выпроводила из комнаты.
Сентябрь, 1889го…
4. Немного истории
Три недели кряду за окнами Краснопольских с шумом и скрежетом хозяйничали дожди, и Вере никак не удавалось выбраться на конную прогулку. Просто сил не было терпеть!
Хотелось воздуха, ветра, скакать и скакать, не разбирая дороги. Казалось, сама душа её засиделась в эту чёртову непогодь.
– Скоро на бабку Фиму похожа буду! Трёх дней не проходит, как в седло тянет. – Достала она со шкапа круглую коробку с маленькой бархатной шляпкой. – Спасу нет! Даже сниться мне стали и эта шляпка, и ветер в вуали…. А всё от неё – бабки Ефимии! Это ведь она первой конелюбкой у нас была – видно в папашу своего уродилась, декабристика этого, в Сибири загубленного, земля ему пухом. Говорили, лихой был наездник, любо дорого глядеть! И на гитаре играл, и стихи сочинял… Влюбился тогда в свою Аннушку, прабабку мою, Фимину матушку, просто без памяти, вот и сделал ей ребёночка, а жениться не успел – арестовали его прямо у дружка закадычного Дениса Давыдова, в Александровке!
Вот уж погостил – так погостил! – Пару раз щёлкнув в воздухе арапником, она уже в который раз свалила с антресолей высокую стопку шляпных коробок. – Ничего, Катька уберёт, и так ни черта не делает!
– Ну, так вот… – и на каторгу его, бедного! Только и успел Аннушке, тяжёлой уж, деньги на родины оставить и письмецо черкнуть – мол жди, дорогая, жив останусь, вернусь!
Ох, и плакала она, говорили! А что поделаешь?.. Судьба такая. Не лучше моей! – Вера опять глянула в окно.
Дождь уже не лил, а валил валом. Вода в бочке под окном хлюпала и выплёскивалась наружу стеклянным веером.
– Ну, что? Опять спать ложиться?.. Кошмар какой! Просто кошмар…
Ну, так вот… Это уж потом – опять невольно углубилась она в воспоминания, – когда пропал он в этой Сибири, она, уже с Фимочкой маленькой, за местного немца заводчика-то и вышла. Красавицей была, говорят, глаз не оторвать, вот, и взял с ребёночком, да ещё и без приданного.
Аннушкина-то мать, Фимина бабка, то ж ведь несчастной у нас уродилась! – Тронув пуховкой нос, Вера присела на низенький стул – примерить недавно заказанные сапожки для верховой езды. – Замуж её бедняжку в шестнадцать выдали. Муж пьющий попался – смертным боем бил! Вот и сбежала от него с новорожденной на руках да узелком из наволочки. А куда идти? Вот и подалась к бывшему своему садовнику, жалельщику да заступнику, который к тому времени на жительство к сыну перебрался в эту самую Александровку. За то, что жалел да заступался, и был выгнан с прежнего места. Вот у него и спряталась. Слава Богу, не нашёл её изверг-муженёк, а то б убил, это уж точно! Так вот и стала барыня Марья Дмитриевна – белая кость, простой работницей.
И ведь, говорят, не пожалела о том никогда. Я бы так не смогла, повесилась бы, а не стала! Или лучше б – убила этого муженька да в Сибирь пошла! – Сердито пнула она сапогом сброшенные тапочки и опять примостилась у зеркала.
– А Фимка, внучка её, как подросла, так – на лошадях совсем и помешалась! Когда родители в разъездах были – немец Аннушку всё на воды возил, лёгкими она была слаба – дочка их и платьев-то не носила, и в комнатах не появлялась, чуть не спала в этой самой конюшне! Или, что ещё хуже, как оглашенная носилась верхом по окрестным полям и лесам. Столько кур да гусей в округе передавила…
Только и ходили бабы да мужики на усадьбу жаловаться.
А всё, говорили, конюх этот… – Гаёзка! Это он её всё учил да науськивал. Думали, что и замуж она не выйдет, а будет кавалерист девицей какой, не иначе! – Вздыбив на лбу вуалетку амазонки, Вера с улыбкой подмигнула своему лихому отражению в зеркале. – Такое вытворяла, такое… В галифе, на полном скаку, стойку на руках делала! Под брюхом у коня с нагайкой в зубах ползала… Правда, Гаёзку этого потом в солдаты сослали, когда она правую-то руку сломала. Вот тут, пока присмирела, её, прямо в гипсе, замуж и выпихнули! А то б – всему роду конец! А так, хоть матушку мою родила, Анастасию Фёдоровну. Так ведь и та долго не прожила, сиротой меня оставила.
Эй, Кликните Жорку, пусть гнедого подаёт – потеряв всякое терпение, вдруг гаркнула она в окно и через ступеньку заспешила вниз.
– Господи! Ну, куда?.. Дождина-то – какой! – попытался урезонить её конюх, но она так зыркнула на него, что он даже присвистнул.
Стоило ей съехать со двора, как дождь тут же стих.
– Вот ведьма-то… – улюлюкнул ей вслед Жорка и даже бросил вдогон горсть сырого песка.
Вера неслась и неслась, не разбирая дороги. Мокрые ветки хлестали по плечам и щекам. Наконец она выбралась на открытое место. Мелкая влага ещё висела в воздухе. Впереди, прямо по ходу, над луговиной образовался цветной коридор из двух радуг.
– Кто под парой радуг проедет, счастливым будет! – вспомнила она бабкину присказку.
– Нет уж, хватит с меня вашего счастья… – по горло! – Развернувшись, она поскакала вдоль реки и в пол версте впереди увидала такую же, как она, одинокую всадницу. Захотелось догнать, всё-таки – родственная душа. Вера долго мчала за незнакомкой, но та тоже оказалась не робкого десятка. Наконец, дама впереди, въехав в глубокий овраг, скрылась из виду. Когда Вера подъехала, там, в затуманенной пойме, никого не оказалось:
– Как сквозь землю провалилась… – Весело ругнула она незнакомку и, оглядевшись, направилась к старику, медленно поднимавшемуся по склону с мешком лозы на плече.
– Эй, дед, кто мимо тебя вон туда поскакал?..
– Да вы ж и промчали надысь, – удивился тот, – ищете кого?..
– Уже нашла. – Подхлестнула коня Вера и галопом поскакала обратно.
Уже дома, сбросив сырую одежду и накинув тёплый мужнин халат, она присела у своего трельяжа:
– Не сильно ли лицо поцарапано?..
Поперёк зеркального стекла, скорее всего, её пудрой, что-то было крупно написано по латыни.
– Почерк явно не мужа. – Растерялась она. – Кто бы это?..
Переписав фразу на листок из расходной тетради, она вечером подошла к Петру Аркадьевичу:
– Переведи!
– «Тебе будет дано…» – Удивился он. – Это ещё откуда?..
– Так, из книжки…
– Наконец-то! – Весь вечер, сама не зная чему, улыбалась Вера. – Мучили меня, мучили… И вот – вспомнили!
II. ДАШУЛИ-МАШУЛИ И ПРОЧИЕ.
1. Девочки
– Скоро уже в гимназию… – сладко выдохнула Даша. Тогда уж не погуляешь. – Явно радуясь приближающейся неволе, она скосила глаза на гимназическую обнову – предмет нестерпимой зависти младшей сестры, и счастливо зажмурилась.
Форменное платье с глухой высокой стойкой и белый фартук с бретелями крест-накрест – тщательно отглаженные – уже второй день висели на стуле в детской!
Вот только её «игрушечная» комната – жалость-то какая – уже была отдана на разор и разграбление Машке. И та, ворочаясь как медведь, уже опрокидывала в ней кукольные кроватки и стулья, сдёргивая с их гуттаперчевых хозяек с таким старанием натянутые Дашей капоры и чулочки.
– А руки-то у сестрицы, руки, впрочем, как и панталоны… Ах, лучше на всё это не глядеть! – Даша взяла из своего хозяйства только трёхцветный мяч и, чинно оправив платье, отправилась на прогулку. Машка же, тотчас потеряв всякий интерес к отвоёванным игрушкам, сопя, подалась следом.
Видимо от неистового блеска на траве и ветвях ещё не просохшей влаги, это воскресенье, наконец, выдалось радужным и весёлым. Привстав на цыпочки, Машка потянулась к притаившейся под развесистой паутиной – вот радость-то – ещё никем не замеченной ягоде малины. Она уже чувствовала на губах её прохладную шершавость и такой знакомый, тонюсенький, почти тортовый аромат. Губы девочки напряжённо зашевелились, как бы завораживая ягоду. Но вожделенная добыча при первом же прикосновении сорвалась с белёсой плодоножки, высоко подпрыгнула и, ударившись об лопух, улетела в скошенную садовником, но всё ещё ужасно колючую крапиву.
– Ах ты… – Обиделась Машуля, с силой ударив туфелькой в основание противного куста, и он тут же отомстил ей, обрызгав холодным дождём и мелким малиновым сором.
– Ну, теперь мне будет от мамзель… – Оглянулась она на играющих в мяч, и боком-боком через редкий осинник подалась к овражку, на дне которого под корявой ветлой прятался маленький булькающий ключ. В нём было интересно поковырять палочкой или попускать кораблики из сухих свёрнутых листьев, втыкая в них гусиное или воронье пёрышко.
Склон был ещё сырым, и девочка почти сползла по нему,
задрав на голову верхнюю бархатную юбку:
– Нижние-то пусть пачкаются…Их потом не будет видно. –Пробурчала она себе под нос и ещё разок с опаской взглянув в сторону мадмуазель, заспешила к ручью, уже не разбирая дороги.
2. Жули и Жорка.
А бедной мадмуазель Жули, наконец, получившей долгожданное письмо от родни из предместий Парижа, всё никак не удавалось улучшить минутку, чтобы где-нибудь в одиночестве распечатать вожделенный конверт.
– Большой, с тремя печатями… – она даже обнюхала его. Загнутый край пакета был в масляных пятнах и слегка надорван. – Долго, наверное, шёл… Толстый! От всех сёстёр – по весточке. Как они там? Вышла ли хоть одна замуж? Вряд ли… Бедные мои, бедные! Денег нет – и женихов нет. На меня надеются, думают:
«Вот приедет смелая Жули из России, привезёт денег, откроем шляпный магазин. Будет нам работа, а родителям – кусок хлеба на старость.» Знали бы они, как достаются эти денежки. Дикий тут народ, опасный! Одна хозяйка чего стоит! Боюсь её. Как вперит свои тёмные глазищи, так – мороз по спине. Что-то в ней есть, такое… Ну её, ещё приснится! Да и хозяин – вечно со своими дурацкими расспросами… И не стыдно ему?..
Послав Дашу отнести в дом корзинку с рукоделием и мяч, мадмуазель устало присела на берёзовый пень и с наслаждением
вытянула ноги в остроносых, ужасно жмущих туфлях:
– Купила вот – тесные! Промахнулась. Но не тратиться же на другие? Разнашивайте теперь мои бедные ножки, терпите! – вздохнула она и ещё разок взглянула на конверт.
– Отложу-ка на вечер. Не хочется впопыхах…
И тут за соседним кустом раздался сухой щелчок, и на поляну, слегка набычившись, выбрался изрядно приодетый и набриллиантиненный конюх Жорка. В одной руке у него была свежесрезанная ветка, в другой – раскрытый перочинный нож. Начищенные сапоги его горели огнём!
– Хм… Может, он это – к выходному?.. Не любят русские ухаживать за обувью. А он – вон как! И зачем за мной ходит? Думает, замуж за такого пойду? Нет, это было бы полным безумием! – вдруг непозволительно высоко приподняв край подола, она со вздохом облегчения скинула злосчастные туфли. Ярко синие шёлковые чулки её казались несколько нелепыми на фоне сочного, уже заметно побуревшего разнотравья.
Жорка, искоса поглядывая в её сторону, присел на корточки и принялся деловито обстругивать принесённый прут, делая из него что-то похожее на крючок:
– Вот… – за орехами ходить, чтобы ветки наклонять. Любите орешки-то? – Как-то нехорошо и в то же время ободряюще подмигнул он ей. – А то я вечерком зайду, принесу орешков-то?..
Жули, заметно покраснев через пудру, качнула шляпкой куда-то вниз и в сторону. Жест можно было истолковать двояко.
– Пусть думает, что хочет… А ведь, скорей всего, этим… и кончится! Я и так упустила своё время. Да и не такой уж он мужлан. Хозяйка, и та, на него поглядывает, прямо бритвой режет! Её-то собственный, Пётр Аркадьевич, всё время занят, даже по ночам работает... Вот и скучает она, все видят.
3. Колокола и колокольчики
Машка же в это время, то и дело оступаясь в промоины меж осоковых кочек, уже благополучно добралась до заветного ключа. Но, едва она присела на корточки передохнуть, как откуда-то справа, из-за островка высоких темноголовых камышей, ей послышался такой знакомый, всегда будто потаённый, смешок матери:
– Серж, ну, Сержик, да не щекочите же меня своими усами. Это невозможно вынести! У меня от смеха все желания разлетаются, как бабочки. Ну, послушайте же меня, послушайте…
– Слушаю и повинуюсь, моя королева…
– Точно! Это дядя Серж, – обрадовалась Даша, – он такой весёлый и озорной. Мамочка его очень любит и Машка тоже:
говорит, когда вырастет, непременно за него замуж выйдет! Смешно, он же тогда совсем старым будет…
Машуля, обойдя сырой бочажок по проложенным кем-то булыжникам, совсем было собралась окликнуть мать, но, буквально в двух шагах, за сломленной ивовой веткой, увидала округло поблёскивающее колено матери с такой знакомой бархатной подвязкой в зелёных камушках. Колено плавно покачивалось из стороны в сторону, а губы мамы-Веры, часто подёргиваясь, кривились в странной пугающей усмешке.
Дяди же Сержа и вовсе не было видно под маминым вздыбленным платьем, но его офицерские сапожки со шпорами прямо перед носом Машули почему-то всё ковыряли и ковыряли сырую луговую кочку и, наконец, доковырялись таки до высоко брызнувшей из под неё чёрной болотной жижи.
Машуля, инстинктивно почувствовав, что окликать никого нельзя, да и смотреть на всё это, видимо, тоже, – уткнулась лбом в траву и зажала уши.
В чувства девочку привёл только испуганный возглас, наконец, отыскавшей её мадмуазель:
– Мари, ну отзовитесь же! Отзовитесь, или я сейчас умру! Лучше б я уехала с Бердиковыми в Париж, лучше б уехала…
Машуле же показалось, что она просто долго спала здесь, на болотной траве – не зря же платье на животе так отсырело? – и вот только сейчас от воплей мадмуазель и проснулась.
– А, может, так и было на самом деле? Мма… – с простудной хрипотцой подала она голос и тут же расплакалась.
Потная и как-то сразу полинявшая Жули, путаясь в кустах ежевики, почти спорхнула к ней в овражек. А следом, выворачивая ступни и цепляясь за ветки, сползла и Дашка:
– Ты где была? Мы тебя обыскались!
– С вами ничего не случилось, Мари? Вас кто-то обидел? Вам сделали больно? – ощупывая Машку, испуганно заглядывала ей в глаза мадмуазель.
– Да нет же, нет… Просто я, наверно, спала. И ещё грязь – такая, совсем чёрная…
– Тебе что-то приснилось? Ну, скажи! – Вцепилась в неё Даша.
– Наверное…
– Ангел мой, да вы просто переели за завтраком тёплых франзолей с маком! – наконец «догадалась» мадмуазель.
– Ну, конечно! Вот тебя и сморило. – Обрадовавшись столь лёгкому объяснению, согласилась и Даша: – Надо кухарке сказать, чтобы не клала столько! Слава Богу, мы тебя сразу нашли, а то б непременно простудилась! Земля-то уж холодная.
И заметно повеселевшая мадмуазель, пыхтя, как паровоз, потащила обеих девчушек на скользкую, осыпающуюся мелкими камушками кручу.
А там, над кромкой обрыва, уже взахлёб звенел и звенел выпущенным на волю колокольчиком несколько театральный и всё же необычайно заразительный смех мамы-Веры.
Она то напевала что-то из очередной арии, а то, забыв слова или сбившись, вновь принималась хохотать, теперь уже в дюжину колокольчиков. И взрывам её заливистого смеха редкими приступами вторил и вторил низкий, будто надтреснутый, но такой послушный колокол дяди Сержа.
4. Плывите-плывите…
Вера и сама не знала, любит ли она Сержа Петрушевского. – Так… – тёплая, ласковая игрушка, привыкнув к которой, тотчас попадаешь в довольно прочную зависимость. И можно б её разорвать, но как потом – без праздника нечаянно вернувшейся юности, без столь преданного мужского обожания? Нет, это ведь дорогого стоит, не так ли?..
И Вера играла своей игрушкой всерьёз – и душой, и телом. Душой, правда, лучше получалось. А телом приходилось платить за продление первого удовольствия.
Часто перед сном, отодвинувшись от уже посапывающего мужа, она возвращала в воображении мгновения недавних тайных свиданий, мысленно продляла их, обогащала недостающей силой и глубиной, купалась в этих незаслуженно обошедших её чувствах и засыпала почти счастливой: Серж, Сержик… – Боренька…
Сегодня она проснулась в холодном поту. Едва открыв глаза, почувствовала – что-то случилось! Скорее всего – страшное! Сильно знобило, а ладони так просто – горели!
– Что! С кем?.. С девочками? Нет, это – углубилась она в себя – мужчина, слабый, мягкий… – Серж! Конечно же… Что с ним?!
К обеду предчувствия подтвердились. К Петруше заходил Серж и жаловался на появившееся на горбинке носа фиолетовое вздутие. Пётр Аркадьевич констатировал недоброкачественную опухоль – в простонародье «рожу», – которая росла прямо на глазах, через неделю она превратилась в сизоватый полураскрытый тюльпан, тонкая кожица в сердцевине которого, приподымаясь и оседая, дышала как постороннее живое существо. На это невозможно было смотреть. Бедный Петрушевский скулил как ребёнок. Вера, до слёз жалея Сержа, подошла и положила на его опасную болячку ладонь.
Зачем?.. Рука сама потянулась, и ещё внутри что-то знало, что так надо:
– Пусть лучше я умру, я! – Горячо зашептала она. – Не дам!
С недавних пор что-то в ней резко изменилось. Она заметно подобрела, а окружающий мир, прежде часто отторгавший её, вдруг стал для Веры почти своим, неожиданно раскрывшись живой красочной фисгармонией, на которой не только хотелось, но уже и получалось играть…
Да и сама жизнь Веры Краснопольской, видимо следуя этому нечаянному обновлению, из хмурой потайной волчицы превратилась в преданную послушную собаку, так и норовящую подставить голову под тёплую хозяйскую ладонь.
– Вот! Обещали, и дали… Даже умирать расхотелось! – ликовала Вера. – Может, такое всем Богом обиженным дают, чтобы не скучали?..
А дали ей, видимо, не мало, потому что вот уже с месяц Вере с лёгкостью удавалось не только заживлять разбитые коленки девочек, усмирять головную боль мужа, но даже… – страшно сказать… – шутя, по первому требованию окружающих разгонять, вернее, растапливать взглядом облака или, наоборот, вызывать ливень с абсолютно ясного неба, да мало ли?..
Она даже учила этому других:
– Найдите на хмуром небе самую тёплую точку и, буквально всверливаясь в неё восторженным взглядом, повторяйте: «Солнце! Я жду тебя! Ты же знаешь, как я тебя люблю, я просто не могу без тебя. Ну, выходи же, порадуй мои глаза, согрей мои щёки и ладони, милое, хорошее… Ну, вот… Ну вот, я тебя уже вижу… Ты пришло… Спасибо, солнце!
И солнце, в самом деле, появлялось. И все радовались и ему, и этой, казалось, совершенно невинной игре.
Вера, конечно, понимала, что всего этого – нельзя! И что рано или поздно за такие подарки придётся платить… Но кроме этого, ни в себе, ни вокруг жить ей было уже нечем.
Этот мир не реален, – повторяла она, убеждая и себя и других, – он таков, как мы его представляем. Надо только уметь представлять… А вообще-то, у нас – душа, у природы – небо. У нас – тело, у природы – земля и вода. Всё так просто. И душа природы легко влияет на нашу душу, как и тело – на тело. И наоборот. Взгляните на небо, когда вам плохо, и оно обязательно хоть чуточку да нахмурится, сочувствуя вам. Всё здесь из чего-то переходит во что-то, причём взаимообразно. Глядите, и вам откроется…
В остальные же, не отмеченные подобными странностями дни, она была обычной Верой со всеми присущими ей недостатками – мелко суетной, экзальтированной а подчас и жестокой.
Узнав от дворовых о её неординарных способностях, к ней потекли и посторонние страждущие. Боясь потерять свой дар, она пока не отказывала никому, и сильно уставала.
Вскоре в её новом, всепоглощающем занятии открылась довольно удручающая особенность. Результат её знахарского вмешательства был положительным только при полной безоглядной самоотдаче, в общем – когда себя, не пожалеешь! Её тело, которому почему-то не дано было защищаться, словно пористая губка, брало на себя чужую хворь, перебаливало, как от прививки, а обратившийся к Вере за помощью в это время выздоравливал.
– Опасно?.. Конечно! Но ведь и без риска – тоска…
Казалось, все эти околознахарские опыты мало вязались с её всегдашней холодностью и безразличием к людям, но почти телячий восторг от собственного всесилия и опасливое восхищение окружающих настолько пьянили Веру, что иногда полностью подчиняли её отнюдь не мелочный эгоизм.
Смешно, но всякий раз возвращаясь с небес на Землю, она словно спрыгивала с табурета и при этом очень смахивала на отработавшего ангела, наконец-то отстёгивающего крылышки, чтобы надеть халат и сунуть ноги в разношенные домашние чуни.
Но в случае с Петрушевским нашему «ангелу» было явно не до тапочек… У Веры ничего не получалось!
Ехать в губернию Серж отказался, и Пётру Аркадьевичу пришлось таки назначить день операции. Но у Сержа вдруг подскочила температура, а хрящ носа, сделавшись студенистым, заметно провис. Петрушевский впал в беспамятство, и к нему призвали священника. Потерпевшая фиаско Вера металась по своему будуару, как разъярённая тигрица:
– Как же так? Опять?.. Опять у меня всё отбирают?! Зачем же тогда это всё – во мне, если ничего не получается?! Может, надо кого-то позвать? Я ведь не одна такая… Есть же кто-то сильнее меня?.. Эй, ты! Ты меня слышишь?..
Но никто не отозвался на её вопль, и Вера в бессильной ярости начала крушить всё попадавшееся под руку, пока, обессилев, не упала на постель и не уснула, как убитая.
Только к вечеру, выбравшись из дому, она зачем-то наломала в палисаднике охапку алых и белых георгинов и, усевшись с ними плетёное кресло-качалку, начала, сначала потихоньку, потом всё быстрее раскачиваться, будто нагнетая что-то в себе или вокруг.
Ритм раскачивания всегда помогал ей выбираться из сложных ситуаций. В юности, когда её обижали, она часами качалась на качелях, чаще поздним вечером или даже ночью, при луне…
– Вот… Такие яркие, крупные цветы…– Это жизнь, сила! Пусть поделятся с Сержем! Всё равно им скоро вянуть. Мне ведь всегда помогали?!
И правда, после замужества Вера полюбила купаться в цветах – в ландышах, в сирени, в лепестках шиповника… Это освежало её, оздоравливало и, казалось, добавляло красоты.
– Ведь, когда цветочные головки ломаются, сила, связывающая их, высвобождается и подтягивает кожу, – уверяла она удивлённого мужа.
А ещё она бегала в парусиновых тапочках по вечерней росе, чтобы не было мозолей от вечно тесной обуви. Туфли она всегда носила на размер меньше, чтобы ножка казалась маленькой.
Серж… Серж… Не находя выхода, уже с час неистово колыхалась она в рвущейся по швам качалке. И вдруг посиневшие губы её, вторя ритму этого безумного раскачивания, начали нашёптывать что-то похожее на стих или языческое заклинание:
– Плывите-плывите, лепестками гребите – в буруны да под мост, только не на погост. Всё подале-подале от свечи поминальной, от тоски да вины да от полной луны, из того, чего нет – на любовь да на свет!
Это ещё что?! Ответ?.. Но, что же должно плыть? Ах да – «лепестками гребите…», значит – цветы! Вот эти?! Надо к реке бежать, к мосту!
И, без конца повторяя так странно пришедшие к ней строки, она бросилась к полуразрушенному мосту на краю посёлка.
Всё здесь было ей почти не знакомо. По таким дальним закоулкам Вера давно не гуляла. За углом красного кирпичного дома показался приземистый магазинчик гробовщика.
– Тьфу на тебя, тьфу! – зачем-то плюнула она в его сторону и ещё яростнее устремилась дальше, но двумя улочками ниже всё повторилось – опять такой же магазинчик с такой же чёрно-золотой вывеской. И Вера опять плюнула в его сторону. Внизу, уже у самой реки, ей встретилась третья похоронная контора…
– Это уже перебор! Сколько же их… И все – на моего Сержика!
На пологом спуске к воде ей перешла дорогу наглая чёрная кошка.
– Ах, так?! – Швырнув в нахалку подвернувшийся булыжник, Вера сделала несколько шагов к реке задом наперёд.
– Ну, что? Не вышло ничего? То-то же….
Кошка зашипела, но не отпрыгнула, а выжидающе уставила на соперницу мутновато-желтый взгляд.
– Все – на одного?! Сержик, мальчик мой…
На мгновение Серж представился ей в постели, тот – блаженно отдыхающий после украденных мгновений любви. Влажные завитки на висках… Закинутая за голову рука. Нежно фиолетовые тени под глазами и в ямке ключицы. И свет… – и от лица, и от всего тела, до бликов на обоях…
– Не дам!.. – Продравшись через бурьян и мелкий ивняк, она, наконец, выбралась на песчаную отмель. Там пришлось до пояса заголиться, чтоб поглубже зайти в реку.
Вода была почти ледяной. Широко размахнувшись, Вера подальше забросила цветы, но они, сделав круг, вернулись к берегу.
Тогда она зашла по грудь, потом по шею… Но упрямые георгины всё равно раз за разом возвращались…
Веру начало увлекать течение. Пришлось выбраться на берег. Собрав по отмели изрядно потрёпанные цветы, она перевязала их своим пояском, нанизав на него золотой перстенёк, подаренный ей Сержем на первое их свидание:
– Надо, чтобы было ясно, почему за него прошу! Чтобы они… знали, как я его люблю, как он мне дорог! Отдайте!
И тут что-то плеснуло совсем рядом и, скосив глаза, Вера увидала подплывшую к берегу лодку. Мужчина, сидевший на вёслах был ей не знаком:
– Вам помочь?…
– Да.
Отжав подол, она села рядом. Лодочник, ни о чём не спрашивая, вывез Веру на середину реки, и она, наконец, избавилась от злосчастного букета. Он уплыл по течению неестественно быстро, что показалось ей добрым знаком. Уже на берегу, рассчитавшись с лодочником мокрыми деньгами из почему-то в лохмотья располосованного кармана, – сразу припомнилась кошка с жёлтыми глазами – Вера почувствовала, что не может идти. Силы кончились. Присев на седую от вечерней росы траву, она завалилась на бок и мгновенно уснула с широко открытыми глазами.
Её нашли в полночь с собаками и фонарями. Сутки она не отвечала на вопросы и ни на что не реагировала. Переносица у Веры посинела и вспухла, будто в неё с силой ударили кулаком. Других повреждений не было.
Близкие решили, что её ограбили и избили. Когда же она пришла в себя, то узнала, что после прихода священника Сержу стало легче. А к утру у него на носу и вообще ничего не осталось. Вот чудо-то!
Запудривая свой уже пожелтевший синяк, Вера с кривой усмешкой шепнула чему-то или кому-то в зеркале:
– Да поняла я уже, поняла…Не надо было свой поясок к цветам привязывать. Сержа оторвала, а себя привязала. Ничего, пройдёт!
Должно пройти… Знать бы только, кто постарался? Может, из театра кто? Завидуют ведь и романам моим, и удачам на сцене. Первые ряды даже привстают, когда я особенно в голосе. А когда по проходу иду, даже дамы иногда руку целуют, прямо как священнику… Ничего, враг мой тайный, от меня не спрячешься.
И точно! Уже на следующий день в театре, прямо на сцене, скоропостижно умерла тридцатилетняя актриса Амелина, Верина соперница по главным партиям.
– Дурочка… Ну, куда полезла?.. Куда?..У таких, как я, ведь защита есть! Всегда её чувствую. Иногда даже злюсь, но чаще – благодарна. Читала, что защищают, вернее, ведут тех, кто не только в чём-нибудь им показался, но ещё и смерти не боится. Ведь, когда страха нет, за любую черту пойдёшь! Видно только такие им и интересны! Вот только, когда тебя ведут, злиться ни на кого нельзя, даже обижаться. Им, бедолагам, сразу достаётся! Да ещё как… Иногда даже нахваливаю их вслух, чтобы уберечь. А бедному Сержу просто рикошетом попало. Близким всегда достаётся за то, что близкие.
5. Луна-голубушка
Машуля, счастливо избежавшая простуды после памятного приключения у ручья, через месяц вдруг сильно затемпературила, объевшись мочёных яблок из погреба.
– И как недоглядели?..
Марфа прикладывала ей ко лбу марли с простоквашей, отпаивала, чем могла, а потом, укутав в ватное одеяло, носила туда-сюда по детской. Несколько раз она пыталась вызвать из гостиной буйно отмечавшую очередной успех Веру.
Пётр Аркадьевич в этот день, как всегда в конце месяца, уехал в губернию за лекарствами. Но Вера, даже не выслушав её, отмахнулась, как от назойливой мухи:
– Вы же няня, а не я! А дети всегда киснут… Делайте своё дело!
– И делаю! – обиделась Марфа. И, перекрестив обеих девочек, отправилась к себе – поставить и за младших, да, Бог с ними, и за старших хозяев очередную свечку Николаю Угоднику.
Гости же изрядно захмелевшей мамы-Веры угомонились лишь к рассвету. Тогда и Жули, наконец, отпущенная сердобольной няней восвояси, смогла добраться до своего флигеля – зажгла на тумбочке свечу и, достав заветное письмецо, принялась с трудом разбирать мелкие буквы маминого округлого почерка. В конверт, как Жули и думала, были вложены и весточки от сестёр. Но она отложила их на потом:
– Боже, сколько радости! До утра хватит, если не спешить.
Но встревоженное кем-то пламя свечи, вытянувшись длинным языком, внезапно оборвалось, и спальня Жули погрузилась в темноту.
Видимо не закрытая на ночь дверь медленно отворилась, и кто-то большой и грузный уверенно скрипнул рассохшейся половицей порога.
Жули вжалась в кровать, но знакомый, пожалуй, всё же неприятный душок свежего дёгтя, распространившийся со входа, несколько успокоил её. К тому же, к нему уже начал примешиваться другой, давно разжигавший её воображение – горячий, терпкий, то ли хозяйственного мыла, то ли свежезамоченного белья, – запах мужского пота.
– Это я… Орешков принёс, как обещал. Даже налущил, чтоб зубки не ломать, послышалось совсем рядом.
– Ну вот… – обречённо выдохнула Жули, но тело её, напружинившись, уже само отодвинулось к стене, освобождая вошедшему место.
– Не боись, я умелый… – присел он на постель, сбрасывая сапоги и раскручивая портянки. – Хочешь, женюсь? Я ведь – ещё тот хозяин! Со мной не пропадёшь.
– Знаю, чувствуя, как уже необычайно хорошеет своему мужчине навстречу, Жули, вся, до последней жилочки, потянулась к наконец-то обретённому хозяину своему и хранителю… – Пусть теперь он за всё отвечает! Наконец-то…
Глаза её так ярко вспыхнули в темноте, что Жорка, испуганно хохотнув, даже привстал на коленях:
– Ишь, ты – какая! Тихоня моя…
В это время Даша, уткнувшись в стиснутый кулачок, всё ещё не спала. Она до слёз жалела заболевшую сестру:
– Вдруг Машуля, возьмёт, да и умрёт?! И отнесут её на кладбище, как бабушку Фиму. – Беззвучно причитала она. – И засыплют землёй… И никогда, никогда не увидит она больше ни мамы, ни папы, ни небушка, ни старого парка на краю посёлка, где так весело играть в догонялки, ну, ничегошеньки… И беседки не увидит, и качелей, и лошадок – вон там, в старой кирпичной конюшне. Ничего! Никогда…
Даше внезапно представилось, как душа сестрицы уже медленно скользит над верхушками деревьев, над красными черепицами усадьбы и тёмными от недавних дождей камышовыми крышами рабочего посёлка.
– И вот уже… – и нет её совсем! Скрылась где-то за рощей в сизых дымках папочкиных пивных заводов.
Тотчас захотелось плакать, даже защипало в носу. Но губы Дашули вдруг совсем некстати растянулись в широкой глуповатой улыбке…
Она нечаянно вспомнила, как пару лет назад Машка, пользуясь частыми недомоганиями мадмуазель, полюбила тайком подкрадываться к главному пивному цеху и, открыв травильный кран, с любопытством наблюдать за рабочими.
А они – их тотчас набегало много-премного – толкаясь, как большие серые жуки, собирались возле мутной струи ещё сырого пива, набирали его прямо в шапки, в горсти и, быстро пьянея, до слёз веселили Машку. И она с удовольствием подыгрывала им, изображая совершенно пьяную – хваталась за стену конторы, падала на землю и, победно поглядывая на сестру, яростно брыкала в воздухе тонкими ногами в белых атласных сапожках. Даша при этом пряталась за углом, но наказывали всё равно обеих.
– Ну, нет в жизни справедливости! – как и тогда, тяжело вздохнула она, но мысли сами собой опять вернулись к печальному. И чтобы хоть что-то да сделать для, может, уже совсем умирающей Машули, босая и прямо в ночнушке, Даша выбежала во двор.
Там она ловко вскочила на свою заветную скамейку и, как всегда в наиболее тяжёлые моменты своей, ещё совсем коротенькой жизни, запрокинув голову, быстро отыскала в облаках Луну, давнюю свою подружку по тайным печалям:
– Видела бы мама! Сама в церковь не ходит, а нас… Ну, да ладно...
Луна, голубушка! – Чувствуя одновременно и вину и упрямое желание настоять на своём, жалобно запричитала Даша. – Ты мне всегда помогаешь, ты одна меня слышишь! Добрая моя, милая, вылечи, пожалуйста, Машулю! Помнишь, я как-то просила у тебя за нашу кошку, Мегерку, на которую тарантас наехал? Все думали, что она издохла совсем, даже на мусорную кучу выбросили… А ты светила на неё, светила… Она и ожила! Я первая заметила, как у неё лапка дрыгнулась…
Даше вдруг показалось, что Луна слегка подмигнула ей.
– Ну вот, услыхала меня, услыхала… Теперь уж точно всё хорошо будет! – И, считая, что для сестры она, что могла, сделала, Даша решила, что теперь самое время подумать и о себе.
6. Лошадиные страсти
Обеих сестёр Краснопольских с раннего детства, как и Веру, невыносимо тянуло к лошадям. И сколько бы их ни запирали в отцовской библиотеке и не лишали сладкого, они всегда надеялись хоть как-нибудь да пробраться на конюшню. В генах у них, что ли, была эта «лошадиная» любовь? Да тут ещё нянька Марфа, уж точно сдуру, подлила масла в огонь – как-то перед сном, взяла, да и проболталась сёстрам о лихих похождениях их прабабки Фимы, когда та была ещё молоденькой.
– Никто её сдержать не мог. Крута была, ох, крута…
Вот и матушка ваша, Вера Павловна, подстать ей будет. То ж… – смуглява да черноволоса, и рукой тяжела. Не дай Бог ей под горячую-то попасть, с виду вроде худа да тонка барынька, а волосья-то, так с единого маху и выдернет, да и скакать то ж – горазда. Никому из офицерьёв спуску не даст!
Вот и для Дашули – подумать о себе – сейчас означало лишь одно – воспользовавшись случаем, пробраться на конюшню.
При одной только мысли об этом, у неё уже сладко потянуло в животе, и быстро-быстро пересохли губы:
– Вот бы получилось! Да ведь и третьего дни всё-всё б у нас с Машкой вышло, если б не конюх этот противный – любимчик мамкин! Поймал таки у самых стойл! Довольный, гад:
– Вы это куда? А вот матери скажу!
Аж усики-червячки задёргались! Ну и сдал нас Джульетте с рук на руки. А та уж благодарила его, благодарила… А потом битый час отчитывала нас в детской и уж точно нажаловалась бы маменьке, если б…
Дашуля аж зажмурилась, когда вспомнила, что было потом. А было вот что: мадмуазель почти волоком притащила их с Машкой к парадной лестнице, докладывать.
А там… от брички, как безвольную куклу, дворовые с ухмылками врастяжку волокли в дом совершенно пьяную маму-Веру. И надо же, сапожками вперёд, как покойницу?! А следом, извиваясь как змеи, волочились выскочившие из-под шпилек её пыльные косы. Испуганная Машка хотела было подхватить их, но мадмуазель тотчас увела девочек в парк:
– Маме плохо. Мама больна, но скоро поправится. Идёмте же со мной, ну идёмте! И наказание так и не состоялось…
– Пойду-ка, погляжу на Огника! – Чтобы поскорей избавиться от неприятных воспоминаний, решила Дашуля. – А ещё лучше, – у неё даже дух перехватило, – возьму, да и прокачусь на нём!
Их с Машкой карликовые кобылки Мотя и Котя казались сестрицам до противного спокойными и послушными. Да и ездить на них можно было только под присмотром кучера.
– А это всё равно, что не ездить вовсе… – Даша открыла ворота и медленно прошла вдоль стойл, восхищённо разглядывая в лунном свете разномастные холки, крупы и хлещущие по задам хвосты.
– Вот он – Огник! – жеребец дяди Вадима. Его уважают даже цыгане, которых зовут подковать рабочих лошадей.
Девочка радостно заулыбалась Огнику. Жеребец обернулся и вдруг низко поклонился ей, слегка постукивая по дощатому полу вытянутой правой ногой.
Даша рассмеялась тихим благодарным смехом:
– Он согласен! Согласен!
Она тут же вскарабкалась на перекладину яслей и спрыгнула оттуда прямо на спину коня. Тот замер. Но потом, мелко задрожав всей кожей, слегка пританцовывая, уверенно направился к выходу. Поводья, наскоро закреплённые дядей Вадимом на гнутом кованом гвозде, на какое-то время помешали Огнику, но Дашка быстро распутала их и, намотав на запястье, слегка потянула к себе. Именно так, прежде чем пустить коня в карьер, делали знакомые офицеры.
Огник взял команду и ласточкой выпорхнул из конюшни. Даша едва успела пригнуться, чтобы уберечь голову от верхней дубовой балки. Сделав по двору два круга, он, ударив грудью в тяжёлую чугунную воротину, оказавшуюся к несчастью незапертой, выскочил на улицу. Но бедной наездницы на нём уже не было. Вторая, уже чугунная балка над воротами, смахнула её с Огника как пёрышко и бросила вниз головой прямо в ржавую бочку под водосточным жёлобом.
Позже говорили, что именно эта бочка и спасла девочку. Холодная вода быстро вернула ей сознание и не дала развиться на темени ещё большей гематоме.
Исцарапанная и мокрая Даша каким-то образом сама добралась до детской и только тут потеряла сознание.
Напуганная до полусмерти няня, бросилась искать Веру, но так и не нашла:
– Как сквозь землю провалилась вертихвостка эта! – наконец в сердцах развела она руками и велела послать за фельдшером Живякиным.
Тот явился сразу, но тоже изрядно выпивши. Не смотря на своё неподобающее случаю состояние, он всё же честно провозился с сёстрами два часа, сделав, как ему казалось, всё возможное, но, направившись с докладом наверх, сходу наскочил на столик со спиртным и в пять минут потерял и дар речи, и память, да и последнее понимание происходящего.
К утру, придя в себя, Даша попросила, чтобы её отнесли в отцовский кабинет. Она любила болеть там.
– Колбы. Спиртовки. Анатомические атласы. Склянки с непонятными заспиртованными существами… Ужасно интересно!
Правда, там, в самом тёмном углу между этажеркой и часами и дни и ночи пучило свои стеклянные, вспыхивавшие от бликов уличного света глазищи, это ужасное чучело горного барана – архара, кажется, – подаренное папочке одним из больных.
Даша панически боялась этого чучела, особенно по ночам, и при малейшем шорохе быстро ныряла с головой под одеяло.
Напрасно её пытались убедить, что бояться набитой опилками игрушки стыдно и смешно. Даша билась в очередной истерике, но противное чучело, уже в который раз бессовестно победив её – папину любимицу, – оставалось на своём законном месте.
Когда больная Машуля узнала, что раненую сестрицу отнесли в кабинет отца, она попросила няню перевести туда и её. Девочки, накрывшись сразу двумя одеялами, обнялись, и, казалось, обеим стало полегче.
А ускакавшего Огника потом долго искали. Думали, – совсем пропал, но через месяц кто-то вернул его за приличную мзду.
Сентябрь 1918го…
III. ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ
1. Пётр Аркадьевич
Пётр Аркадьевич, спрятав в нагрудный карман фото жены и дочек, с грустью отложил семейный альбом:
– Вот вернулся с фронта, а дальше-то – что?.. Вот возьмут нынче ночью, и не увидимся больше. Бедная Веруся, бедные девочки, хорошо, что не понимают ещё, какая беда стряслась, но ведь чувствуют? Этого нельзя не чувствовать! Нет, надо всё записывать. Может, хоть потомки разберутся – что тут с нами было…
Достав заветную тетрадь в чёрном переплёте, он, перевернув её «головой вниз», заскрипел теперь уже с обратной стороны:
«Ещё недавно творящееся ныне в стране, показалось бы диким любому. Не только люди, но и совершенно разучившиеся подчиняться им социальные события будто обезумели. Всё смешалось, потеряло берега. Где фронт? Где тыл? Ре-во-лю-ци-я. Какое долгожданное и какое, на поверку, гибельное явление! Армагеддон…»
Фу ты, чернила кончились… – Сокрушённо выдохнул он. – И в запасе нет! Высохли, пока меня не было. Да что – чернила?.. Всё перевёрнуто с ног на голову и здесь, и по всей стране. Вот – как эта тетрадь! – Отшвырнув её в угол,
Пётр Аркадьевич встал и подошёл к окну:
– А что?.. Именно так… Надо остановиться наконец и думать-с, хорошенько думать! Мы, медики, в отличие от штабных чистоплюев – люди социума. Не гоже нам в лихую годину своих соотечественников бросать! Пусть другие драпают, мы и тут сгодимся! Должны сгодиться…
Верусю ведь не выгнали из театра?.. Поёт! Главную роль на днях получила. Кому поёт, другое дело… Но ведь если вдуматься, все – Божьи творения, и у каждого – душа, голова… Хотя нет, не у каждого! А вот селезёнка, почки, желудок, – у любого. Как же без нас, эскулапов?.. Хотя теперь, в этой чёртовой неразберихе, чуть что – и к стенке!
Надо бы перестраховаться… Может, усадьбу под больницу отдать? Вдруг при ней и оставят?.. Да и заводы – тоже… Ведь заложены перезаложены! А девчонок поднимать надо. Невесты уже! Знать бы только – чьи?..
2. Белая ртуть
Август едва отступил, а осень уже всерьёз предъявила свои права: и город, и заводы, и усадьбу отсекли от внешнего мира затяжные, уже изрядно похолодавшие дожди. Дороги развезло – ни проехать, ни пройти. Но всё и вся даже радовалось, что из-за этих погодных обстоятельств и так уже затянувшаяся отсрочка всего страшного и гибельного, связанного с революцией, видимо, продлится несколько дольше.
Даша, недавно окончившая гимназию, повзрослевшая и подурневшая от высыпавших на лице юношеских угрей, уже битый час уныло гляделась в зеркало.
– Только смотри, не дави их, а то заражение будет! – сочувствовала ей сестра. – На, вот, запудри немного.
– Разве такое запудришь? Ужас… Скоро всю обнесёт!
– Не позволим! – Сбросив сырые сапожки, на цыпочках впорхнула в комнату Вера. – Вот! – Швырнула она Даше в подол запечатанную баночку. – Это ещё моей бабушки рецепт, с белой ртутью. Она ведь тоже этим мучилась. Хорошо, хоть чердак не почистили, а то б ищи-свищи! Еле отыскала её талмуды! Аптекарь целый час бабкины каракули разбирал. Теперь все твои прыщики сползут, прямо с кожей!
– А это больно?
– Смотря, сколько вотрёшь. Лучше не перебарщивать. Я сама пару раз пользовалась. Видишь, – под сорок, а щёки и шея, как персик.
– А мне? – Вцепилась в баночку Маша. Я тоже хочу!
– Ты и так – персик. Даже страшно становится, когда на тебя мужчины оглядываются…
Даша, выкрутив из пальцев сестры баночку со снадобьем, тотчас умчалась к себе и нанесла на лоб и щёки опасно припахивавшую кашицу.
– Никакой реакции – ни через пять минут, ни через десять…
Она ещё раз, уже погуще, намазала лицо и, чтобы отвлечься, уткнулась носом в недочитанный роман. Но не успела перевернуть и пяти страниц, как кожу начало нестерпимо жечь.
– Мама, что же это?.. Огнём горит! Больно! Ой, больно… – влетела она в комнату Веры.
– Я же тебя предупреждала, не перебачь!
– Я мазала, мазала, а оно не брало…
– Вот дурёха! Ещё шрамы останутся! Немедленно физиономию – в холодную заварку! Налей в тазик, и плещи на лицо, плещи!
Даша с воплями унеслась на кухню. Там она под руководством Марфуши несколько раз промыла лицо, но боль не отпускала. Хотелось выть в голос. Пометавшись по комнатам, как безумная курица, за которой гонятся с топором, она, наконец, влетела в папин кабинет, где всегда было сумрачно и прохладно, забилась в угол и, сидя на полу и раскачиваясь из стороны в сторону, простонала там весь нескончаемый вечер.
– Даш, чаю хочешь, с бубликом? – пожалела её сестра.
– Не-е-т… Отстаньте от меня все, отстаньте!
Даже здесь, в глухом кабинете в конце коридора, сёстрам было слышно, как ругались у себя родители, как отец срывающимся голосом кричал на мать:
– Совсем сдурилась?! Это же ожог второй степени! Может до кости проесть!
Но та, не привыкшая оправдываться, сама шла в атаку:
– Ты-то что сделал для бедной девочки? Видел же, что страдает, замкнулась, на улицу не выходит. У неё даже мальчика нет! Кто на неё, такую, смотреть-то станет?
– Мне бы ваши заботы… – быстро сдавшись, отступил Пётр Аркадьевич. – Нет разума, – страдайте!
Вера, наконец, направилась к Даше, и стоны за дверью прекратились.
Дрожащими пальцами Пётр Аркадьевич достал из портсигара папиросу и, нерешительно помяв её, ещё некоторое время постоял у двери, за которой скрывалась мученица за красоту.
– С такими бросишь курить… – совсем по-солдатски сплюнул он и, прежде чем встречать очередных гостей, уже вполне обоснованно закурил.
Повод для сегодняшнего торжества был довольно веским – двадцать лет их с Верой брака.
– Неужели? А казалось, только – вчера…
3. Гости-кости…
Внешний вид ныне приглашённых уже заметно отличался от недавнего. Мужские лица осунулись и посерели, женские огрубели и опростились, что-то жёсткое, почти хищное обозначилось в них. Время изысканности и сантиментов, видимо, кончилось.
Скорая, ах ты, Господи, уже свершившаяся революция, походя, но от этого не менее безжалостно, уже усредняла и причёсывала всех под одну гребёнку…
Из прежнего цвета дворянства в тылу остались и пытались хоть как-то выжить лишь середнячки, умевшие прятаться и по мере сил приспосабливаться, а те, для кого честь и присяга ещё хоть что-то значили…
– Убереги их, Господи! – Тяжело, с уже начавшим беспокоить его чувством нет, не предательства, а скорее разумной отстранённости, выдохнул Пётр Аркадьевич. – Может, хоть генетически, мы, вот такие, пронесём через этот ад и сохраним для потомков всё лучшее, чем был представлен наш класс?..
– Нет, дорогуша, не выйдет! – Будто подслушав его, парировала Вера. – Ананас с репой – в один компот, и чтоб ананасом пахло?! Нет… После нас будут уже другие люди! И ценить в них будут, скорее всего, совсем иное…
– Звериную хватку? – думаешь?..
– Нет… – Надолго задержав на муже взгляд, поджала губы Вера. – Скорее, – собачью преданность!
Бедный Пётр Аркадьевич тотчас посерел и даже несколько скукожился.
– Зачем я его – так?.. – как всегда с опозданием пошла на попятный Вера. – Ведь он у меня тоже – ничего! Недавно на фронте подменил убитого командира и вывел из-под обстрела все санитарные обозы, совладав при этом с обезумевшими, впавшими в почти истерический раж новобранцами. Даже награду имеет! Да и тут – всё на нём держится. Дура я всё-таки…
А Пётр Аркадьевич уже, мысленно, сидел над своей тетрадкой:
– Геройство... – Невольно потрогал он Георгиевский крест у себя на груди. – Неужто и оно – лишь дело случая? Впрочем, как и трусость… Но что-то же вскормило этот, мой, случай? Что-то же предопределило его? Вот бы вспомнить – где? Когда? Может, в раннем детстве, когда с верёвочной петли в пруд прыгал?.. И почему всё кажется, если вспомню, то и вся жизнь переменится – полнее станет, значительней, что ли?..
Да-с… Героизм! А могло ведь и по-другому обернуться – унижением, позором, даже смертью. Могло бы… И так – у каждого!
И перед мысленным взором Петра Аркадьевича опять развернулась та лесная вырубка под Мордасовым…
Первый, но уже запятнанный кровью, снежок на ней, срезанная шрапнелью хвоя, и ещё… – распяленная брюшина унтера Гришина с вываленными в медный таз внутренностями… И даже скрежет речных ледышек на кособоком медном дне.
– Вот вам и анестезия!
Медицинские биксы, запах марганцовки… И ещё, ах да… – как этот унтер, зажав зубами скрученное полотенце, глядел на него, истово, – как на Господа Бога!
– Страстотерпец. Почти весь тонкий кишечник пришлось удалить, сантиметров пятьдесят только и осталось. Помнится, говорю. – Вот и всё, голубчик вы мой, я свою работу сделал, а дальше уж – за вами… А он мне:
– Спасибо, доктор! Помирать нельзя, две дочки на выданье.
И ведь поправился, почти без тонкого кишечника! Может, и не нужен он уже, впрочем, как и аппендикс? Траву-то ведь не лопаем, не лошади…
Надо же, – две дочки, как у меня. И почему всякому кажется, что этот мир только под него и сделан?.. Ан, нет! Тысячи таких, мильёны… И в каждом – своя гордыня сидит! За неё, видать, и принимаем муки земные, неимоверные.
…Бинты, бинты в крови. Грохот повозочных вёдер. Храп напуганных взрывами лошадей, и белесые, уже, видимо, оттуда, мёртвые взоры убиенных. Бедолаг даже прикрыть было нечем. И ещё… – этот снег – хлопьями, будто лепестками, ей Богу, сказочной красоты снег! Уж, кажется, вовсе не к месту…
– Новогодний! Только серпантинов не хватает… – восхитился тогда легкораненый Прохоров из последнего набора.
– Вот и ответ! – обрадовался Пётр Аркадьевич. – Не нам судить… Всё – жизнь, а значит, всё – и к месту!
Справился ведь тогда?.. Некому было, вот и справился. Случай такой! Хотя, если только на случай уповать, то ведь и украсть по этому случаю можно или убить кого в запале?..
Нет, случай случаю рознь. Надо бы изложить всё это на бумаге, хотя бы вчерне, а потом уже, на досуге…
К реальности его вернул нервный шепоток жены:
– А они, сегодняшние наши, думаешь, не разглядывают нас?.. Тоже, небось, что-то подмечают да высматривают! У меня из туфли большой палец вылезает, вот!
– Возьми себя в руки, Верочка! – Было заслонил её собой Пётр Аркадьевич. – Купим тебе новые!
Но тут же, кое-как раскланиваясь, уже направился к своему кабинету, пополнить записи только что нахлынувшим:
«С невероятной быстротой, вчера ещё унизительное и постыдное, сегодня становится вполне сносным, а правое и праведное – неправым, да ещё и злонамеренным! Всё потеряло и цель, и смысл, и хоть какую-нибудь надежду…»
– Гости-кости… Гости-кости… – Нервно отстукивали холёные пальцы Веры по приподнятой крышке рояля, и она, слегка сатанея, всё шире и обольстительнее улыбалась, нет, не кому-то определённому, а так… – поверх голов:
– А что?.. Некоторые из них – уже и кости! Вот этот лысый через неделю умрёт от шальной пули в собственном дворе – отметила она про себя. – Уже умер. Только не знает об этом. И вон тот… И та блондинка у окна, но её можно было бы спасти… И ведь все – не знают, одна я… Можно б их предупредить, но к чему?.. Ведь всё равно умрут. Все умрём…
Проходите, проходите… – вот туда, уже накрыто.
Вскоре над ломберным столиком заклубилось сизоватое облачко папиросного дыма, и несколько разномастных, но уже седеющих голов, сомкнулось над ним в азарте игры:
– Ну, и чего ж вы хотите?.. – Отмахивая в воздухе культёй в чёрных бинтах, возмущался недавно комиссованный кадровик:
– В войне 1812-го только хитростью «одноглазого» победу вырвали? С япошками в 1905 – позорно профукали?..
Эту, 1914-го, опять только революция и не дала про…рать! Братания да лобзания черни пособили? Стыд-то, какой!
– Так чего ж тогда и от нынешних-то заступников ждать? – Сделав заведомо проигрышный ход, картинно развёл руками директор женской гимназии. – Ни стратегии у них настоящей, ни полного понимания диспозиции!
– Если они с нашими дотациями, французским коньячком и английским оружием всю эту шваль разогнать не могут, то на что тогда надеяться?.. – Потирая несвежим платком влажную лысину, поддакнул и бывший директор бывшего банка. – Вот мы в своё время…
– Да ну вас! Шли бы и сами… – зашипел на них случайно затесавшийся не в ту компанию молоденький юнкер и, опрокинув по пути пару стульев, косолапо выбежал из комнаты.
– А хорошенький и горячий какой, не Спиридоновых ли племянник? – Проследив за ним взглядом, привстала Вера. – Вот и женишок моим клушкам! Хотя, время-то... Теперь бы – посолиднее, понадёжнее кого...
Любой из нынешних, как, впрочем, и вчерашних, и позавчерашних завсегдатаев этих посиделок уже не удивлялся
тому, что в дом приглашались и едва знакомые люди.
Редеющие ряды требовали смычки. К тому же только здесь, в этой, привычной всем обстановке, ещё и можно было хоть как-то дожить, дочувствовать всё, пока ещё представляющееся возможным.
Вот и Вера Краснопольская, и сегодня, как и всё последнее время, кутила вовсю, чрезмерно пила, с вульгарной хрипотцой грассировала голосом и флиртовала с кем ни попадя, явно потеряв всякую меру. А, распалённый всеобщим вниманием к ней, Пётр Аркадьич с нескрываемым восхищением потакал ей даже и в этом, уж совсем непристойном поведении.
Шторы давно уже плотно задёрнули на ночь, а в большую, когда-то парадную, гостиную Краснопольских всё вносили и вносили большие, раскрылеченные от тяжести, корзины с коричневатыми бутылками ещё заводского тиснения. Видимо в ход пошли уже неприкосновенные фамильные запасы, прежде сберегаемые лишь для самых торжественных случаев – обручений, свадеб и крестин.
Пока ещё чинно рассевшиеся вкруг овального, украшенного фижмами и бутоньерками стола – и мужчины, и даже приглашённые на празднество дамы, уже подспудно готовились заглушить этим, едва ли уместным теперь великолепием, последнее дребезжание протеста в своих давно уже сдавшихся на милость провидения душах.
Но царившему в залах аромату торжественной благости было явно не до их сиюминутных с его точки зрения потерь и разочарований.
Он, наконец-то, вырвавшийся из самых дальних закутков прадедовых фамильных погребов, честно вершил назначенное ему благое дело, и, всё шире и шире разливаясь по дому, невольно обманывал этой нечаянной благостью и сам дом, и его хозяев, да и с надеждой поглядывавших в верхние этажи слуг.
И всем в такие минуты казалось, что всё ещё, может статься, и обойдётся, надо только переждать, перетерпеть…
4. Голуби
В первый раз Маша обратила внимание на Митю, Марфушиного внука, когда тот, во всю размахивая руками, гонял над крышей пару своих голубков. Один белый, другой – пёстрый. Приблудный, как потом объяснил ей Митя.
Она тогда загорала на маленькой полянке в густых кустах ирги. Лето только началось. И ужасно хотелось солнца. Поначалу Маша думала, что паренёк на крыше не замечает её, и с удовольствием наблюдала за ним из своего зелёного убежища. Но по некоторому смущению, которое всё же засквозило в его жестах, она догадалась, что уже рассекречена. Одеваться Маша не стала. Она лишь немного прикрылась соломенной шляпой:
– Пусть смотрит, если хочется!
Митя был необычайно хорош там, в небесах… Белая рубаха его трепалась на веру, и издали он был похож на хрупкую длинноногую птицу.
– Какой худенький! Ему бы – в балет… А голова – как солнышко.
Он тоже начал поглядывать в Машину сторону и зачем-то снял рубаху, видимо из солидарности.
Так они и встречались потом две недели. Он – на крыше. Она – на земле. Маше это казалось романтичным, и она не торопила сближение.
А в июле Митя уехал в губернию, учиться, и их маленький роман оборвался, так и не начавшись.
Митя с детства побаивался женщин, особенно таких… Он знал, что – беден, худ и нехорош собой. А ещё у него был опыт… Впрочем, даже и не его, а дружка детства, ещё по деревне.
Звали дружка Фёдором. И он с малолетства страдал сильным недержанием… Его даже на службу не брали. Девушки над ним смеялись и на пушечный выстрел не подпускали.
И вдруг приезжает на лето барышня из города, уж конечно не знающая о его болезни. И, то ли, поиграть её вздумалось, то ли, и вправду, он ей приглянулся. Ведь всегда – один-одинёшинек, печальный такой, загадочный…
Гуляли всю ночь. Сады цвели. Соловьи пели. Забрались на колокольню заброшенной церкви, к луне поближе. Потом сидели у реки на перевёрнутой лодке, молчали. И тут к ней подкрался чей-то заблудившийся телёнок и потихоньку зажевал край её юбки. Помогая освободить подол, Фёдор вдруг с горькой усмешкой пошутил: – Почему ему можно, а мне нельзя?..
И тут барышня, воспользовавшись случаем, вдруг сама поцеловала его сначала в щеку, потом в губы.
Вскоре они уже купались в затоне, жгли на берегу костёр и всё целовались, целовались… Она, как выяснилось, – в первый раз. А он – на всю оставшуюся жизнь.
На рассвете, проводив её домой, он забрался на ту же колокольню и широко раскинув руки, ласточкой кинулся вниз…
5. Тайны и таинства
– Опять всё воскресенье пьют, как лошади… – Наконец, забралась в сестрино убежище и Маша. Вылезай, пойдём спать. Ведь тебе уж получше?..
– Да! Мама помогла.
– И как это у неё получается?..
– А вот так… – Изобразила Даша нечто демоническое. – Все соседи уже нас боятся!
– Зато с голода не пухнем, а то б уже как шарики были…
Сёстры ещё немного подурачились и, крадучись миновав парадную залу, спустились вниз, к себе.
Расходиться по комнатам не хотелось, и они присели в конце коридорчика на длинный низенький пуф – скамейку девичьих секретов.
– Ты слышала? Скоро Сержик приедет. Здесь, у нас, жить будет. Отец его на работу берёт, – приобняла сестра Дашу.
– Ну, вот… А я – с таким лицом!
– Он только через неделю приедет. Может, всё и пройдёт.
– Хорошо бы…
– А ты всё ещё любишь его?
– Ммм…
– Не мычи, знаю, – любишь! Но ведь он же отцу ровесник!
– Ну и что?
– Если – «ну и что», тогда я тебе ещё секрет раскрою – он ведь жениться на фронте хотел, на медсестре какой-то, Аннушке, вроде. Мне папа письмо показывал.
– Ну и где ж она, Аннушка эта? Нету! А значит, не судьба!
– Думаешь, твоим будет?
– Угу! – поморщилась от боли Даша. – Знаю!
– Всё-то ты всё знаешь, почти как мама. А если отобью?
– Убью тогда, и всё!
– Тогда сейчас убивай, пока не поздно. Да ладно, ладно уж… Пошутила я… Есть и у меня жених, и получше твоего будет, по крайней мере умней!
– Это Митька-то, Марфушин внук? Видела я, как ты на него смотришь. Приехал в чёрной коже, и уже – принц? Я бы за такого – ни за что!
– Ох, и зря я тебе открылась, ещё маме скажешь.
– Буду я такую глупость ей говорить… Рыжий он, твой Митька, и худой, как тюлька! – И прыснув в ладонь, Даша бегом скрылась у себя. Ей уже нестерпимо хотелось побыть наедине с волнующими новостями:
– Серж приезжает… Мой Серж! Милый, милый… – мгновенно засыпая – всё же сказалась долгая мука от ожогов – ласково прошептала она. – Любимка мой!
И тут же со второго этажа, как вода из порвавшейся трубы, с шумным рокотом сорвались и обрушились в первый разливы бурной фортепьянной музыки. А следом над потолком яростно заскребли и зашаркали вальсирующие пары.
– Господи, сохрани ты нас, грешных! Не предай гиене огненной… – Сбивчиво запричитала Марфуша за своей перегородкой. – Бедные мы усе, бедные… Что-то таперича с нами, усеми будет?.. Сохрани нас, Господи, не предай!
6. Пустота
Вера проснулась от нестерпимой боли в правом подреберье. Этот приступ был уже не первым. Стиснув зубы, она подтянула колени к подбородку. На верхней губе выступила испарина.
– Опять – эта чёртова печень! Петруша ведь предупреждал, а я? Нельзя мне пить, ну ни рюмочки! Сама знаю. Но и не пить, как? И тогда… почти всё отняли! И теперь остальное добирают. Хотя, что, кроме дочерей, осталось-то?.. Ой, схватившись за бок, опять вскрикнула она, – теперь уже точно умираю… Хотя, что это я?.. Ведь не от печени же подохну, от болотной воды…, что ни ночь, она мне проклятая снится – жёлтая, мутная, холодная…
Достав из тумбочки шприц, Вера вколола себе морфий.
– Но главное вовсе не это – другое совсем… Главное – любить не получается! Пыталась ведь, пробовала… Не выходит! Голова мешает. Оторвать бы её вместе с косой, дурищу эту. Всё-то ей не так!
Сержика, вот, кажется, обожаю, прямо подыхаю от тоски по нему, но только, когда его нет, а когда рядом, мешает мне дурачок самовлюблённый. Только явится, скажет пару пошленьких комплиментов, и всему конец. Никакой тебе схватки страстей, как у классиков…
Одни только – «ручки, ножки да губки бантиком…» Хоть запри душу в комод и не высовывай! А что женщина без любви? Ничто! И имя ей ничто. Тоска… Боже, как паршиво! – Ещё плотнее обхватив колени, она опять глухо застонала. – Вот у тела, даже, когда ему больно, иногда всё-таки получается, правда, по животному. В этом Петечка мой горазд, тщательно следит за своим мужским достоинством. Каждое утро любовь имитирует, чтоб не застаивалось. Кормит его, когда надо, сметанкой с фруктами. И ведь работает! Ещё как…
Когда души, как у него маловато, телу – полное раздолье! Но ведь это же совсем другое, этого ведь мало… Мало!
Ой, жмёт-то как! И не позовёшь никого. Опять ругать будут. Я и так весь опий из амбулатории перетаскала: операционных на живую режут. Пустота… Боже, какая пустота! Серж, спаси меня, Серж! Иногда даже поскуливаю, когда тебя вспоминаю. Ведь, когда болел, всю себя тебе отдала чуть не подохла… Приезжай! Пока зову, жду тебя, – ещё женщина. А так, уже и сама не знаю – что?!
7. Петрушевский
Сергей же Иванович Петрушевский в этот самый час, сам не понимая каким везением вырвавшийся из цепких лап вконец озверевшего фронта, уже благополучно подкатывал к пустынному киевскому перрону.
Придерживая раненую ногу, он кое-как сполз с обледенелой подножки, сладко глотнул вечернего морозного воздуха и, прихрамывая, свернул в знакомую улочку. Ту самую, где, может быть – очень бы хотелось – ещё действовал, любимый им ещё со времён студенчества народный театр г-на Паторжинского.
Серж когда-то и сам с удовольствием поигрывал в нём, знал и водил дружбу со многими актёрами, в общем, был здесь своим.
Вот и теперь, как и в прошлые наезды, он намеревался по дороге к Краснопольским привести себя здесь в порядок и передохнуть, если, конечно, актёры труппы ещё не разбежались по ближайшим родственникам и дальним заграницам.
– Только бы Евгения не упорхнула в Париж вслед за своим занудой Гуриным. Саня Гриневский… Потом я. И вот теперь – он.
Вечно она под чьим-нибудь влиянием, если не сказать больше.
Именно это всегда и возмущало его в женщинах, их покладистость, влюбчивость, а более всего их подчинённость предмету своих вожделений.
– Вот Верочка Краснопольская, та – другое дело! Пусть несколько не в себе, но – королева! Что левая нога велит, то правая и творит! На таких, правда, не женятся – себе дороже! Что-то есть в ней тревожное, даже опасное… А вот погреть кровь, и – восвояси, пока цел, это – в самый раз!
Неловко оступившись, он невольно вскрикнул:
– Ах ты, чёрт! – Но тут же вернулся в колею нахлынувших размышлений. – Вот и бедная Аннушка… – Сердце у него опять защемило от невнятной, ещё неосознанной вины перед прикрывшей его собой медсестрицей, которая все последние месяцы была для него уже далеко не сестрой.
– Земля ей пухом, если б жива была да знала к кому иду, ещё как бы по щекам нахлестала, но потом и ногу бы обработала, и спирту бы дала… Бедная моя, бедная…
А эта Жека… – и домовитая вроде, и заботливая, даже чересчур заботливая, вспомнить тошно. Но ведь Гурин три года терпел? Значит, было за что. Письмецо недавно с оказией прислал, десяток строк, но все – о ней:
– У вас, среди этих уже не смогу, сам понимаешь. Только – за границу! А она ехать не хочет. Как, говорит, Островского там играть буду? На кой он им там, да ещё в переводе?
Подбери её, пожалуйста, она славная, хорошей женой тебе будет. Да и не за молоденькими же бегать, когда виски уж – бобёр бобром. И меня совесть отпустит, если у ней всё хорошо будет. А то, всё будто гложет что-то…
– А ведь и, правда… – Кутаясь в чужое, не по росту пальто, Серж горячо выдохнул себе за ворот. – Куда ещё гулять-то? За сорок перевалило. Тёплый, тихий угол явно б не помешал…
Ух, однако и морозец! Нет, на фронт больше не вернусь, ни за что! Рана на бедре подживёт, и сразу – к Краснопольским. Хромающим да кривобоким – не хочу! Не люблю, чтобы жалели… Не люблю-с! И всё-таки хорошо, когда ждут. Раньше вот родители, светлая им память, ждали-дожидались, пока…
«Повезло» бедным, не проснулись даже. А кто поджёг – те ли, другие, поди теперь, разберись... Всё испохабило это чёртово время! Себя и то не узнать…
Бедные мои, бедные… Пусть хоть там им за доброту да
ласку воздастся! – Он с шумом высморкался и, заметно подволакивая ногу, заковылял быстрее:
– Господи, хоть бы Петруша помог! Ему хорошо, в прямых боях не участвовал, всё – в обозе. А я?.. Боже, – сколько кровищи-то?..
Может, за неё – отца-то с матушкой? Бог всё видит! Нет, лучше не думать. Ведь и самого, если б не документы Безрукова, да усы не сбрил, давно б сцапали, ещё в поезде!
Хороший был человечек, фельдшер наш, Сергей Иванович Безруков, тёзка мой – большой души, замечательной… А вот физиономию ему Боженька ну такую, простите, бесцветную да безликую дал, такую невзрачную, карточки на документах, и те, будто выцвели, любому сгодятся.
Значит, и быть мне теперь Безруковым, слава Богу, не Портянкиным каким-нибудь… Жив останусь, родным его пенсион назначу, детворы у него по слухам осталось – мал мала меньше.
Парадная дверь театра была изрядно заметена.
– Может, и нет уж никого?.. Заглянуть, что ли, со двора, гримёрка и кладовые ведь там?.. Проваливаясь по колено в сугробы, он кое-как перебрался во внутренний дворик. Как ни странно, хорошо протоптанная тропинка там всё же имелась, только тянулась она не с улицы, а из-под угловой арки соседнего дома и упиралась прямо в слабо освещённое окошко, завешенное знакомой оборчатой юбкой в синий горошек.
– Такие юбки, видимо, и в воде не тонут, и в огне не горят! – Невольно улыбнулся Петрушевский. – Кажется, повезло!
Выбравшись на утоптанное местечко у окна, он, как и было заведено, два раза погремел по жести подоконника. Занавеска отдёрнулась, и за ней показались сначала несколько испуганные, потом радостно вспыхнувшие полу цыганские глазки Женечки Курдюмовой.
– Обогреюсь, вымоюсь, нет, всю шкуру окопную сдеру… – облегчённо выдохнул Серж. – Лишь бы Женечка одна была… А то, может, уже и завёлся кто, или вообще – полон теремок?..
Хоть бы костюмчик штатский подобрать, пусть даже из театрального, очки найти, в которых Чехова играл, роговые, с простыми стёклами. Тогда б и к Краснопольским можно. Интересно, узнали б?..
8. Жека
Женечка выскочила на снег разутой и почти без ничего. Коротко взвизгнув, она повисла на шее Петрушевского и, захлёбываясь от смеха, тут же принялась плакать.
– Тише, милая, я же с фронта, ещё подцепишь что…
Женя нехотя отпустила его, всё же чмокнув разок другой в небритую холодную щеку.
Через пару часов они были уже в постели. Видимо от смущенья, что всё у них так быстро вышло, Женечка совсем не по возрасту расшалилась.
Она то принималась сюсюкать и толкаться, больно задевая раненую ногу Сержа, то, карабкалась ему на грудь, напяливая на мокрую голову линялый театральный чепчик. А когда Петрушевскому удавалось кое-как перехватить порхающие над ним ручки в оборчатых раструбах пеньюара, тут же сникала и, отвернувшись к стене, опять принималась потихоньку плакать. И Серж понимал, что это – Гурин… Гурин ещё не весь ушёл из неё:
– Придётся принять и это. Ведь после всего ужаса, всей грязи и ненависти этой войны, разъевших и мозг, и душу, как всепожирающая ржавчина, уже никак нельзя, совершенно невозможно – без чьей-либо заботы, без дома, без тепла, пусть временного, без корыта с горячей водой, без куска мыла, без кровати, без кастрюли с остатками картошки в мундирах, и даже без лёгкого ощущения одновременно и вины и нечаянного счастья, в общем без женщины, которая и есть всё это!
И Женечка Курдюмова, будто подслушав его, опять и опять склонялась над Сержем и, вглядевшись в исхудавшее, без утаек распростёртое пред ней мужское тело, напоминавшее теперь скорее распятие с выгоревшей церковной иконки, принималась целовать его в забинтованное бедро, в живот, в ещё сырую, пахнущую мылом, впадину подмышки:
– Миленький, не бросай меня! Страшно ведь! Ой, Страшно…
И тени на стене, вторя ей, так же заламывали руки и, неистово вскинувшись в свете ночника, рваными крыльями рушились в темноту.
9. Спать…
А Петрушевскому уже нестерпимо хотелось спать. Едва он прикрывал веки, как реальность уплывала от него. И всем утомлённым, издёрганным существом своим он ощущал лишь недавнее жёсткое погромыхивание поезда, сиплый кашель пассажиров, вопли и стоны раненых и ещё… Да-да, именно желудком, – тот самый, сладковатый, невыносимо-отвратительный запах то ли детского маранья, то ли солдатских онучей.
– Та-тах-таби-дах… Та-тах-таби-дах… Спать… Спать… Спать, как – умереть!
И, будто поджидавшие его беспамятного отрешения и от себя, да и от всего этого ополоумевшего мира, пугающие неестественными оскалами, лики, уже, казалось, отпустившей его войны, вдруг опять набрасывались на Сержа и вновь затягивали в свою сужающуюся воронку.
А там…, на самом дне её, бешено танцуя в чём-то красно-чёрном, металась Вера Краснопольская! И распущенные волосы её, обращаясь в шипящих чёрных змей, уже тянулись к нему, щекоча, опутывая и удушая…
– Аня, Анечка… – приподнявшись, вскрикнул он в темноту.
И низвергнутые этим светлым именем маски страха и ненависти, сами собой распались на жужжащие световые пятна, мелко мельтешившие уже у самого лица.
– Подёнки? Как много подёнок! Фрр… Фр… Или…Или – это?.. – Он вдруг страшно заскрипел зубами, опять раз разбудив бедную Евгению. – Это же – трупные черви, жирные белые черви… Эк, копошатся…
И Серж, из последних сил отмахиваясь от чего-то или кого-то, выгибаясь дугой, яростно забился головой в железную спинку кровати. А бедной Евгении оставалось только, жарко придыхая, молиться над ним, сбивчиво прося Господа – и за себя, и за Сержа, да и за бросившего её Гурина.
Ноябрь, 1920-го.
IV. СНЫ НАЯВУ
1. Размышления на козетке
С потухшей сигареткой меж нервно подрагивающих пальцев, едва оправившаяся от очередной колики Вера, уже с час выжидающе поглядывала на мужа:
– Однако – хорош ещё… Даже медицинский халат его не портит. А лёгкая седина бачков даже импозантна.
Какой всё же красавец – муж у меня! И на пирушках любого перепьёт, и от женщин отбоя нет. Сибарит, правда… Больше в эмпиреях витает, чем работает. Моего приданного в аккурат только до этой чёртовой революции и хватило!
А ведь неплохо нам жилось, совсем неплохо. Может, оттого, что – похожи? Или оттого, что не любили друг друга, а значит, и не мучили?.. Свободные. Обеспеченные. Кумиры общества. Были, есть и будем! Было бы общество. Только теперь где оно? Рассосалось, как и состояние наше… Думали, оставим девчонкам хоть заводы. А теперь?..
Усадьба, и та – под больницу обустроена, правда, должность Петруше при ней дали, даже паёк выделили. Вот и жить бы можно… Да только разве это – жизнь?! Копти себе потихоньку, не лезь, куда не надо, Бога не гневи, коли уж пожалел тебя да приголубил, так, что ли?.. Ведь пока к больнице не присосались, думала – да лучше б убили нас всех разом, чем так жить!
А, кстати… Где ж этого кормильца носило всю ночь?! Хоть бы опять не вляпался во что. Трезвый явился, как стёклышко, значит, не по дамам-с. А это ещё опасней, куда опасней! Собрания да заседания, видите ли, у них теперь вместо дам-с, причём, ночные.
Шныряют господа офицеры, как беспогонные крысы по подвалам. Вот уж чего и вообразить-то было нельзя! Ладно б, эти – беглые… А тебе-то – на что? Приняла нынешняя власть, похитрее других оказался, так нет, туда же – в казаки-разбойники под старость поиграть!
Ну, куда?.. Мягковат ведь для всего этого да и слабоват. А время-то жёсткое, ох, жёсткое!
А ведь, казалось, шлёпало себе тихой сапой… – шлёп-шлёп, шлёп-шлёп. И вдруг – как с цепи сорвалось! И господ и голь перекатную – всех в одну кучу! В страшном сне б такое не привиделось… Вон, даже бывшая нянька наша – Марфушка, и та теперь – пролетариат! Правда нынче с душком немножко… – Невольно улыбнулась Вера. – Третьего дни жалась возле голубой голландки, где мы для санитарок место обозначили, да последний гребешок там дурында и подпалила, пришлось свой ей отдать, треснутый, с бирюзой. Форсит теперь…
Внука своего Митьку, вроде, на какие-то курсы пристроила, руководящих работников, что ли… «Обновление крови во власти» – так, кажется, Петруша в свою тетрадку записал?..
А что?.. Хоть на Мефодия, конюха нового погляди! Почище Жорки будет. Чем не комиссар? Лютей лютого. Силища так и играет. Даже кобылы чуют. А уж мы-с… Когда по утрам в седло подсаживает, так жаром и обдаёт.
Да… Придут всякие Жорки да Мефодии вместо Петрушевских да Голициных и, бицепсами играя, всех наших бело-костных эстетиков сапожищами – под зад, под зад, не успеют и за сабельки похвататься. Хорошо хоть я девчонок нарожала. Этих пожалеют. Мужчины – всё-таки. Да… Бедные мои Дашули-Машули.
А Пётр Аркадьевич, будто и вовсе не замечая присутствия жены, уже битый час не отходил от окна Вериного будуара, выходившего прямо на улицу:
– И где ж он запропастился, Петрушевский этот?.. – искренне волновался он за друга. – С работы ведь отпросился, чтоб его встретить. Ведь, кажется, окончательно решил у нас осесть, так нет, с прошлого года всё едет. Про последнюю его депешу с дороги не стал своим и говорить, опять огорчатся, когда обманутся.
– То ли делает вид, то ли и вправду ему не до меня? – Начала уже сердиться Вера. – Нарочного, небось, ждёт? Хоть каких-нибудь, пусть самых невероятных, но всё-таки – вестей! Нет ничего хуже ожидания, уж я-то знаю…
И, чтобы хоть как-то привлечь внимание мужа, грациозным кошачьим движением сбросила на пол диванную подушку.
– Никакой реакции?..
Но он всё же обернулся, окинув её невидящим взглядом.
О чём бы Пётр Аркадьевич ни думал в последнее время, всё поворачивало к одному:
– Господи, как там наши? Есть ещё надежда, или уже – всё?! Ах, если бы знать, тогда, ещё в самом начале, если б знать! Куда страшней ведь повернуло, чем думалось, куда страшней…
А теперь ещё этот вакуум – как в колодце каком! Ничего-то сюда не доходит, одни сплетни да вымыслы, да и те – со страху. Хорошо хоть больничных хлопот по горло, без них бы – совсем никуда. Эти бесконечные – дрова, бинты, катетеры, шприцы… Вечная нехватка йода и ваты…
Снег за окном, поминутно сдуваемый с крыши каретного сарая, уже основательно засыпал приступки булочной и мясной лавки напротив. Но упрямый дворник в замусоленном белом фартуке стойко сдерживал натиск стихии, отбиваясь от неё то метлой, то короткой широкой лопатой…
– Чёрт бы его побрал, этого Сержа! – Сменив позу, Пётр Аркадьевич потёр онемевшую голень. – Что же с ним стряслось-то?.. Постреливают на улицах, ох постреливают… И домой ему нельзя. Час-другой, и придётся искать, а может, и выручать. Веруся и девочки так просили за него, случись что, – огорчатся бедные. Нет, лучше не думать! Если не подумаешь о плохом, то ведь и не случится?.. Анестезиологом, что ли, его пристроить? Образование всё ж – медицинское. Хотя, какой из него медик, кроме арапника ничего в руке и не держал!
Нет, уже все сроки вышли. С вокзала, что ль, начать или к Ольге, пассии его бывшей, заглянуть. Брр… Холодрыга-то какая!
– Неужто не хочет меня больше? – Нервно скомкала уже вторую подушку Вера и метнула в сторону мужа испепеляющий взгляд. Изрядно натерпевшись от последних перипетий судьбы, она не выносила никаких перемен, особенно в главном, прочно устоявшемся.
Любое отклонение от нормы она встречала как врага.
– Неужели я постарела? Так и есть! Он всё реже смотрит на меня прежними глазами. А ведь ласки ещё хочется, даже больше, чем раньше! Видно женское естество не стареет вместе с обличьем. Вот и ещё одно открытие подступающей старости... Сколько их ещё будет?..
На ноги ей вдруг ловко запрыгнул всеми любимый рыжий кот Мотька. Всеми-то – всеми, но только не Верой!
– Раньше бы ни за что не потерпела такой вопиющей наглости! А теперь?..
Сейчас она даже с некоторой заинтересованностью начала отслеживать его упругие вкрадчивые переступания по.. – вот ужас-то! – явно отзывающемуся на них телу. Наконец, кот, вдоволь натоптавшись, улёгся у неё на груди, прямо у лица.
– Этого ещё не хватало! Фу, – гадость какая! – Вера сбросила его на пол, да ещё и кинула вслед удирающему нахалу тапочкой.
Он, ловко увернувшись, нырнул в полуоткрытую дверь, но через мгновение выглянул из-за неё, бессовестно ухмыляясь в распушённые усы. Вера запустила в него и второй тапок.
– Вот гад! Всё понимает. Ведь хоть и кошачий, а мужик! И почти с ненавистью взглянула на мужа. – Ну и пусть! Пусть… Так даже лучше! Вот и освобожусь, наконец, из этой «долговой тюрьмы»!
Ведь, что есть брак? Пожизненная тюрьма, и – только! – она было хотела продолжить эту тему… Но, чисто по-женски, мгновенно поменяв и предмет размышлений и настроение, вдруг, упрямо набычившись, уставилась в потолок:
– Эй, вы, там?! Козявчка я для вас?.. Послушная козявочка?! Куда соломинкой толкнёте, туда и сверну? Так нет… Не такая уж и послушная… Ведь и пободаться могу! Смеётесь… Интересно вам?.. Так за всякое представление – платить надо! Старею ведь… Скоро ничего не нужно будет, совсем ничего… Сейчас давайте! Немедленно! Слышите? ..
Пусть меня хоть кто-нибудь полюбит! Всем сердцем и до гроба! Скорее… А то сдохну, и не будет у вас козявочки...
Вынув из тумбочки праздничную, в три пальца свечу, она поставила её в подсвечник и зажгла. – А интересно, каким он будет – которого дадут?..
Что дадут, она уже не сомневалась, потому, что в ямочке грудины уже потянуло странным сквознячком, который, всё усиливаясь, чувствовался и в комнате.
– Ну, вот… Чуть было свечку мне погасил! Но… Что это?!
Свеча на тумбочке, странно оплавившись, стала походить на вылепленную кем-то восковую фигурку.
– Мужчина… Мужчина, с маленькой девочкой. Это – он?! – Вера тотчас загасила свечу и спрятала её в коробку из-под туфель. – Ну, вот… теперь и у меня есть тайна… Женщине без тайны нельзя! Она без неё засыхает, как моя китайская роза… А ведь самая большая тайна это – любовь! Кто с этим поспорит?..
Настроение у неё заметно поднялось, и, нащупав под козеткой мужнины шлёпанцы, она, грациозно подволакивая их, направилась… к Петру Аркадьевичу! Ей пришлось – ладно уж! – самой приобнять его за шею и чмокнуть в щеку. Наконец, коротко вздохнув, Вера положила ему на плечо не убранную с ночи головку и заметно успокоилась:
– А красиво, наверное, мы смотримся… – семейный портрет на фоне зимнего пейзажа, человеческое тепло в холодном коконе неживого. – Восхитилась она своему же мысленному замечанию.
И теперь они, уже вдвоём, принялись наблюдать за разгрузкой дров у дома мясника и за чрезмерно взыгравшей там, внизу, ломовой лошадью, вставшей на дыбы и восторженно храпевшей.
–Приходу зимы, что ли, радуется? – Усмехнулся Пётр Аркадьевич.
– А почему бы и нет?.. Мы ведь с тобой – радуемся?..
Лошадь продолжала сипло ржать и подхватывать высоко оголившимися зубами вьющиеся подле неё снежинки.
– Какова?.. – Почти с завистью выдохнул Пётр Аркадьевич. – А ведь на улицах – стрельба, грабежи, погромы. Ещё месяц, другой, и – голод?..
– А мне как раз и пожить хочется… – Промурлыкала ему на ухо Вера. – Слышишь?.. Уже и Машуля гимназию заканчивает. Того и гляди – две невесты на выданье! Замуж бы их – повыгодней, и – гуляй, не хочу!
У них впереди, скорее всего, трудное и тяжёлое. А вот у нас – другое дело, планировать уже нечего, да и терять тоже…
Но Пётр Аркадьевич, что-то припомнив, уже отошёл к секретеру и принялся копаться в нём, деловито выдвигая и задвигая ящики.
– Вот – гад! – Подавив нервный зевок, Вера нехотя вернулась на козетку. – Ведь и спектакля нынче нет, да и репетиций тоже – можно б проваляться хоть до обеда…
– Точно – гад! Все они – гады, лучшее от нас возьмут, – и по девочкам! А что?.. Они ведь и в шестьдесят – женихи! Взять бы, да и законсервировать своё тело, пока оно – ещё тело… И доставать потом, когда пригодится, – невольно улыбнулась она, – но ведь и без мужа нельзя, к чему обманываться? Ведь все мы, особенно красотки, однозначно – иж-ди-вен-ки…
И уже в который раз она с удовольствием начала разглядывать интерьер своего, с таким трудом отвоёванного у революции будуара: золочёную посуду на ночном столике, бисерное шитьё на остроносых, недавно выменянных на толкучке туфельках, пока ещё как предмет украшения расположившихся на полочке трельяжа и прочее, и прочее… Это несколько успокоило её и даже привело в благостное состояние.
Достав коробку с так чудесно оплавившейся свечкой, Вера ещё раз вгляделась в восковую фигурку:
– Надо же, никакого мужчины уже нет! А вместо него – вовсе даже – женщина, с венком в руке, да ещё и на постаменте… Прямо кладбищенский памятник, и всё тут!
Ну, что ж… Не дают, и не надо! – Смяв свечу, Вера зашвырнула её в угол. – И всё же… – Опять вернулась она к недавним размышлениям. – Почему с возрастом ещё больше хочется… Ну, всего-всего…– и жадно сорванных в гримёрке поцелуев, и мужских рук, бестолково путающихся в застёжках, а главное – закинула она руки за голову, – этих взглядов – пылких, будто пожирающих… Когда и сама уже… – готова, готова на всё! И, конечно же, власти – и своей, и его, одуряющей, безраздельной… И это – в мои-то годы?.. Никогда б не подумала. Ведь природа умна, ей свойственно отсекать несоответствия. А, может, мы просто живём здесь, на Земле, раза в два меньше, чем положено? Ведь сколько инфекций-то всяких?.. А вдруг?! Но тогда… Тогда мне ещё… – двадцать с небольшим! Каково?! А ещё… Ведь совсем не замечаю времени. Как будто и нет его. Загляну к знакомым, мол, привет! А они мне: «Ты знаешь, когда у нас в последний раз была?.. Три года назад!» А мне, кажется – всего недели две, не больше…
Достав из-под подушки зеркальце, Вера ещё раз внимательно вгляделась в своё, пожалуй, ещё сносное отражение:
– Ещё год другой, и поедет это личико прямёхонько – в тар-та-ры! Вот ведь и матушка моя… – Невзначай вернулась она всё к той же наболевшей теме. – Ведь совсем поздно замуж вышла, за тридцать пять уже… Совсем чуточку счастливой побыла…
«Как-то стираю… – рассказывала – аж локти в пене… И вдруг прямо через стену вижу, Паша мой по соседнему переулку идёт… Из губернии домой возвращается. А поздно уже. Ночь глухая. Ну, я, как была, так прямо в мокром халате из дому и выскочила… И правда, вот он, каким его видела, в том самом месте и идёт… Так с разбегу на грудь ему и кинулась…»
Всё спешила бедняжка уйти… поскорей, чтоб не успеть перед Пашей своим дряхлой обезьяной показаться! А он её взял, да и опередил. С вечера лёг спать и не проснулся, всё её состояние душевное покоя ему не давало, боялся , что руки на себя наложит…
А она и так уж была никакая, а тут сразу будто и ослепла, и оглохла. Совсем чудной сделалась – слабой, тихонькой: сорвёт в саду цветочек, положит на подушку подле себя и глядит на него, будто на человека – смеётся, жалуется, а то и поцелует невзначай. Увянет цветок, она новый принесёт… И всё сызнова.
А ещё боялась одной в дому оставаться. Набросает в тесную кладовку подушек, прямо на пол, сядет на них, да и спит там, пока утро сквозь щели не пробьётся. И ведь в разуме была, все знали, просто обострилось в ней что-то... Или поменялось? Другое всплыло, более важное, только ей и ведомое...
И с чего умерла? Ведь и не болела, вроде… Просто сложила руки на груди и – за Пашей своим… Хороша ещё была, ох, хороша! С улыбкой отошла, довольная, что и в гробу – красавицей лежит! Обхитрила таки старость. И мне б так…
Ведь, что ни день, жизнь мою, будто пирог по краям обрезают… Вчера большой кусок оттяпали, сегодня… Только одна серединка голым сердечком и осталась. Только ведь и ей не долго…
2. Мужские слабости
Женя и Петрушевский сильно сблизились за два месяца совместного проживания. Горести и невзгоды смутного времени сделали каждого из них покладистей, уравновешенней, что ли.
Евгении нравилось вести их маленькое домашнее хозяйство – ходить на рынок, менять там что-нибудь из тряпок на съестное, варить Сержу суп на театральной керосинке. Он же, удивляясь самому себе, нервничая и чертыхаясь, всё же починил раскачавшуюся ножку табурета, а потом, исколов все пальцы, ещё и подшил прохудившиеся Женины бурки. Ах, белые офицерские пальчики! Жизнь брала своё. Прежние амбиции облетали, как шелуха. Да и вообще, ничего из прежнего в их теперешней жизни уже не было, да и быть не могло. Ведь столько всего ужасного и непоправимого уже случилось с каждым из них, и, видимо, ещё могло случиться.
– И за что же их – так?! Родненьких моих?.. Господи, за что? – стиснув побелевшие губы, всхлипнула Женечка, когда Серж
ненароком упомянул о её родителях, растерзанных при очередном Киевском погроме.
Она тогда была в театре, на репетиции. Это её и спасло. На квартиру уже не вернулась, и их жилплощадь заняла семья однорукого комиссара с иконостасом боевых наград на груди. Женя даже вещички постеснялась забрать. Если бы не театр, оказалась бы на улице, да ещё и нагишом.
У Сержа тоже никогошеньки не осталось, кроме Краснопольских, которых он и оповестил недавно со случайным нарочным о скором своём обручении теперь уже с киевской актрисой Евгенией Курдюмовой – Не Борц же?.. – заодно испросив разрешения и на переезд к ним с будущей женой.
Свадьбу Петрушевские собирались играть уже на месте, по получении Сержем обещанной должности при больнице Краснопольских. Но бедняжка Женечка вдруг занемогла брюшным тифом, пролежала месяц в госпитале, а потом ещё две недели дома, но, слава Богу, поправилась.
Только, когда солнышко уже начало припекать, а распутица ещё не началась, Серж Петрушевский, так и не получив ответного письма, решил съездить к Краснопольским на разведку.
Что-то опало, обескровилось у него в душе за время Жениной болезни. Быт оказался ему не по силам. Серж много возился с посудой и грязным бельём, постоянно раздражался и был теперь вконец измотан. Его поездка к Краснопольским выглядела, скорее, бегством с тонущего корабля, правда, пока он боялся признаться в этом даже себе.
Провожая его в дорогу, похудевшая, осунувшаяся Женечка почти не плакала, видимо, уже чувствовала, что это конец. Женщины всегда это знают раньше. И, может, именно поэтому, когда сани тронулись, она вдруг, резко отвернулась и зашагала прочь, ни разу не обернувшись.
Полозья скрипнули на ухабе, Серж плотнее запахнул пальто, вытянул ноги и с уже нескрываемой улыбкой прикрыл глаза. Он уже был далеко, в ином времени, в иной жизни. И впереди, как он думал, его теперь ждало только хорошее.
3. Вешние грёзы
– Ах, подмостки, подмостки… – примётывая на колене новые кружева к старой шляпке, Вера на весу слегка потряхивала ногой:
– Боже! Боже… Как я любила и люблю это никогда не утомляющее обожание поклонников, цветы, особенно зимой, ночные катания на лошадях, загулы с шампанским, бесконтрольные шалости, переходящие в рискованные затеи. А уж весной – и говорить нечего… Но, кто приучил к роскоши, взбунтовал и без того чумную кровь, пусть за это и отвечает! Женщина, она ведь – глина, что слепил, то и получи! А впрочем, это уже мужские заботы! А нам бы… – подольше не терять обаяния и, конечно же, голоса – грудного, завораживающего... Пусть дуреют! Пусть эту самую страсть хоть разок в живую попробуют! А то ведь живут, живут… А вроде как и не жили…
А мы… никого и ничего дожидаться не станем! Не из того теста-с. Всё, что дадут, возьмём! А чего не дадут, отнимем или на худой конец выкружим как-нибудь… Ведь больные да несчастные толпой теперь прут… Кручусь с ними, как чёрт на верёвке! Но зато… Вчера, например, взяла, да и накупила не крупы да соли, а… – ворох кружев ручной работы! Так-то вот! Вон… – сползают с подзеркальника, будто змеи зачарованные… Закажу себе платье – узкое-преузкое, спереди покороче, но с неимоверным хвостом сзади, из одних брюссельских, и не чёрных, как у всех, а непременно тёмно-фиолетовых, тех, что подороже… А совесть, скажете?.. Да она теперь таким, как я, не по карману! Да и вообще…
А славно я вчера в «Аиде» спела. Завсегдатаи аж повизгивали. Нынешние ещё мало ходят, а из прежних, те, что остались, хоть и рискуют, а всё ж появляются….
Вот и этот, Вольгемутовский подюпник Лиходеев, – туда же! Разберётся ужо с ним Ольга, я думаю. Так мне аплодировал, так аплодировал, даже стул в партере поломал! Да и бывший губернатор тоже… Хоть бы мамзель его не заметила… А то – пусть и заметит, поделом им всем! – Она вдруг рывком откинулась на козетку, так, что расшпилившаяся коса, развернувшись, тяжело ударила об пол… Отбросив недошитую шляпку, Вера принялась бездумно водить пальцем по выпуклым розочкам обоев, вторя каждому завитку:
– Постричься, что ли?.. Сейчас все стригутся да завиваются. Тяжеловата косища стала… Интересно, от кого из прабабок – такая? Вряд ли от фуфыры этой, плоскогрудой французки?.. – Скривив губы, она надолго уставилась на один из запылённых фамильных портретов:
– Ну, задам я этой Катьке, носом её всю пылищу вытру!
Да, нет, скорее – от литовки. Это она, говорили, домоседкой была, сидела за мужней спиной тише воды, ниже травы, да косу растила. Ха…, чтобы было потом за что таскать да по полу волочить! Или тогда это не в моде было?..
Упёршись ступнями в диванный валик, она вдруг вскинулась и по-детски прихлопнула ладонью солнечный зайчик, весело подрагивавший на стене:
– Привет, дорогуша… – И тут же зажмурилась от взрыва солнечного света на клубке тонких браслетов, унизывавших её голубоватое запястье. – Забыла вчера снять, дурашка. Нет, не вчера, уже сегодня! Ведь только к рассвету домой добралась… Спасибо, Вадим подвёз, осветитель. Извозчики, и те уже, спали, а пешком – страшновато. Грабят ведь…
Всё норовил паршивец боты с меня стащить. Чуть не завалил в прихожей. Хорошо, Марфуша угомонила, а то б…
Поддавшись накатившей истоме, она вдруг до боли прикусила Венерин бугор у большого пальца. И тело её тут же пронзила знакомая вытягивающая судорога… Потом, слегка мурлыча и постанывая, она потёрлась о браслеты щекой, и, по-кошачьи покусав их, как это частенько делал великий дамский угодник Серж, опять томно потянулась:
– Любить, любить, любить… А, главное, быть любимой, желанной, завоёванной, зацелованной… Ни смотря ни на что! – Круто запрокинувшись, так что обозначился неровный зубец кадыка, она ещё сильнее вытянулась и вдруг странно, будто внутрь себя, улыбнулась. Пространство вокруг, на миг возбуждённое и озарённое её желанием, сгустившись, вдруг сделалось почти ощутимым…
– Возьми… – жарко выдохнула она. И тотчас всем существом почувствовала, что её сладкая жертвенность совсем по-мужски и оценена, и принята им.
4. Сержик приехал.
Ещё дня три лицо у Даши побаливало. Кожа на нём взбугрилась, и Вера посоветовала осторожно снимать её слой за слоем, почаще смазывая вазелином.
В воскресенье к завтраку вышла уже не прежняя Даша, а внезапно повзрослевшая красавица с нежно розовым лицом и сияющими от счастья глазами. Губы её так и растягивались от неудержимой ликующей улыбки.
– Не очень-то радуйся… – Предупредил отец. – Юношеские угри, это не кожное заболевание, а нарушение обмена веществ. Скорее всего, ни сегодня завтра всё начнётся сызнова, радикального средства пока не найдено. Протирай утром и перед сном борным спиртом, может, подольше продержишься...
– Дай ты ребёнку хоть порадоваться! Ох, уж эти медики… Ничего святого! – Тут же возмутилась Вера. – Теперь её красота – моя забота. Никакого спирта, тем более после ожога! Я уже отвар приготовила…
– Дашка, я за тебя так рада! Пойдём на каток?
Там по выходным – музыка, все наши будут, они про тебя спрашивают, особенно Жоржик Славинский… – быстро допивая компот, затормошила сестру Маша.
– Нет, на мороз ещё нельзя! – Остановила её Вера. – Пусть денёк дома посидит, почитает что-нибудь. Кстати, что ещё за Жоржик? Он из чьих? Кажется, тот студентик худосочный, из Технического?
– Он хороший, мамочка, – на скрипке играет, книжки любит, – наперебой затараторили девочки.
И тут в прихожей разразилась знакомая, с цветистыми переборами трель. Так звонить мог только… Ну да, это он всегда вызванивал колокольцем что-то веселенькое из «Летучей мыши».
– Сержик приехал! – Как ужаленная подскочила Машка и кинулась в коридор.
– Это Серж… – Заметавшись, опрокинула стакан Даша.
– Это он! – Оправляя причёску, заметно порозовела Вера.
А Пётр Аркадьевич, дожёвывая что-то на ходу, прямо с салфеткой за воротом, уже направился встречать друга:
– Наконец-то… Устал ему место держать, за двоих ведь работаю!
5. Солнечное затмение.
Минул уже месяц, как Серж Петрушевский приехал к Краснопольским. Но к работе он так и не приступил – всерьёз разболелась нога, подстуженная в дороге, да и женская половина не успела ещё на него нарадоваться.
Среди больничных он быстро стал всеобщим любимцем и баловнем. Ему улыбались и санитарки, и медсёстры, и даже ворчливая «Кадушка», толстая и всегда растрёпанная кухарка Елизавета. Все зазывали его на чай или жареную картошечку, называли новым доктором и уже кое в чём с ним советовались в отсутствие Петра Аркадьевича.
Документы фельдшера Безрукова пришлись, как нельзя, кстати, неожиданно легко прошли проверку, скорее всего оттого, что медиков в посёлке катастрофически не хватало. Даже привыкать к новому имени не пришлось. Надо же – совпало. Вот уж точно – судьба!
Каждый вечер, уютно кутаясь в шуршащее шёлковое одеяло с накрахмаленным пододеяльником, Серж Петрушевский, засыпая, почему-то видел один и тот же сон – а именно, весенний денёк, цветущие сирени и ласковое солнце в звенящем от птичьих голосов небе, которое, склоняя к нему свой улыбчивый светлый лик, всегда несколько лукаво, то ли, спрашивало, то ли, утверждало: «А жизнь всё же хороша, не правда ли?..»
И Серж, соглашаясь с ним, по-младенчески тянул к нему руки, будто наяву ощущая уже изрядно подзабытое материнское тепло.
Ему, мужчине довольно солидного возраста, вырвавшемуся почти без потерь из адской мясорубки Гражданской, вдруг именно здесь, при недавно обустроенной больнице, начало казаться, что он ещё и не жил вовсе. Что всё у него ещё впереди… И непременно – доброе, радостное.
Революция и все страхи с ней связанные как-то сами собой отступили, и Сержу вдруг нестерпимо захотелось семьи: жены, детишек… – такую вот хорошенькую, смешливую дочурку в бантиках или плотного карапуза в матроске. А более всего хотелось иметь свой дом, обрасти хозяйством, необходимыми делами, долгами, чаяниями, вобщем – жить!
Однажды, довольно поздно возвращаясь от кухарки с подаренной ею, ещё тёплой, кукурузной лепёшкой, он, весело насвистывая, наскочил в коридоре на Дашеньку Краснопольскую, ах…, в одной ночнушке перебегавшую с кружкой молока из своей комнаты в сестрину.
Сам не понимая, что делает, Серж вдруг прижал девушку к стене и жарко шепнул ей на ухо:
– Солнышко, ты куда? У меня лепёшка есть…
– А у меня – молоко. Тише, ещё прольёшь!
– Вот и будем пить твоё молоко с моей лепёшкой.
– Мама заругает, что я ночью – с мужчиной…
– Солнышко… – едва сдерживаясь, потянулся он к её полуоткрытым в улыбке губам, ещё в молочной пенке. – Не бойся меня…
Но она сама вдруг прижалась к нему, а потом, поставив кружку на пол, ещё и обхватила за шею. Серж попытался взять её на руки, но Даша не позволила, тогда он, за руку, заметно смущаясь, увлёк её в свою комнату.
Серебристый свет полнолуния, падающий через полупрозрачные шторы на их встревоженные лица, тотчас заполнил нереальным глубинным сиянием и глаза, и сердца их, да и всё будто волшебное пространство комнаты.
– Ты чего улыбалась-то, встряхнул Серж Дашу за плечи, признавайся, а то…
– В полнолуние – бабы бесятся! – ловко вывернулась она из его объятий и вдруг запрыгнула на стул, а со стула на подоконник. Расплетённые косы её вспыхнули в сиянии луны, подсвеченные ореолом.
– А мужики?
– А мужики, когда – молодой месяц.
– А сегодня что?
– Не видишь что ли – полнолуние! – ещё сильнее отдёрнула
она штору и ступила на край подоконника.
– Вот ты и бесишься?.. Смотри, не упади…
– Не упаду. Я летать умею.
– Давно?
– Давно, с лет с шести, когда в тебя влюбилась.
– А я в тебя – пять минут назад.
Бережно он снял её с подоконника и отнёс на постель.
– Это не имеет значения, кто когда, если – любовь… – Она вдруг приподнялась и прижалась губами к его переносице. – Вот так!
– А как ты поняла, что – это…
– Когда встречаешь, кого любишь, сразу плакать хочется, но не глазами, а там, внутри…
Он не удержался и крепко поцеловал её в шею. Даша, зардевшись, вырвалась и снова оказалась у окна.
– Так ты и правда улетишь – попытался он удержать её.
– Если не обидишь, не улечу.
– Я и не думал…
– Думал, думал! Ты не мог не думать. Я ведь – думала…
Лицо её заметно светилось в темноте, а белки глаз, будто две раскрывшиеся звёздочки, уже цвели ему навстречу. Он встал и, направившись к окну, вдруг почувствовал донесённый от неё лёгким сквозняком еле уловимый запах. тот самый, – яблочный, с жасмином, который вот уже несколько дней упорно вспоминался…
– Даша, выходи за меня!
– Конечно.
– Правда?.. Ты согласна?
– Я очень хочу, очень-очень, только папа не позволит, я знаю.
– А мы убежим и обвенчаемся! А потом все нас простят.
– Нет, это плохо, – без родительского благословения.
– Плохо, я знаю. Но что же делать?..
– Ничего не делать. Я ведь люблю тебя. Чего же ещё? Столько лет ждала…
– Сколько?
– Одиннадцать или двенадцать…
– Так много?.. Я бы столько не выдержал.
– Ты – мужчина. А теперь ещё – и мой муж, правда? Ведь мы уже лежали в постели, целовались?..
– Правда, правда, дурочка моя. Конечно – муж, раз в постели… Но ведь ты и целоваться, кажется, не умеешь. – Подставил он ей губы. Ну, – вот сюда! Неужто – ещё ни разу?
– Ни разу. Хотела как-то, на катке, – одного мальчика… Но не получилось. Это ведь хорошо, что не получилось? В первый раз надо с любимым, с будущим мужем, так ведь?
– Так.
– Я теперь твоя жена или ещё только невеста?..
– Невеста. Какое красивое оказывается слово! Никогда не думал…
– Не-вес-та… Будто кто-то по ступенькам бежит, торопится… – Напела она по слогам.
– К счастью своему, наверное… – Он с силой притянул её к себе.
– Нет…. Нет! – ласково освободилась она. – Утро уже! Я к себе пойду, а то мама… – И неожиданно выпорхнула за дверь.
И Серж растерянно понял, что так и не взял её. И, что удивительно, остановила его отнюдь не обычная в таких случаях жалость, а уже возникшая откуда-то ответственность за что-то важное, значимое, случившееся с ним сегодня.
– Надо же… – Усмехнулся он своей нерешительности и вдруг осознал, что про себя даже несколько гордится ею.
И тут рука его нащупала под рубахой изрядно расплющенную лепёшку. Сержу страшно захотелось есть. И он с аппетитом, в полный рот, пару раз надкусил её.
Дверь, минуту назад прикрывшаяся за Дашей, вдруг беззвучно отворилась, и в проёме появилась разъярённая Вера Краснопольская. Лицо её было ужасно. Глаза запали. Ноздри яростно вздувались…
– Как ты мог? Как?.. Животное!
– Я ничего не сделал. Мы просто разговаривали.
– Я всё Петру скажу, он тебя взашей выпрет! Как ты мог?
После того… После того, что у нас?.. Я ждала, надеялась, думала, вот поправишься… Что? Никому не нужна теперь, да? Ни Петру, ни тебе, ни чёрту?! Не выйдет у вас с Дашкой, я руки на себя наложу! За что?.. За что вы так?!
– Ну не надо… Не надо же! Всё. Иди ко мне. – Прижав её к себе, он начал потихоньку, совсем как маленькую, гладить её, по затылку, по трясущимся плечам. – Тише… Тише… – Но, неожиданно для себя, вдруг страстно поцеловал в перекошенное от едва сдерживаемой муки лицо и жадно впился в губы. И тело его, только что так невыносимо боровшееся с желанием, вдруг, будто с цепи сорвавшись, яростно и скоро сделало своё мужское дело:
– Надо же… – Несколько погодя, вслух заметил он. – Тот же жасмин… И яблоко… Как я мог забыть?…
– Это она мои духи берёт, вот паршивка! – Догадалась Вера. – Ладно, придётся и ей купить.
– Нет, уж лучше – другие.
– Сама разберусь. Всё. На сегодня ты прощён, дуралей! – щёлкнула она его по носу. Но не вздумай сбивать с пути Дашку, не позволю! Убью, если что… И не обольщайся на свой счёт, девчонки часто влюбляются в… – Она на мгновенье запнулась. – В возрастных…
– В стареньких, хочешь сказать?
– Ну, если ты сам… Да, – в духовников своих, в преподавателей. Это пройдёт! Скоро пройдёт, по себе знаю.
– А у тебя-то кто был, духовник или преподаватель?
– Сначала один, потом другой…
– Ты всегда жадной была.
– Почему была? – рывком вскинулась она на него. – Я и сейчас…
И всё повторилось сначала, и ещё сначала… Когда же она, наконец, ушла, на Сержа вдруг накатила мучительная неловкость, нет, даже – беда! Но он на удивление быстро справился с ней, расставив в заметно помутившемся сознании всё по местам:
– С Верой ведь – не в первый раз? Не в первый. Так что греха не прибавилось. А Даша… Так я же ей ещё не муж. Вот, когда поженимся… – И он, сладко зевнув, мгновенно уснул мертвецким сном.
6. Венчание.
На следующий день Серж Петрушевский отправился в Заречную церковь к только что обжившемуся там новому священнику. Старый сбежал, боясь, то ли, новой власти, то ли, совсем одичавшего при ней народа. Серж, в счёт откупного, пожертвовал ему на нужды храма свой серебряный портсигар с инкрустацией, последнее, что осталось от родителей, и договорился о венчании на завтра, к вечеру. Поп оказался сговорчивым:
– Не будет родителей, посажённых найдём. Приходите к шести, только не опаздывайте!
Даша даже сестре не проговорилась о предстоящей церемонии. Она ловко смастерила себе фату из оконной тюли, немного приукрасила выпускное гимназическое платье и на ночь накрутила височные прядки на папильотки.
В эту последнюю ночь перед венчанием она проснулась оттого, что за стеной матушка в полный голос читала что-то из Декамерона. Даша отчётливо улавливала отцовские реплики и смешки, скрип рассохшегося кресла, и даже звон чокающихся бокалов.
– Опять пьют?..
И тут она увидала, как мама-Вера, беззвучно распахнув дверь, входит к ней в комнату, и это при том, что голос настоящей мамы продолжает звучать там, за стеной…
Даша, похолодев до озноба, вжалась спиной в постель. От страха она закрыла глаза, но всё равно чувствовала, как мать подошла к ней, зачем-то подержала её за руку своей прохладной, казалось, бесплотной рукой и, отвернувшись, медленно направилась прочь.
Дашу бросило в нестерпимый жар, потом опять в озноб. Несколько погодя она всё же решилась приоткрыть веки.
С совершенно мокрого платья уходящей матери текла вода. Косы её расплелись и тащились по полу. Она беззвучно дошла до противоположной стены и исчезла в ковре, которым лет пять назад завесили наглухо забитую дверь. А голос, читающий Декамерона, всё продолжал бубнить и бубнить, там, в соседней комнате…
Даша вскочила, зажгла свет. Везде – и у двери, и у кровати, и у ковра виднелись мокрые следы, и она с визгом ужаса кинулась к родителям. Спать ей пришлось там же после изрядной порции валерьянки.
…Вечером следующего дня молодые вышли из дома разными путями, он – по парадной лестнице, она – с чёрного хода и, встретившись на выходе из ещё обнажённого, но уже очнувшегося к апрелю парка, почти бегом кинулись к церкви прямо по подтаявшему льду местной речки.
По дороге идти Даша побоялась.
– Вдруг отца встретим?! Пётр Аркадьевич всегда в это время выходил из амбулатории.
Ноги Сержа – в поношенных, но ещё офицерских сапогах, и Дашины – в лёгких замшевых ботиночках довольно глубоко проваливались в уже рыхлый заметно подтаявший лёд, но молодые только посмеивались:
– Провалимся, так вместе! Хоть оправдываться не придётся. И, часто останавливаясь, – всё целовались и целовались.
Уже на том берегу, в цветочной лавке, Серж купил Даше какие-то жёлтые, похожие на золотые шары цветы:
– Других не было…
– Я примет не боюсь. Я сильная! – широко улыбнулась она и, обняв его свободной рукой, поцеловала в свежевыбритую щеку.
Букет в другой – почти коснулся земли.
И тут… Выскочившая из-за угла собачонка с хрустом откусила от него два самых больших цветка и, видимо, радуясь их жёлтому, солнечному цвету, начала потешно жонглировать ими, поочерёдно подбрасывая вверх то правой, то левой лапой. Два её собачьих кавалера, появившиеся следом, восхищённо наблюдали за этой картиной…
– Надо же… – удивился Серж, – оказывается и собачьей свадьбе нужны цветы! – И подарил собачьей невесте третий, самый большой цветок.
В церкви было уже сумрачно. Даша почему-то не смогла переступить порог – ноги отнялись – и Серж внёс её на руках. Несколько свечей справа, у иконы Богоматери, сразу погасли, или их сквозняком задуло?.. Серж зажёг и поставил пару новых. Откуда-то появились знакомые отца по больнице и ещё пара-тройка гимназистов из Машкиной компании.
– Никуда не скроешься… – Потерянно улыбнулась Даша.
Пока шли приготовления, народу набралось уйма. Видимо слух уже прошёл.
– И когда только успели?.. – Заволновался Петрушевский, поминутно оглядываясь на вход.
– Остановят, значит не судьба! – невпопад попыталась успокоить его Даша.
– Что ты говоришь?! Нет же, нет! Я знаю, это – судьба.
– Без родителей не венчать! – Уже довольно сердито возмущался кто-то в передних рядах. – Надо доктора позвать!
– А этот басурман, гляньте на него, старик уже, а – туда же! Ещё друг… – нашему Петру Аркадьевичу.
– Венчать! – В полный голос уже вопила собравшаяся молодёжь. – Теперь – свобода! Что хочешь, то и делай. Долой пережитки!
Когда бедный Пётр Аркадьевич, наконец, понял, о чём уже с пять минут талдычит ему запыхавшаяся с дороги санитарка, он, где стоял, там и сел. Только придя в себя и глотнув валерьянки, он поймал за углом пролётку и, сломя голову, помчался за реку. Но было уже кончено. Молодые, как ему сказали, уже с пол часа как уехали в соседнее село, где, видимо, Серж предусмотрительно снял комнату.
Вернувшись домой, Пётр Аркадьевич, закрывшись в кабинете на ключ, бросился лицом на пол и пролежал так пару часов кряду:
– Никогда не прощу! Никогда! Девочка моя… Даша!
И в эту же ночь, не справившись с подкосившим её известием, Вера Краснопольская, ещё с опаской, в первый раз приложилась к купленному по случаю кокаину…
Она почему-то сильно ослабла, с прошлой ночи, а правая ладонь её заметно сморщилась, будто высохла…
Кто-то из болящих, покричавший под окном, был выгнан незамедлительно, да и других было велено впредь не пускать…
8. Страшное
Будто почувствовав затылком чей-то взгляд, Вера уже в третий раз обернулась на иконку Николая Угодника, принесённую Марфушей ко Дню ангела Машеньки:
– А… Это ты опять?.. Ну, знаю я – грешница! За то и получаю, и ещё получу! И нечего на меня так смотреть…
Отвернувшись к стене, она свернулась на козетке калачиком, уткнув подбородок в колени. Захотелось стать маленькой, несчастной, той, которую просто нельзя не пожалеть:
– Ведь – ледяное же одиночество, да ещё при живом муже!
Всё пишет что-то, пишет… Почитала, – скукота.. Хоть бы пару какую любовную ввёл… Нет сюжета – нет произведения. А он мне:
– Сама жизнь – сюжет!
А ведь и правда. Мой, например, сюжетец уж точно к концу катится… А и где же вы? Где?! Прежде такие лощёные, блестящие обожатели мои, – кавалеры бессменные?..
Гарцуете под Владикавказом или несётесь в лобовую на Дону? С вас станется. Или, не дай Бог, уткнувшись в срезанные шрапнелью кусты или бурые от крови сугробы, уже расшвыряны, разбросаны по ближним и дальним закуткам взбаламученной России матушки?.. Где же вы?..
Обои перед глазами Веры вдруг, зарябив, сдвинулись и потекли в сторону пульсирующей, расширяющейся кинолентой:
– Ну вот…Опять – это! Ведь лет пять уж не было. Это Серж виноват! Всю кровушку из меня выпил… Зря ты это, Сержик… Кровушка-то – чумная! Куда потом повернёт, и сама не знает...
А «фильма» на будуарной стене продолжала разворачиваться по уже обычному в таких случаях сценарию…
Зрачки Веры расширились:
– Пугающие чёрные дымы… Крошечные, бестолково мечущиеся на снегу человечки, стреляющие друг в друга и, будто в детской игре, удирающие от фанерных коробочек танков, с упрямством заводных игрушек наползающих друг на друга.
Вспышка! Ещё одна. Лязг. Скрежет. И воронки, воронки…
И опять – они… – мальчики – и совсем дети, и возмужавшие, убелённые сединами, но всё равно – мальчики: запутавшиеся, обманутые, брошенные нелепым случаем в мешанину безумствующего геройства и одновременно ужаса безвременной смерти, ничем не оправданной, никому не нужной… Такие единственные и неповторимые для своих близких – мальчики! Господи, всё не наиграются никак…
Она заслонила лицо растопыренной пятернёй, но сквозь неё ещё яростнее и брызнуло веерами обезумевших от канонады лошадей. Один из вееров прошёл сквозь Веру и с топотом умчался в противоположную стену. Но тут же совсем близко – уж точно наяву!– она вдруг увидала непомерно огромное трёхцветное полотнище Российского флага, почему-то, будто загнанный зверь, рвущее себя в куски…
А потом… Уже – и не его вовсе! А – тысячи тысяч могилок под крестами православными. И все они, все до единой, обрывками этого полотнища покрыты.
А потом – древко голое… И тишина. Только луна над всем. И спать хочется. Спать… Спать… Хорошо бы до смерти! Только нет. Не заслужила ещё… Вон – опять занялось что-то, будто адское пожарище... Да это лоскуты на могилах вспыхнули! Кумачом заалели… Не от крови ли безвинной, попусту пролитой?..
Ах ты, Господи, и их ветром сорвало! Закрутило, завертело и как склеило, да только уже в красное полотнище красоты небывалой…
И только, было, душа передохнула, обрадовалась хоть малому празднику нечаянному, как, надо же, и это полотнище будто взорвалось на множество уже трёхцветных обрывков...
И опять ими могилки покрыты – великое множество…
– Эти-то – с чего? – удивилась Вера. – Ведь и войны-то никакой не было?..
Точно с ума схожу… Мало тебе, Господи, сумасшедших на Руси, что ли?..
Но и эти лоскуты вдруг поднялись с могил и будто сшились… Глядь, а это опять он – флаг Российский, в точности, как и был, бело-сине-красный! Эк, шелками-то новыми выстреливает!
– Но тогда… Тогда зачем смертей-то – столько?.. Коли всё – к прежнему? Зачем?!
Вконец обессилев, она спрятала голову под подушку. Но дышать стало невмоготу, и она тут же выглянула:
– Никого и ничего… А и было ль?..
Нет… Это не кокаин… Ведь раньше ни его, ни морфина не было, а такое уже случаось, только попроще и темы помельче – о свадьбе, например, чьей-то, болезни или, не дай Бог, смерти… И ведь почти всегда – в точку!
А прицепилось, кажется, после гибели Бореньки и Борюси… Правда, когда Машулей тяжёлая ходила, – отцеплялось. Наверное, кровь чужая, мужнина, карты путала. А потом – так почти каждую неделю!
Ну, на что мне это? Нашли б кого поумней! Да и силы уже не те... Не в петлю же лезть?.. Один уже слазил… Всему семейству – проклятие! Нет, никак нельзя… Никак…
И ведь по всему женскому роду эта хворь, не хворь тянется… Не у каждой, а – так, через одну, две… Мне видно от бабы Фимки досталось. А теперь, скорее всего, Дашка сподобится... Так дайте ей небеса силы нечеловеческой, иначе не сдюжит!
Хватаясь хоть за что-то реальное, Вера с трудом скосила взгляд на Пётра Аркадьевича. Но тот, опять что-то поискав в секретере, нестерпимо скрипя половицами, уже прошагал мимо.
– Куда?.. Ну, куда ты! – Что-то вдруг по-бабьи охнуло в Вере и подалось, потянулось за мужем… – Надо же, как пуповина. Вот так проживёшь пол жизни, и не оторвать уж.
Окликнуть его она не смогла, язык ещё не слушался. Приподнялась, села на постели и ногтями отковырнула плотно пригнанную дверцу тумбочки, на которой уже с месяц напряжённо прощалась с жизнью изрядно высохшая китайская роза.
С нездоровым оживлением Вера вынула початую бутылку
шампанского, вытащила зубами пробку и жадно потянула из горлышка, казалось, саму жизнь:
– Отпустило, и славно… А эти?.. Мальчишки…Не хотят любить, и не надо! Пусть себе воюют, истребляя друг друга, как пауки в банке… Режут кого-то, штопают, пишут всякую ерунду! Пусть… Кто-то ведь останется?.. Должен остаться! По-другому и быть не может! Не должно! Иначе жизнь кончится.
А мы…А я…, и воспоминаниями проживу! Женщины, все, живут прошлым. Нагрешат по-быстрому, и – вспоминать! Вспоминать то ведь – слаще… Никто уж не помешает, ничего не испортит… А в старости это вообще – единственная отдушина. Отвернёшся к стенке, прикроешь глаза, и поехало…
Наконец, почти истаявшая после ещё ночного «причащения» беспричинная радость начала, глоток за глотком, возвращаться к ней. Пожалев подружку по несчастью розу,
Вера вдруг щедро плеснула и ей, прямо под корень:
– Пей, дурашка! Ещё поцветём…
9. Вторая свадьба
В начале июня расписались и Митя с Машей. Та, видимо из солидарности с сестрой, сама разыскала недавно вернувшегося из города Марфушиного внука и без стеснения призналась ему в любви.
– Он бы сам никогда не решился…
Бунтарская кровь Краснопольских, устав ходить по замкнутому кругу, потребовала выхода.
Сильно переболев от первого знаменательного события, Пётр Аркадьевич на удивление быстро оправился от второго:
– Не впервой уже…
Вторая пара новобрачных поселилась у Краснопольских. Наибольшим ударом для Веры было принять в семью Марфушу. Но та понятливо устранилась:
– Не дай Бог, помешать Митеньке! И так не известно, чем ещё это кончится…
Пётр Аркадьевич, чтобы хоть как-то помочь любимице Даше, за месяц с лишним организовал в приютившем беглецов сельце Жданове медпункт и назначил туда врачом эту сволочь, Петрушевского – надо же им что-то есть!
Вот мы и остались вдвоём, Верунчик. Жизнь не остановишь, наперекор ей не пойдёшь. Теперь уже будем внуков ждать. – Приобнял он заметно сникшую Веру, поцеловав её в плечо.
– Не остановишь… – Эхом отозвалась та. – И ведь как быстро всё! Только что – ещё… И вдруг – всё! Кончено.
– Надо бы тебе делом заняться, акушерские курсы, что ли, закончить?..
– Как скажешь… – безразлично кивнула она и незаметно вышла к себе, где долго плакала, сначала навзрыд, с хриплыми выкриками, потом жалобно, еле слышно.
Наконец, достав из тумбочки очередную бутылку шампанского, она, уже в третий раз за вечер, по-мужски приложилась к ней:
– Ничего, ещё посмотрим… – подошла она к зеркалу и, распустив косу, подбоченилась. – Хороша ведь ещё? Хоть и зарёванная, а хороша! То-то же. А он меня – в акушерки! Мужлан! – И, залпом допив последнее, покачиваясь, направилась к выходу…
Работы у нового конюха заметно поубавилось. А старый, Жорка, в связи с конфискацией большинства лошадей давно перебрался со своей французкой на конезавод в Кремёнках. По слухам уж и деток имеют. Хорошо устроился…
А здесь теперь – вскинул на плечо вещмешок Мефодий – Никакого резону нет оставаться! Вчера заявление подал. В яслях только – две чахлые кобылки для больничных нужд да ещё в бывшей коптёрке – Верин скакун погромыхивает. Уберегла таки… Огонь баба…
Когда ворота с жёстким лязгом захлопнулись за вошедшей, Мефодий сразу понял, что ей надо… Он едва устоял на ногах, когда Вера с разбегу запрыгнула на него, и на секунду замер, жадно втягивая ноздрями её дорогой барский дух…
– Всё… Бери!
Только бы попробовал он не взять…
Суматошно анализируя массу непривычных ядрёных запахов, грубоватых словечек и почти звериных подходов, вечно мешающая ей в таких случаях голова Веры, наконец, совершенно отключилась, и её хозяйка неожиданно испытала неимоверный восторг.
– Так вот где была «собака зарыта»… – оторопела она.
А мы-то, холёные да мытые…, всё ходим по тому же кругу, как ослицы водовозные. Нет, чтобы шаг в сторону сделать! Ту самую, куда – спесь не пускает!
Когда всё было кончено, Мефодий, слегка подшлёпнув бывшую хозяйку ниже спины, помог ей подняться. Она не только не возмутилась, а наоборот, вдруг, плотно прижавшись, винтом провернулась у него в руках:
– Чтобы почувствовать чужого – со всех сторон…
Уже во дворе, быстро протрезвев, Вера дала понять ему, что дальше провожать не надо…
Мефодий, было, приотстал, но погодя вполголоса окликнул её.
– В любви что ли будет признаваться?.. – снисходительно усмехнулась Вера
– За такое бы красненькую – в самый раз. На дорожку… – с нагловатой хрипотцой вдруг выдавил тот.
Вера, задохнувшись от ярости, чуть не сбила его с ног. Выхватив арапник, она хлестала и хлестала его по глазам, по рукам, которыми тот пытался закрываться:
– Хам, хам, хам…
Хлестала так, будто хотела стереть с лица Земли заодно и с нынешним своим позором и со всеми последними унижениями, испытанными и от близких, и от всего этого поганого времени.
А более всего в его лице она мстила своей надвигающейся старости и предательски убывающей красоте, которую теперь сколько не подхватывай, всю не соберёшь…
– Ну – зверь, ну, зверь баба… – Попятился конюх и, поскользнувшись на чём-то, падая, угодил спиной в трёхметровую навозную яму, не чищенную уже лет пять.
– Хозяева ещё не определились… – хмыкали дворовые.
Вера по инерции ещё крикнула в темноту:
– Навозу – навозово!
И только тут пришла в себя. С опаской она подошла к краю ямы. Её чуть не стошнило. На поверхности бугристой массы медленно всплывали большие мутные пузыри…
Ухватив за конец лежавшую поодаль жердину, она подтащила её к яме и наполовину погрузила в зловонную жижу:
– Вдруг выберется?..
Но ничто уже не шелохнулось там, внизу…
Потом она, будто в тумане, добралась до дома, не чувствуя ног, почти доползла до своей комнаты – они уже давненько спали с мужем врозь – и принялась яростно отмывать душившие её запахи вины и ненависти:
– Никто его там не найдёт! Никогда. А и был ли он?.. Да и мы все?..
В эту ночь Даша долго глядела на спящего мужа. Её самая заветная мечта сбылась, и желать было уже нечего. От этого было даже как-то не по себе… Теперь ей вдруг показалось, что она уже не любит его так сильно. Что ей только померещилось...
Погасив свет, она покрепче, чтобы отогнать дурные мысли, обняла Сержа и уж было задремала, как кто-то легонько потянул с неё одеяло. Даша, попытавшись удержать его, испугалась и вцепилась в мужа:
– Серёжа! Здесь кто-то есть… Кажется, соседская кошка забралась, лови её!
Невидимая кошка, толкнула её в грудь, перепрыгнула на Сержа. Тот накрыл её одеялом и, нащупав вёрткое горячее тельце, стиснул его пальцами:
– Включай свет! Я держу её…
Приподняв край одеяла, Даша обнаружила, что… напряжённые руки Сержа стискивали пустоту.
– Это мама опять приходила…
– Ты думаешь?
На первом званом ужине Петрушевских Митя поначалу чувствовал себя неловко. Но общительный, лишённый всякого снобизма нрав Сержа и Дашино умение обходить острые углы, быстро растопили возникший поначалу холодок.
– Как ни как – все мы тут – «преступники». Так чего же ссориться? – охлаждая начавших было политические споры мужчин, слегка пристукнула по столу молодая хозяйка.
И без революций тут всяких! Об них – там, за дверью.
– Желательно-с…– поддакнул Серж.
– Тогда о чём же?.. – Митя, протестуя, заметно ёрзал на стуле, успевая однако налегать на закуску.
– Потом разберёмся… – подвинула к нему ревеневые пирожки Маша. – Ешь и добрей потихоньку.
Пётр и Вера, сказавшись в этот вечер больными, конечно же, к Петрушевским не пошли. Чем явно обрадовали обе молодые пары:
– Пусть уж страсти поутихнут…
Вера закрылась у себя. А Пётр Аркадьевич уселся за любимую писанину. «Мужчина и Женщина» давно уже слились в ней с социальными бурями и потрясениями, но от этого рукопись только выигрывала. И втор, чувствуя это, ещё более распалялся. Он теперь писал каждый вечер. Вот и сегодня, обмакнув перо в чернила, Пётр Аркадьевич сразу почувствовал некое облегчение.
– Сейчас! Сейчас… – радостно выдохнул он. И из-под пера его заспешили, нервно цепляясь друг за друга, мелкие кривобокие буковки:
«И здесь, как и во всей молодо и опасно бурлящей стране, всё и вся, пусть и смертельно противоборствуя, всё начало смешиваться, обретая новые, ещё небывалые формы и качества. А этот нелёгкий процесс, требующий почти интимной секретности, конечно же, отторгает любые дилетантские замечания или преждевременные оценки! – Всё более вдохновляясь, строчил он. – Ведь, начавшись сызнова, всё одновременно и продолжается! А значит, хоть убей, опирается на прежние, так яростно отрицаемые им следствия и причинности. Нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Есть жизнь, живая материя, явно наделённая недюжинным сознанием…»
Последнее время это самое сознание просто не давало Петру Аркадьевичу покоя:
«А всё же – какова его сущность? Сущность явно не сущего! И куда оно девается после смерти индивида?.. В матерю уходит, как в материнское лоно?.. Но что тогда, что из них более первично? Материя, его поглощающая, или оно, без которого и понятия-то «материя» не существует?..»
– А ничто не первично! – Вдруг заглянула ему через плечо Вера. Она всегда ходила быстро, почти летая над полом, переносимая какой-то дополнительной энергией, пожалуй схожей с сильным попутным ветром… – Представь себе, что материя это – молоко! А сознание – взбитое из него масло. Вот и всё! Сознание всегда находится в материи, если его не тревожить.
– А ведь ты права, Верочка, у вас, женщин, ума нет, зато есть мудрость, веками накопленная… – от самой природы. Ведьмы вы все! Чего только не ведаете...
– Даже очень может быть… – На этот раз согласилась с ним Вера. – Знаешь, мне сегодня что-то странное приснилось. Будто – ветер… Пламя свечи – дугою, занавеска – парусом…И кто-то стихи читает… Осталось лишь:
– Мир напоследок так красив, что страшен…
А ведь, и правда, – ещё как подчас страшен… И будто зеркальные листы сирени… И бархатные тени у подножий яблонь. И блики на всём… И везде – от самой малой травинки аж до солнца – борьба, страсть, буйство жизни… Столько чудес!
И сама ты – одно из них. И страшно жить, не понимая – откуда это всё и зачем, но ещё страшнее потерять…
Неделя, после рождения у Даши сына-первенца выдалась сухой и знойной. Мальчика назвали Борисом. Но он не прожил после крещения и двух недель. Видимо, перегретого на солнце, его простудили в крестильной ванне. Служка в хлопотах забыл подогреть воду. Уже тяжёлая к этому времени Маша, чтобы хоть как-то поддержать и успокоить сестру, оглаживая свой округлившийся живот, изо всех сил пыталась убедить её:
– Твой мальчик не умер! Его душа перешла ко мне – вот сюда! Я назову его Борисом, и будем растить вместе!
Неисповедимо упрямство рода человеческого, да и самой природы. К счастью Маша разрешилась девочкой, которую нарекли Галиной, что значит тихая. Видно сам Господь решил, что – пора уж…
9. Побег
Это лето оказалось неурожайным на мак. А боли у Веры усилились… И она, устав разыскивать кокаин и выпрашивать опий у больничных, собрав в узелок все семейные драгоценности и столовое серебро, в один из сентябрьских солнечных дней тайно выскользнула с чёрного хода, намереваясь направиться, куда глаза глядят, по пути обменивая всё это на маковую соломку, сохранившуюся у крестьянок ещё с прошлых урожайных лет.
Отшагав первые километров шесть, она устало прилегла под раскидистым деревом и задремала.
И приснилось ей или привиделось – кто знает – что сидит она жарким июльским днём на берегу какой-то реки на пеньке сосновом. Живицей подтаявшей пахнет, кукушка где-то кукует. Кукукнет разок и надолго замолчит, потом опять – так же. А в руках у неё ломоть ржаной лепёшки и краснобокое яблочко – падалка. Плечи печёт. Ноги гудят… А всё равно – блаженное какое-то состояние…
И вдруг видит – с самой крутизны, катится к реке большой трёхцветный мяч – точнёхонько по тропке, никуда не сворачивая. А за ним бежит маленькая девочка в розовом платье.
– Не бежит, прямо – летит! – Как я в детстве… – Подумалось ей. – А теперь, как… – душа моя… Если споткнётся, точно – кубарем покатится.
Вера хотела её придержать, но та уже у самой воды оказалась. Мячик подпрыгнул на деревянных мостках купальни, девочка потянулась за ним, и упала в воду. Почему-то она даже не барахталась, а сразу камнем пошла ко дну.
– Об столб запруды ударилась! – ахнула Вера уже на бегу.
Вода в заводи была тепловатой, болотистой и мутной. Но сквозь её призрачный бурый цвет Вера почему-то ясно видела опутанные колышущимися водорослями столбы купальни и даже проплывающих мимо рыбок. Погружение показалось ей долгим, очень долгим, будто во сне… Неизвестно как, но она дышала там, под водой, потому, что наверх не хотелось, и страха не было. Наконец, она обнаружила девочку, вернее розовый комок её платья, и начала толкать этот комок наверх…
Вот тут-то стало по-настоящему тяжело. И намокшее платье упорно тащило её ко дну, и воздуха стало заметно не хватать.
– Неужели – конец?! – такой долгожданный конец этой бестолковой мучительной жизни, где всё и вся совершенно бессмысленно. Где всё и вся – лишь сладкий, чарующий обман обещанного кем-то счастья, который и понуждает – жить, жить, жить…
Но ведь эта девочка не виновата, что у меня всё так…
Сил уже не хватало. Вера сделала последний, почти невыносимый, рывок наверх и вытолкнула девочку на настил купальни.
То ли ей на секунду показалось, то ли и в самом деле кто-то будто окликнул её оттуда, с самой крутизны берега, где она недавно сидела:
– Вера! Верочка…
– Меня, что ли?.. Да нет, не может быть. Кто меня тут знает?.. Кому я нужна?..
Губы её горько искривились в последней страдальческой улыбке, и она пошла ко дну. Жадно вдохнув ключевой придонной воды, Вера опустилась на прохладный придонный песок и устало прикрыла глаза. Дышать стало совсем легко. Но нестерпимо захотелось пить и ещё, казалось, кто-то с силой подымает, тащит её наверх…
Последнее, что пришло ей в голову, показалось ещё значимым:
– Я не сама, Господи! Слышишь? Не сама! Да и Мефодий… Одну жизнь взяла, другую вернула!
И тут же почувствовала, что и сейчас, на краю могилы, она будто торгуясь с Господом, опять видимо лжёт, как и все последние годы, и ему, и себе, да и тому новому, что видимо уже – и не она теперь…
– Боже… Прости меня!
И в этот миг что-то почти неощутимое, хлестнув её по губам, промчалось мимо лёгким золотистым сполохом…
И тут она проснулась… Тюлевая занавеска светло трепыхалась в окне. На подоконнике пестрели разноцветные герани.
– Где это я?.. На том свете?! – приподняла она голову.
– А… Очнулись наконец? Я уж над вами колдовал, колдовал, думал и не вытащу. Мы вас с дочкой на берегу нашли, без сознания. До сих пор не могу понять – это солнечный удар или отравление?..
– Мужчина… Мужчина с девочкой?... – опять откинулась она на подушку.
– Да вы ещё бредите…
– Уже нет.
Мужчина выглядел вполне сносно. Лёгкие залысины. Большие умные глаза за роговыми очками.
– А знаете, вы меня просто поразили! Такая красавица, и одна… Я на вас весь день смотрел и всё гадал – кто вы, откуда?.. А Верочка, дочка моя, решила, что вы заколдованная королева, которая не знает, откуда ушла…
– И зачем пришла… – слабо усмехнулась Вера.
– До Сержа ему, как до небушка, – невольно отметила она, – да и до Петруши… Зачуханный какой-то, скорее всего вдовец.
– Верочкина мама родами умерла, – горестно сложил он на груди руки, – так что мы тут вдвоём хозяйничаем. Правда, санитарки больничные помогают... Да вы не смущайтесь. Там на столе хлеб, молоко. В корзине – яблоки. А у меня, простите, лошадь больничная околевает, одна ведь она у нас… Позже увидимся…
Когда он вышел, Вера залпом выпила пол крынки молока и, придерживаясь за стену, вышла на солнышко. Миновав длинный, увитый подсохшим плющом забор, свернула за угол. Там, во дворе, у полу развалившегося сарайчика, часто подёргивая копытами, отходила вполне приличная пегая кобылка, а новый знакомый, смущённо потирая ухо, явно не представлял что делать. Вера подошла ближе:
– У неё воспаление лёгких, лечите, как человека, только дозы пересчитайте на лошадиный вес.
Доктор поднял на неё удивлённый взгляд и с минуту помолчв, вдруг выпалил:
– А знаете, я вас, наверное, уже люблю!
– Да уж конечно… – Опустила она глаза. – Только поздно. Ничего больше не хочу. Сил нет…
Пока доктор давал распоряжения на конюшне, Вера, вернувшись в дом, положила в котомку краюху хлеба и пару яблок.
Переночевала она уже на речном берегу, на тёплом песке. Проснулась поздно. Сходила к воде, умылась, разложила на пеньке нехитрую снедь, и вдруг слышит:
– Вера! Верочка…
И мяч с крутизны катится, и девочка за ним бежит, та самая…
Свидетельство о публикации №112052807334
Яркий, мудрый.
Благодарю!!!
Прочла с огромным удовольствием...
Фелиссия 07.10.2018 14:00 • Заявить о нарушении
