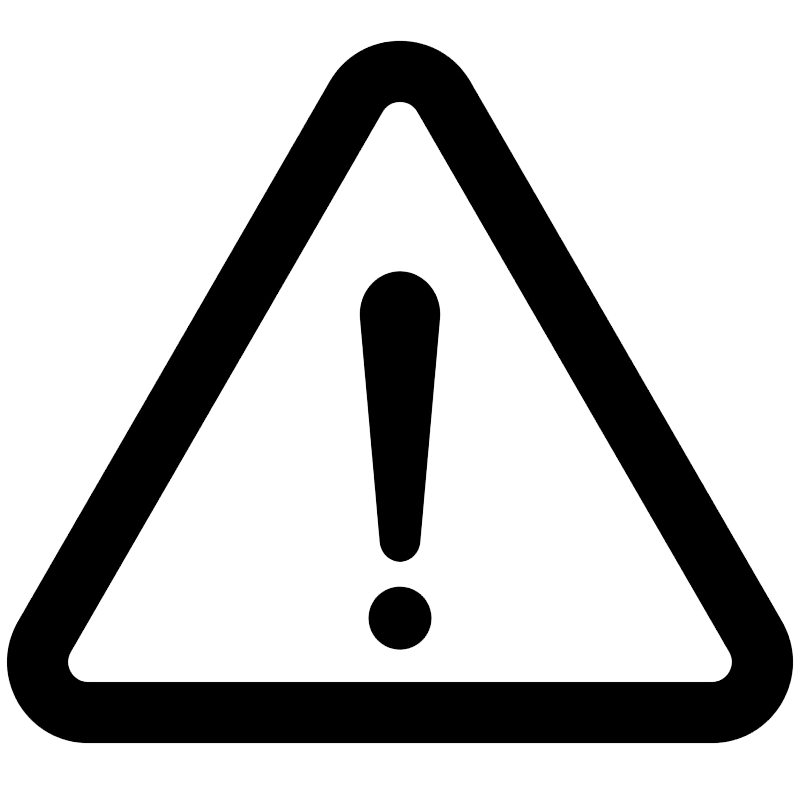
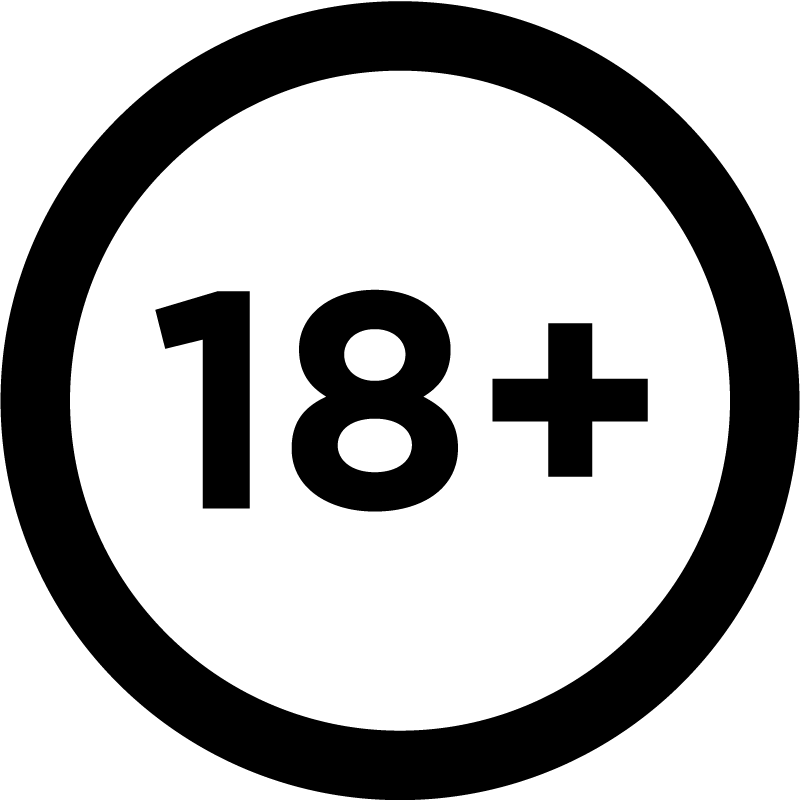 Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Поцелуй персефоны. ч3
«Это масонское перетекание из одной эпохи в другую…»
«Завтра», №47, ноябрь, 2005 г., Александр Проханов
Глава 19. Абордаж
«— Откуда берутся эти истории?
— Из наших воспоминаний, — ответил Сирс. — Или, если хочешь, из нашего фрейдистского бессознательного…»
«История с привидениями», Питер Страуб
Я возвращался в секретариат, чтобы свалить Боре Сухоусову продукцию литературной группы ВОЛКИ. Рядом с компьютером на столе у Бори стоял собранный им фрегат с маленьким роджером с вполне различимым белым скалящимся в ухмылке черепом и перекрещенными костями на чёрном лоскутке полотна. Флинт сочинял пиратский роман в духе Стивенсона под названием «Абордаж»;, был, что называется в теме, но, скромно пряча своё творение на украшенном пейзажами островов и фотографиями бригантин сайте Интернета, старался не светиться. Знал: приносящие славу и сопряженные с харизмой словесные художества Анчоусов мог позволить только Шуре. Обычно, когда я заходил в секретариат, Флинт закрывал файл со своим романом, но тут он забылся — и, бросив на экран беглый взгляд, я засёк www.pirat@ru. «Бушприт затрещал и кливер повалился, зависая на вантах… Кривой Громила выхватил саблю и воткнул её в живот подвернувшегося под руку матроса-увальня», — прочёл я первые строчки и, захватив меня за этим подглядыванием, Флинт тут же скормил мышке кнопочку с крестиком. Отодвинув модельку парусника, он пробурчал:
— Ну и где твоя заметка с пресс-конференции?
— Вот! — протянул я ему индульгенцию, свидетельствующую о том, что я битый час боролся со сном под прицелом кинокамер.
— Ну и чудно. Ну а что-нибудь из «картинок» вот сюда — на последнюю полосу, в подвал или в верхний угол, есть? А то на развороте у нас роман ужасов Александра Дымова, а на остальных полосах надо бы подбросить чего-нибудь теплого, душевного и без инопланетян, — метнул он в меня взгляд-болид, напоминая и о жертвенном камне-алатыре и о спроваженной в корзину заметке, где в серую реальность я внедрил переливчато-разноцветных пришельцев.
— Будет! — буркнул я, решив, что пора изложить идиллическую историю про гитариста и цветочницу. То, что они мне представлялись недовоплощёнными посланцами зависшего на орбите материнского облака, можно было и опустить. Заданий было навалено под завязку, но, кроме того, мне нужно было разобраться с одной из сюжетных линий «Монстров подземелья». Воспользовавшись тем, что Киска, Княгиня, Курочка и Серёга отправились в курилку, я открыл заветный файл.
«Единственное, что удалось взять с собой в этот побег разжалованному кавалергарду измайловского полка Петру Елгину, — это сундучок с книжками и некоторыми магическими приборами, из-за которых и угодил он в Сибирь. Да, собственно, и назвать-то это побегом было мудрено. Скорее, это было второе рождение, воскресение из мёртвых. А дело сладилось так, что повсюду следовавшая за Петром Антоновичем Софьюшка уговорила коменданта Бийского острога за десяток золотых червонцев отпустить арестанта с Богом. План ее состоял в том, чтобы заменить мертвого двойника на мужа, воспользовавшись для подлога случившейся с Елгиным на этапе простудой. Пока лежал Елгин в горячке, все это и спроворили. Вынули из гроба умершего от волчьего укуса солдата, удивлявшего всех своей похожестью на опального графа, и уложили в домовину сиятельство. В просвете между беспамятствами Елгин согласился на подлог, толком не соображая, наяву ли это с ним происходит или в бреду. Когда, лёжа в гробу, Пётр услышал, как отворились, скрипя на петлях, ворота острога и его вывезли на посвистывающих полозьями санях, он понял — свершилось. Теперь самым главным было, чтобы его не похоронили заживо. Но, вдыхая смоляной запах свежевыструганных досок, Елгин был спокоен: он знал, что графиня Софьюшка не даст закопать его. Заколачивавший крышку гробовщик, недоумевая, положил по просьбе коменданта в домовину к обросшему бородой и волосами высохшему старцу сундучок. Не знал, бедолага, что в том сундучке. Как не ведал, что вгоняет гвозди в крышку, надвинутую над двадцативосьмилетним живым графом.
Когда гроб закачался, заскрежетали верёвки и Елгин ощутил, как его опускают вниз, он всё ещё ждал: вот, сейчас! Когда же почувствовал, как домовину вставляют в нишу и сверху, шурша, сыплется земля, — забеспокоился, но не подал звука, как и договаривались. Но стоило стихнуть голосам наверху, как послышался шум. В боковую доску гроба со стороны стенки ниши ударила лопата, и Елгин почувствовал, что его утягивает в сторону от засыпанной могилы. «Может быть, я уплываю по водам Ахерона? И в конце пути меня ждут Аид и Персефона?» — подумал граф. Ребёнком он слышал от своего гувернёра Ганса Шребера легенду о том, как царица загробного мира поцеловала спустившегося в подземелье поэта-арфиста — и он обрёл способность слышать то, чего не слышат остальные, видеть сквозь предметы и прорицать. За всё это он заплатил тем, что стал живым покойником. Ганс Шребер говорил, что в одной из рукописей, приписываемых Тациту, ему доводилось натыкаться на упоминание об этой утраченной поэме, которую приписывали самому гениальному слепцу. Наслушавшись бредней романтичного немца, юный Петя Елгин даже сочинил поэму «Поцелуй Персефоны», где были строки: «Юный арфист прикоснулся к ланитогранитной губами, дабы испить с её уст роковой неминуемый холод…» Позже поэма затерялась — и Елгин забыл про неё, пока однажды она не вернулась к нему в качестве улики после того, как на чердаке имения произошел ужасный случай с расчленённой детьми дворовых девочкой.
Прибывший на место происшествия урядник Леонтий Дыбов грешил на масонские склонности хозяина имения. Когда же, допросив одного знавшего грамоте мальчишку, дознаватель выяснил, что прежде чем совершить жертвоприношение прибитому к стропилам черепу козла, дети слушали строки из рукописной поэмы, воспевающей смерть, версия прорисавалась столь же отчетливо, как и тот же самый античный сюжет на фронтоне графской усадьбы. Тень обвинения пала на Петра Елгина. Он был вызван нарочным из Петербурга, ему были предъявлены найденные на дне замшелого колодца останки несчастной девочки. Бормочущая что-то бессвязное косматая старуха-ключница и пожелтевшая, обгрызенная с угла крысою тетрадь с поэмою стали и свидетельством, и доказательством, и неопровержимой уликой. Дело поправили фамильные драгоценности. Получив взятку, урядник Дыбов состряпал версию с суевериями, несчастным случаем, заснувшей на сеновале девочкой, которую съели крысы и кости коей конюх сбросил в колодец со скрипучим воротом. Но, не удовлетворившись сим, Пётр Елгин сам взялся за расследование странного происшествия.
Он и прежде примечал странности за дворовыми из большой семьи Кусковых. Какие-то они были чересчур волосатые. Ногти на руках у них походили на когти (граф даже подарил им ножницы для стрижки овец, чтобы стригли почаще), а при улыбке (улыбались Кусковы очень редко) во рту у них обнажались острые клыки. Наблюдая за странными дворовыми, Пётр прятался в ветвях дуба под окнами людской и однажды был вознагражден за терпение. В имение и прежде захаживали богомольцы-странники. Неподалеку от именя, на холме над речкой бороздила колоколенкой облака красавица церковка, в которой хранились чудотворные мощи некогда жившего в этих краях печерника-старца, но с некоторых пор Пётр обнаружил, что, приходя, богомольцы куда-то исчезают. И вот, засев в ветвях дуба, Петруша увидел нечто, потрясшее его своим мрачным изуверством.
В щёлку между занавесками, в неверном огне плошки он явственно мог наблюдать, как пятеро братьев Кусковых втащили на стол раздетого бродягу и начали его разделывать на куски тесаком. Наутро, изложив на бумаге детали трупопоедания в подробностях, Петруша вскочил на коня и отвёз записи уряднику. Дело закрутилось. Обнаружилось, что людоеды из дворни регулярно подкреплялись человечиной, остатки сатанинского пиршества сбрасывали в старый колодец, порывшись на дне которого урядник и полицейские нашли залежи костей. Предназначение разветвляющихся от колодца нор осталось невыясненным. И хотя деревенские говорили, что норы ведут к некоторым могилам на кладбище и что лунными ночами под буграми тех могил слышатся сопение, чавканье и визг, это опять-таки списали на местные суеверия. Закованных в кандалы братьев Кусковых вместе с детьми и жёнами усадили на телеги и спровадили в Сибирь. А вскоре за ними последовал туда же и сам граф.
Елгин не знал, сколько он пролежал в тесном гробу, но, подобно снившемуся ему ночами колодезному вороту, заскрипели выдёргиваемые гвозди — и вот уже он находился в просторном подземелье в окружении освещённых огнем лучин бородатых лиц, совершенно не похожих на тени потустороннего мира эллинов.
Проследовав по лабиринту за своими проводниками, Елгин вышел из подземелья в посконной рубахе с одним сундучком в руках. Ни жив, ни мёртв. Поддерживаемый под локти, он упал в медвежью полсть саней, где, трепеща и обливаясь слезами, ждала его Софьюшка. Как бывало на Фонтанке, кони рванули — и, целуя ледяные персты жены, Пётр Антонович ощущал всем своим существом: не чуя под собою копыт, залётные мчали их уже по Шуйскому тракту. Вначале думали бежать в Китай, но, не доехав, застряли в Змеиногорске. Елгин помнил только, как поп из беглых раскольников осенил их двоеперстием перед почерневшей иконой Богородицы в деревянной церквушке на окраине и сказал:
— Отныне вы принадлежите к тайному братству скрытников!
Ложился Елгин в гроб русоволосым. Вышел из гроба седым, как лунь.
И зажили они с Софьей, таясь от служилых людей, на краю деревни, тратя понемногу остатки из фамильных драгоценностей, почти полностью израсходованных на взятки острожному начальству от Тобольска до Бийска. Ничего лишнего не позволяли себе супруги Елгины. Сруб из сосновых брёвен. Крестьянская одежда. Икона в углу. Как чудесный сон вспоминали Пётр и Софья балы, её декольтированные платья, его шитый золотом камзол, шпагу на боку, ленту со звездой. Впрочем, их-то Софья сберегла и увезла, следуя за суженым на каторгу. И хотя, лишая его всех званий и заслуг, сам Потёмкин сломал ту шпагу над его головой, бывало, Елгин вынимал обломок из ножен, чтобы вспомнить, как участвовал в возведении «матушки-императрицы» на престол, да и то, как приносил масонскую клятву — тоже.
Петру Елгину так и непонятно было — за что осерчала на братьев-иллюминатов матушка Екатерина. Неужели за мистические книжки, несколько экземпляров которых, спасённых от огня, он сумел сохранить благодаря невежеству тюремщиков? Из-за египетской премудрости? Одни из братьев-каменщиков говорили между собою, что зловредная баба упекла Новикова в Шлиссельбургскую крепость и прошлась калёным железом по масонским ложам из-за того, что свою принадлежность к вольным каменщикам обнаружил пытавшийся освободить Иоанна Антоновича поручик Мирович. Другие — что её рассердил скандал с подменой младенца графом Калиостро. Третьи даже связывали опыты Месмера по магнетизму и оживлению покойников с бесчисленными двойниками Петра III, среди которых Пугачёв был чем-то вроде обрушившейся на империю кометы. Да и масоны тоже баловались магнетизмом. К тому же Елгин ещё и отчеством совпадал с заточенным в темницу, год от года теряющим человеческий облик отпрыском монаршего рода. Совпадение казалось впечатлительному графу знаменательным.
Как бы там ни было, но Елгин открыл свой сундучок, вынул из него уцелевшие масонские книжки, подаренный ему самим Калиостро магический кристалл, оказавшийся обычным гранёным куском стекла, флакончик с «витатониумом», тетрадь в сафьяновом переплёте с записями некоторых опытов, кюветки, колбы, трубки — и возобновил алхимические бдения. Правда, кое-что из стеклянной утвари не уцелело, превратясь во время тряски на ухабах в осколки, но он заменил изящные реторты неказистыми горшками — и остался тем доволен. Особенно пошли у Елгина дела на лад с тех пор, как в Змеиногорске появился старина Ганс Шребер. Софья писала ему, отсылая письма с агентами скрытников, роющих норы в земле, прячущихся в скитах от Олонецких лесов до прибайкальской тайги. Местная фауна, флора и фольклорные предания давали хороший материал для работы над созданием эликсира бессмертия, который Елгин с Шребером и назвали «витатониумом». Да и легенды про пронзающие землю подземные норы и живущего в них змея «о семи рогах» заинтересовали графа. Что касается изъятых при аресте деталей прободателя времени, изготовленных из бивня мамонта (почему-то они особенно заинтересовали матушку-императрицу и Екатерину Дашкову!), то восполнить эту потерю было довольно просто. Во время первой же прогулки по берегу Бии естествоиспытатели наткнулись на залежи мамонтовой кости.
В тот вечер Шребер и Елгин ставили опыты по прободанию времени. Луч свечи должен был войти в кристалл и, отразившись в зеркале, открыть временной коридор.
Направив световой пучок на сколоченные из сосновых плах двери, Елгин и Шребер ждали. Елгин развернул запрещённую книжку и начал читать заклинания. Шребер направлял луч. Как только Пётр дочитал заклятие, двери задрожали, скрипнули петли — и взорам алхимиков предстал низкорослый старец.
— Хватит баловством заниматься, пора стражу стоять! — сказал он, отряхивая от снега пимы. — В Змеином ущелье неладное творится. Вчера возле упавшего с неба камня шаман Чарадык камлал, вызывал духов, и дочь его Ача пророчествовала. Говорила: змей пробудился…
— И в чём же будет заключаться наша стража? — спросил Шребер старика, продолжая направлять на него луч. — С каким оружием против Змея можно воевать?
— А вот с этим! — протянул карлик вынутый из-за кушака Псалтирь. — Вот вам и щит, и меч Христовы…
И Псалтирь упал в протянутую руку Петра Елгина, а дед истаял, обратясь в зыбкое серебристое облако…»
Напрасно я, конечно, взялся писать про Петра Елгина. Тем самым я рисковал нарушить Кодекс Наблюдателей, а это могло повлечь за собой большие для меня неприятности. Известно, чем кончил светолепт Моцарт, написав «Волшебную флейту», в которой он разгласил тайны Наблюдателей. К нему явился Чёрный Человек (это был Наблюдатель-фискал) — нажатие кнопочки на замаскированном под табакерку пульте — и сущность вундеркинда-баловня судьбы была отправлена на планету Гелению. Что касается умиравшего в постели остатка прежнего великолепия, якобы написавшего «Реквием», то это существо уже не было светолептом. «Реквием» был надиктован Линзой в качестве назидания всем нарушителям, а то, что отвезли на кладбище в гробу, уже лежа в земле, преобразовалось в заурядного дринага, со временем влившегося в блуждающие по подземным туннелям массы недовоплощенцев. Вообще-то я не собирался вставлять этот файл ни в одну из начатых для моих заказчиков рукописей. Я не хотел даже, чтобы Галина знала о том, что я принадлежу к сообществу хроно-номадов — посланцев Орбитальной Линзы. При здравом разумении я должен был удалить этот файл. Но я этого не сделал. Почему? Не знаю. Как только я попробовал это сделать, грозный голос произнес: «Не смей!»- и на компьютерном мониторе появились – вначале монах в капюшоне с горящей свечкой, затем Джузеппе Бальзамо с кристаллом на ладони и наконец материализовавшийся в кибер-сетях придуманный мной ученый –колдун Селенин.
Я знал, что такое автоматическое письмо, при котором пишущий является лишь проводником какой-то сторонней диктующей силы. Отдавшись однажды во власть этой силы, невозможно освободиться. Такова-то хвалёная свобода творчества! Какой-нибудь возложивший руку на череп шамана учёный-чернокнижник Константин Селенин (вполне возможно, он и компьютерщик Коля Осинин были одним лицом!) делает усилие воли — и ты, как заводная кукла, начинаешь колотить по клавиатуре пальцами! Как хотели бы такой силой обладать Анчоусов и Дунькин, но — увы! Поставив точку, я заглянул в электронную почту. Там уже было кое-что от моих собратьев по литературном цеху. И я решил подзаняться фрагментом для нового Галининого романа.
«С тех пор, как манекенщица из модельного дома «Красота» и солистка шоу-балета «Морозные узоры» Юлия Хлудова побывала в Каире, с ней стали происходить странные вещи. Ну чем можно было удивить её, в десять лет ставшую «Мисс Крошечкой», в шестнадцать — «Мисс Сибири», в восемнадцать снявшуюся для обложки местного толстоглянцевого издания в шубке на голое тело! Она трогала выщербленные руины Афин, ступала по арене римского Колизея, поднималась по ступеням ацтекских пирамид. Она испытала кровавый экстаз испанской корриды и завораживающий покой японского чаепития на террасе над садиком с карликовыми кедрами и розовоспинными рыбами, плещущимися в прозрачном прудике. Она впадала в транс под заунывное бормотание тибетских лам и танцевала на карнавале цветов в Монако. Из тряпок она в своих поездках, на финансирование которых всегда находились богатые меценаты, ничего не покупала. Зато сувениры тащила сумками. Из Токио — маски театра кабуки, из Мехико — индейские головные уборы из перьев, из Пекина — Будд. Вот и из Египта она понавезла нефритовых скарабеев и картинок на папирусе. Боги с головами птиц, рыб и животных, фараоны в испещрённых иероглифами саркофагах украшали стены её спаленки, медитирующий Гаутама держал под прицелом своих всевидящих глаз обширное ложе, на котором она ощущала себя то жрицей, то львицей.
Выходя на подиум, Юлия любила надеть на шею нефритовый амулет. А на последнем показе осенней коллекции произвела фурор тем, что явилась перед публикой в маске театра Кабуки, изображающей Ужас. Владелец игорного дома Прыгунов, коммерсанты Уткин, Зайцев и Лосев, как всегда, располагались на своих местах и аплодировали, не жалея ладоней.
И вот Юлия сидела перед зеркалом в примерочной, не обращая внимания на галдёж подруг-манекенщиц, обсуждающих подробности сегодняшнего выступления. Юля была озадачена. Раздавив сигарету в пепельнице, изображающей Сфинкса, и бросив взгляд на букет роз, лежащий поверх газеты с броским заголовком «Серия заказных убийств», Хлудова резко поднялась и, быстро сбежав вниз по лестнице, села в машину. Вставив ключ в скважину замка зажигания своего «Фольксвагена-жука», она с задумчивостью потрогала свисающего с шеи на шнурке нефритового скарабея. Задуматься было над чем. Вот уже который день с пахнущими могильной сыростью букетами цветов за ней охотились Прыгунов, Уткин, Зайцев, Лосев и банкир Семён Дубов. Поначалу она не могла понять, откуда этот запах. И вот, купив вчера в ларьке подземки газету «Городские слухи», она обнаружила фотографии своих ежевечерних кавалеров в этой самой жуткой статье Николая Кругова. Все четверо воздыхателей, вот уже который вечер являвшихся к ней на показ моделей с необъятными охапками цветов, были запечатлены на снимках — кто с простреленным лбом, кто с дыркой в другой жизненно важной части тела. Они были стопроцентными покойниками — и Юлии следовало подумать, что делать с этими норовящими всучить букетик кавалерами? Может быть, она и дальше бы не обращала внимания на столь представительную публику (мало ли за ней волочилось сходящих с ума мужчин!), но с тех пор, как один из них вместо букета явился на показ моделей с венком, увитым траурной летной, ей стало не по себе. И как она не догадалась раньше, что происходящие с ней странности — нечто большее, чем результат переутомления?! Если бы она тогда ещё спохватилась, не было бы этой ночи, которую она приняла сначала за кошмарный сон.
В тот день она оставила своего похожего на нефритового скарабея «Фольксвагена-жука» в гараже, и один из фанатов-поклонников подвёз её до дома. Получилось так, что он зашёл к ней на чашечку кофе, но размеренный разговор за столом вдруг перетёк в бурную сцену в постели. И тут ей показалось, что это медный принц Шакьямуни сжимает её в своих объятиях. Да. Партнёр этой ночи оказался способен менять облик. То он взирал на неё ястребиными глазами человеко-птицы, то скалился шакальей пастью. Но тем сильнее был экстаз, разрядившийся чудовищным оргазмом. Достигнув вершины наслаждения, Вера обнаружила, что над ней зависает скелет в треуголе. Каналья даже не удосужился скинуть с себя ошмётья камзола. На боку охальника болталась шпага. Но тем усиленнее похотливая тварь брякала костями и лязгала лезвием о ножны. Проснувшись той ночью, она убедилась, что это только сон, психическая трансформация прочитанной в газете заметки про отысканный во время строительства метро гроб с останками сосланного в Сибирь иллюмината. Но теперь ей стало понятно — то был не просто сон.
Вот и сейчас, выехав на проспект, Юля увидела в зеркальце заднего вида, как четыре иномарки проследовали за ней. Самое главное — Хлудова могла убедиться — этих самых её поклонников никто не видит. Зримо они существуют только для неё. С точки зрения психиатрии они были химерами её подсознания, если же судить с религиозных позиций… Заняться психокоррекцией, обратиться к экстрасенсше? Нет, это могло повредить её репутации. Самым отвратительным было то, что ей мерещилось, будто бы она лежит в гробу на кладбище, и каждую ночь её насилуют и рвут на части трупы из других могил. Юлия бы не решилась на крайнюю меру, если бы эти невидимки так не докучали ей. Они появлялись в примерочной в самые неподходящие моменты, и увидь их другие — визгу бы было! А так, наглея, они ходили среди девушек, внимательно разглядывая их, прижимаясь и даже пытаясь манипулировать своими бесплотными гениталиями.
С утра Юлия заехала в храм, купила образок, попросила священника освятить закрытую полиэтиленовой крышечкой баночку с водой, набранной из-под крана.
Направляя «Фольксвагена-жука» в сторону Заельцовского кладбища, Хлудова корила сама себя. Поменьше надо было, говорила она себе, бродить по усыпальницам фараонов, взбираться на ацтекские пирамиды, посещать языческие капища древних греков и современных индусов. Теперь-то она поняла, до чего доводят неумеренные скупки хлама из сувенирных лавок! На заднем сиденье она свалила всю эту дребедень, включая маску театра кабуки, изображающую Ужас.
Свет фар выхватил ряд новеньких надгробий. Её поклонники-преследователи поотстали. Собственно, она уже проверяла — эти потусторонние существа материализовали вокруг себя иномарки только в черте города, чтобы восседать в них, будто они живые. За городом же они могли превратиться в светящиеся сгустки полтергейста, слепившихся из фосфорического света волков, хоботообразных уродцев с рожками или крылоруких гадин.
Заглушив мотор и отворив дверцу машины, Юлия принялась сваливать сувениры в кучу. Потом вынула из багажника канистру с бензином и облила этот внушительный курганчик. Сняв с шеи нефритового скарабея, она бросила туда же и его. Достав из пачки сигарету, Вера прикурила от зажигалки и швырнула миниатюрный факел в бесформенную груду, на фоне которой белела удивленно распахнувшая пустые, лишенные зрачков глаза и разинувшая беззубый рот маска театра кабуки. Пыхнуло пламенем — и тут же над костром заметались светящиеся сущности. Юлия достала образок и банку со святой водой. Она где-то слышала, что в выходящих из могил оживающих покойников вколачивают осиновые колы. Но она не ставила перед собою задачи уничтожить неупокоенных духов. Она хотела лишь отвадить их от себя. Недаром она расспрашивала молоденького попика, каким образом справиться с такой напастью, как полтергейст? И вот, зажав в одной руке образок, Юлия начала читать молитву и прыскать на гранитные надгробья. Догорал костёр. И в его трепещущем пламени Хлудова увидела, как опрозрачнивает земля — и вслед за просачивающейся влагой со скрежетом зубов и урчанием уходят сквозь плавящиеся крышки гробов блуждающие огни. Совсем мало осталось в баночке святой водички. Но Юлия хотела использовать всё до капли, сделала неверный шаг и, споткнувшись о неровность земли, опрокинула содержимое склянки на себя. С изумлением увидела она, как истаивают до костей её намокшие пальцы, как, шипя и пузырясь, рассыпаются они прахом, как рушится левая нога, подламывается правая…»
На этом можно было бы и закончить труды праведные, но на мигнувшем экране появилась физиономия начальника компьютерщиков Николая Осинина. Ухмыляющиеся синеватые губы разлепились и механически произнесли: «Ищи — и обрящешь». Как и в прошлый раз, на харе проступили борода и брови чернокнижника Константина Селенина, в чью реальность я верил всё больше и больше, потом на голове компьютерного духа образовался капюшон, быстро преобразовавшийся в треугол, изображение уменьшилось — и вертлявая фигура в камзоле с кружевами на воротнике и обшлагах удалилась, обратившись в точку. Мною кто-то манипулировал через компьютерную сеть. Вполне возможно, этот «кто-то» — ускользнувший от гнева Анчоусова компьютерщик Осинин. Казалось, послушные чужой воле, мои руки, с моцартианской ловкостью пробежавшись по кнопкам, наколотили на клавиатуре незнакомый мне электронный адрес. Открылся какой-то сайт. Рассказ назывался «Смерть банкира». Из экрана высунулась та же способная к смене обличий рожа и произнесла: «Читай!» И мои глаза заскользили по строчкам с удесятеренной скоростью.
«Странные истории хранила родовая память Семёна Дубова. Он даже не знал — то ли он слышал их в детстве, то ли это были смутные воспоминания иных воплощений (а посетив однажды собрание каких-то духовидцев и оставив там в качестве пожертвования несколько тысяч баксов, он уверовал в то, что так оно и есть: душа-скиталица блуждает неупокоенным огоньком из тела в тело). Он, может быть, ещё и усомнился бы в том, что это действительно так, всё-таки он получил образование в электротехническом вузе и знал, почем фунт закона Ома, но величина пожертвования оказалась вполне достаточной, чтобы уверовать окончательно. Семёну Константиновичу Дубову захотелось наконец разобраться — каковы же его родовые корни? Тем более что, пребывая в должности президента ДБ-банка, он претендовал на избранность. Проходя через операционный зал в сопровождении телохранителя Сергея Тиброва, поднимаясь в лифте в свой кабинет, проводя оперативные совещания, отслеживая скачки курса доллара или выходя к бушующим у входа обманутым вкладчикам, он ощущал: всё это с ним уже когда- то было. И длинные анфилады залов и кабинетов, и заискивающие жесты заглядывающих в глаза подчинённых (царедворцев), и разъярённая толпа, из которой торчал, как чучело Масленицы, бородатый народоволец в очках, шляпе и несуразном плаще.
Семёну Дубову непонятно было, почему ему всегда мерещится дуб, по ветвям которого он лезет, чтобы заглянуть в окно. Почему неотвязно снится один и тот же сон? Будто бы, сидя в кроне того дуба, он видит в щёлку между шторками на подсвеченном изнутри светом жировика подслеповатом окне, как пятеро полуволков-полулюдей терзают синюшный труп. Он пробовал списать это на влияние голливудской жути: для того, чтобы отключиться от каждодневной суматохи с вкладами граждан, векселями и ценными бумагами, Дубов любил посмотреть что-нибудь мистическое. Он коллекционировал триллеры, по многу раз просматривая и старые, и новые версии «Дракулы», «Франкенштейна» и даже воображая себя в своем ДБ-банке этаким трансильванским кровососом, а своих референток Соню и Катю прекрасными девушками-вамп. Но в конце концов давно живущий отдельно от жены Клавдии и изредка встречающийся с повзрослевшим сыном Володей Семён Константинович понял: сны про дуб под окном и кровавую оргию полулюдей — что-то, более глубоко засевшее в подсознании. Он обратился к экстрасенсше Изабелле Ненидзе, принявшей его, несмотря на жару, в бобровой шубке (так она разогревала чакры). Возложив руку на голову Дубова, Изабелла вскрикнула:
— Вижу: в прежних жизнях вы были не Дубовым, а Дыбовым! В этом направлении вам и следует начать поиск…
В тот вечер он купил у Ненидзе за 100 тысяч баксов «кристалл Калиостро», который, как обещала Изабелла, гарантирует банкиру вечное богатство и связь с прежними воплощениями.
Утро началось с того, что митингующие вкладчики прихлынули к входу в банк. Для того чтобы Дубову пройти в офис, охрана оттесняла толпу металлическими щитами. Неслись возгласы: «Вор!», «Мошенник!» Кто-то кинул снежком, но промазал. Потом Дубов стоял у окна кабинета и смотрел, как вожак пикетчиков обливает из канистры чучело с табличкой на шее, на которой крупными буквами было написано: «ВОР ДУБОВ» и, поднеся зажигалку к сварганенной из тряпок кукле, поглядывает в окно, где маячит силуэт банкира. Вожак пикетчиков приставлял руку к груди куклы — и в тот момент, когда блеснул огонёк, толпа взорвалась ликующим рёвом. Болван вспыхивал факелом — и начинал корчатся на воткнутом в сугроб шесте. В очках поджигателя образовывалось по маленькому костру, отчего Семёну Константиновичу вдруг становилось нехорошо, и он отходил от окна, чтобы не видеть этого полыхающего в чёрных глазницах пламени.
Нужно было успокоиться, и, войдя в лифт, Семён Константинович спустился в депозитарий, чтобы, вставив ключик в ящичек, убедиться: кристалл на месте! Камень был целёхонек, правда, забился в угол под купленным Дубовым недавно любопытным документом, и прежде чем вынуть камушек, чтобы полюбоваться игрой света на гранях, банкир, развернул жёлтые листы с витиеватым почерком и стал читать: «Урядник Леонтий Дыбов, докладывая по сыскному ведомству, имеет сообщить. Как только Петруша Елгин слез с дерева, я, приставленный за ним наблюдать, тут же, не мешкая, и залез следом. Картина, открывшаяся мне в щёлку между шторками, заледенила кровь в жилах. Пятеро полуволков-получеловеков терзали путника, которого намедни я видел в церкви, где нашим осведомителем был звонарь Милентий Кондаков. От него-то я впервые и узнал, что барин балует с алхимическими приборами и чернокнижествует. Пока я сидел на дубе, наблюдая за жуткой трапезой, зазвонили вечерню — и, заслышав звон, оборотни прекратили своё пиршество. Оглядевшись, один из каннибаллов потянул за кольцо в полу, открылся подпол — и, ухватив каждый по куску растерзанного трупа (кто — голову, кто — ногу, кто — руку), вурдалаки стали исчезать в подземелье. Скатившись с дуба наземь, я кинулся к дверям — они, на счастье, оказались не заперты. И я беспрепятственно проник в людскую и следом за чудовищами нырнул в подпол. Оказалось — это начало норы, в глубине которой слышались дыхание, голоса, шаги, повизгивания…»
Дубов не стал читать про то, как бесстрашный урядник долго блуждал по подземным лабиринтам, нарытым бегунами-скрытниками, как он попадал то в могилу старого графа, то под графскую спальню, но потом вышел к заброшенному колодцу, где и застал сатанинскую мессу в разгаре. Дубов свернул приобретённые на недавнем антикварном аукционе в Париже листы, сохранённые каким-то беглым белогвардейцем, положил их на место и достал кристалл, чтобы всё же насладиться его успокаивающим нервы тусклым мерцанием…
Стоило Семёну Константиновичу поднести к глазам предмет, который он, откровенно говоря, считал обыкновенной стекляшкой, и сам не понимал, за что выложил мошеннице 100 тысяч зелёных, как произошло что-то непонятное. Вначале на одной из граней камня возникло лицо широко распахнувшей глаза экстрасенсши, затем — физиономия какого-то очкастого мужика, держащего руку на черепе и что-то бубнящего, следом Дубов увидел себя в окружении людей в кафтанах.
— Странный голографический эффект! — воскликнул банкир.
— Это не оптический обман! — возразил вельможа в атласном кафтане, парике, с косицей, со свечой в одной руке и графином с водой — в другой. — Вы вступили в медиумический контакт с масонской ложей «Чёрного скарабея»… Сейчас вы снитесь голубушке моей Софье. А кристалл, который у вас в руках, — дар великого Копта…
— Ерунда, чертовщина какая-то! — шарахнулся Дубов.
— Насчёт чертовщины вы правы, насчёт ерунды — нет! Я граф Елгин! А вы кто? И из какого времени?
— Я банкир Дыбов, то есть Дубов… Прапрапра(он забуксовал на эти «пра»)дед выправил запись в церковной книге после того, как по его доносу вас отправили в Сибирь!
— Ах! Вон оно что! А как вам это стало известно?
— Недавно на аукционе я купил материалы того времени, и среди них — ту самую церковную книгу. Там «ы» переправлено на «у»…
— Обычная практика для сокрытия неблаговидных дел…
— …Деловая встреча с лидером вкладчиков назначена на час, — донеслось до Семёна Константиновича откуда-то сверху — и он проснулся.
Последние слова были произнесены референткой Соней. Странное воздействие производила на него эта девушка: стоило ей произнести несколько слов своим мелодичным голосом, как Дубова бросало в сон. Вот и теперь он буквально провалился в другую реальность.
— Пусть войдёт! — встряхнулся Семён Константинович и приосанился в кресле.
Шляпа, плащ, очки, борода, а следом за ними — несколько персонажей времен первых пароходов и локомобилей, будто бы намеревающийся давить на поршень раскаленный пар вклубились в кабинет. От них пахнуло гарью и дымком только что преданного во дворе аутодафе чучела «антинародного банкира». Глядя на предводителя Прохора Гудкова, банкир невольно вспоминал уверения экстрасенсши Ненидзе, что каждое утро осаждающие банк толпы представляют собою реинкарнацию потревоженных недавно во время проходки туннеля метро захоронений времен террористов-бомбометателей из вечных студентов поры хождений в народ. И что Прохор Гудков в той же шляпе, в очках, плаще и при бороде запечатлён на дагерротипах ушедшей в прошлое эпохи. Такие фото банкиру довелось видеть в одной из экспозиций музея, еще не так давно гордящегося своим революционным прошлым Центросибирска. Однако, садясь в кресло для посетителей, в котором сиживали и мэр, и губернатор, и милицейский генерал, имевшие свои ящички в депозитарии, Прохор Гудков не походил на вставшего из могилы покойника. Глаза его блестели, зубы сияли белизной, чёрные, как смоль, волосы и борода отливали цыганистой синевой.
— До нас дошло, — произнёс Гудков, пока крестьяне, мануфактурные рабочие, а с ними пенсионерка Пульхерия Гребешкова, учительница словесности Фёдора Терпугова и домохозяйка Инесса Стойкер рассаживались на стульях вдоль стеночки, — что вы активно вкладываете деньги в строительство станции метро «Осиновая роща», где на днях во время проходки щита открылось захоронение. А также, что вы за внушительные суммы приобрели магический кристалл и некоторые документы… Мы выражаем решительный протест!
— На каком основании?!
— На том, что есть решение стачечного комитета, и нас не сломят происки царской охранки, уловки шпиков, промонархически настроенных мистиков… Мы, Союз неупокоенных покойников, протестуем. Мы требуем вернуть гробы на место, зарыть нарытые под Осиновой рощей туннели, восстановить потревоженную почву, возродить дёрн, уничтожить ходы…
— Входите! — вторично раздался мелодичный голос референтки Сони. И, поняв, что он опять прикемарил, Дубов подскочил с кресла, подобно курсу доллара или цене на баррель нефти, и сделал шаг навстречу делегации…
— Мы протестуем! — демонстрируя независимость от царской охранки и шпиков, бросил на стол банкиру фетровую шляпу и кинул ногу на ногу Джонни Депп. Да, это был он! Или, по крайней мере, точная копия его! Неужели утверждения чудачки-колдуньи насчёт того, что все эти акции протеста — приколы с переодеваниями актера ТЮЗа Мити Глумова, на днях города наряжавшегося Городовичком, а на Новый год вместе с известным фотохудожником Иваном Дыркиным подрабатывавшим Дедом Морозом?
— Мы протестуем! — повторил тот, кто выдавал себя за Гудкова. — И требуем возврата нашего прежнего положения. Все деньги, которые вложены в строительство колумбария под Центросибирском, должны быть возвращены народу. Счета мэра, губернатора, милицейского генерала — аннули…
— …А не налить ли вам кофейку? — в третий раз раздался голос Сони и, с трудом разлепив глаза, Дубов ухватился за чашку, залпом осушил её и, уставясь в оставшуюся на дне гущу, увидел себя за рулём джипа с затемнёнными стёклами.
Не очень-то нравились ему эти смуглые стёкла из-за того, что всё сквозь них выглядело, как в день солнечного затмения, в детстве, когда он с ужасом наблюдал сквозь закопчённый на огне спички осколок стёклышка, как прятался сияющий диск за наползающий чёрный круг. Соседская старуха объяснила: «Так вот и пятаки на глаза покойникам кладуть! Видит покойник, как ему застит белый свет, а сморгнуть не могёт!» От тех слов Сёмушке сделалось нехорошо, он отшвырнул стёклышко и, убежав домой, спрятался в шифоньер, представляя себя уже уложенным в гроб покойником, где его кое-как отыскал под вечер отец. Вот и теперь что-то неладно было на сердце. Экстрасенсша нагадала (а делала она это, интерпретируя расположение кофеинок на дне фарфоровой чашки): жена Семёна Константиныча Клавдия ему неверна. И даже указала, где она бывает, когда он, поглощённый инвестированием строительства подземного мраморного дворца и борьбою с требующими возврата денег и заложенных квартир вкладчиками, днюет и ночует в ДБ-банке.
Ворота особняка прямо-таки выскочили из полумрака, и Дубов был вынужден резко давануть на тормоза. Набрав код замка, он, стараясь не шуметь, вошёл. Кинувшаяся навстречу такса лизнула руку. Вначале Дубов хотел войти в дом через парадный вход, но, почувствовав неизъяснимый позыв, подошёл к разросшейся за двадцать лет супружеской жизни черёмухе (он помнил, как ломал с её ветвей первые пахучие букеты для Клавдии, как рвал сладковато-терпкие ягоды, чтобы она могла чернить ими свои смешливые губы) и стал карабкаться по стволу. Такса осталась внизу и виляла хвостом, поглядывая на странные действия хозяина. Усевшись на суку, Дубов вынул из-за пазухи прибор ночного видения, из бокового кармана — пистолет с глушителем и, надев на голову инфракрасный бинокль, принялся оглядывать близлежащие окна. Двигающаяся спина оседлавшей любовника Клавдии возникла в красноватом свете, словно фантом сновидения. Любовника Дубов не мог разглядеть из-за закрывавших его лицо раскосматившихся волос секс-наездницы, но он знал — это его телохранитель Сергей Тибров. Хорошенькое дельце! Взведя курок, Дубов прицелился, успев удивиться тому, что лицо повернувшейся в пол-оборота жены обрело черты морды волчицы…
Нажав на спусковой крючок, Дубов оказался на перёкрестке возле «Лепестков». Всегда, когда ему хотелось поставить свечку в храме, он оставлял свой джип на другой стороне дороги, чтобы не дразнить нищих, которые буквально облепляли его, если он подъезжал в открытую, не таясь, и являлся в церковных вратах, не надвинув шляпы на глаза. Этому он научился у своего антагониста Гудкова. С некоторых пор он начал подражать ему в одежде. Бывали моменты, когда ему казалось, что Гудков-это он сам, время от времени материализующийся для розыгрышей народных волнений посредством заморочек магического кристалла в неугомонного двойника. Купив однажды в магазине и фетровую шляпу, и плащ, и очки, и даже отпустив бороду, он, как ему казалось, слился с этим двойником. Не любил он толпы на храмовой паперти. И без того досадившие ему во время пикетов блаженная Пульхерия Гребешкова, учительница литературы Фёдора Терпугова и домохозяйка Инесса Стойкер завсегда дежурили здесь с протянутыми ладошками. Мало приятного было бы, если бы они его узнали. Вот почему Дубов предпочитал бывать здесь инкогнито. Да и какая же молитва к Всевышнему с истовой просьбой, чтобы чёрный кругляк не поглотил сияющего диска, ежели к тебе лезут с уговорами о спонсировании нищие и бородачи в рясах? Они и без того уже превратили его кабинет в место паломничества, будто он был не Семён Дубов, грузноватый мужчина сорока пяти лет с двойным подбородком, стриженный под ноль и до синевы выбритый, а святой угодник, или представлял собою мощи в златом ларчике. К тому же в некоторых из этих чернорясных ходоков-монахов ему опять-таки мерещились Джонни Депп, актёришка Дима Глумов и бузотёр с замашками вождя Прохор Гудков.
Дубов заблокировал дверцу джипа пультом - брелком, потрогал трёхдневную щетину на щеках, нацепил очки, надвинул на переносье шляпу, сунул руку в карман плаща: прикосновения к мелочи в кармане его успокаивали примерно так же, как, когда, разложив сиденьявнедорожника, он укладывался на Соню, а Валя ложилась на него сверху, массируя ему спину. Потом они менялись, как во время отдыха в сауне, пристроенной к одному из его загородных замков. В такие моменты Дубову и правда казалось, что с помощью своих референток он вытягивает жизнь из толпящихся у входа в банк. Что касается открывшегося ему свойства монет, то это воздействие медных и серебряных денег, в отличие от коллекционируемых им золотых с профилями римских и российских императоров, было Семёну Константинычу до конца не понятно. Но Изабелла Ненидзе говорила, что тот, на кого подобным образом действуют металлы (а медь и серебро имели свои магические свойства и связь с Марсом и Луной), человек незаурядный, избранный, пришедший в этот мир с особым предназначением.
Семён Константинович сделал шаг в сторону куполов, над крестами которых зависло непорочное облачко и летела птица, когда хлопок и резкая обжигающая боль под левой ключицей перебросили его блеснувшее последней вспышкой сознание (так серп Солнца освобождается от затмевающего его чёрного круга) в его кабинет, где он смотрел на дно чашки с остатками кофейной гущи, гадая, что же ждет его в ближайшем будущем? Раздвоясь, он узнал себя в окружённой толпой пылающей кукле и увидел, как к тому месту в груди, в которое, казалось, входит горящий уголь, протягивается рука с зажигалкой...»
Так я и не понял, откуда взялся этот текст (как и лезущее во все наши истории выражение «с тех пор, как», которое сколько бы мы ни вымарывали, снова проявлялось, будто было написано симпатическими чернилами; они, как известно, имеют свойство проступать на поверхности абсолютно белого листа, если его прокалить на огне). То ли кто-то, ну хотя бы тот же компьютерщик Осинин, имея доступ к нашим файлам, начал пародировать продукцию подпольного литературного цеха, то ли ещё что, но на всякий случай я скачал этот приблудный файл, хотя и не знал, куда его приткнуть. Убит был банкир не в лоб, а в грудь, что целиком ломало сюжет первой из страшилок-историй в нашем сериале и всю дальнейшую цепь событий. Да и путаница с персонажами возникала такая, что черт ногу сломит. Так и остался этот файл среди неиспользованных заготовок.
Так же, как в неисчерпаемых залежах черновиков остались бесчисленные вариации о выпрыгивающей из окна девушке. А всё дело в том, что практикантка на подоконнике стала моей навязчивой идеей. Стоило мне открыть двери редакционного кабинета, как я снова видел её на прежнем месте, готовую сигануть с высоты нашего небоскрёба. И только потом это видение понемногу истаяло. Я даже призадумался над тем, как обыграть эту ситуацию. Я уже поставил на подоконник общежития на Ленина, 49 Веру Неупокоеву. Неплохо было бы, прикидывал я, чтобы Зверь в Университетской роще не убил, а только напугал её, она же, не вынеся позора, сбросилась. Поутру, отправляясь на лекцию в БИН, все видели её труп… Мне стало грезиться, что из окна меблированных комнат на Фонтанке прыгала и соблазнённая вертопрахом, бретёром и непревзойдённым магом Калиостро Софьюшка Елгина, но удачно приземлилась на корзинки чухонки — продавщицы ландышей, имеющей обыкновение торговать под её окнами, в то время как муж цветочницы наигрывал на мандолине.
С тех пор, как стал являться Ане Кондаковой лунный дог, а вслед за ним и твербуль — и она порывалась выброситься из высотки МГУ имени Ломоносова, но, встав на подоконник, почувствовала, как кто-то схватил её за ноги, она(как я подозревал) стала хроно-номадой. Удержавший Анну от падения, её будущий муж, студент-физик Севастьян Штукер, даже и не подозревал, что в каком-то смысле образовалось две Ани. В подтверждение теории, предполагающей различные варианты исходов переломных событий, Аня всё же пролетела вниз, подобно выбрасывавшимся 11 сентября 2000 года из горящего небоскрёба, и рухнула на асфальт. А всё, что произошло позже — было причудами реинкарнации. Вот почему она беспрепятственно преодолевала временные барьеры.
Я готов был сделать прыжки из окон, с уступов египетских и ацтекских пирамид лейтмотивом произведений, сработанных литературным цехом ВОЛКИ, но, отворив однажды книгу борца с порнографией Трофима Кузьмича Кондакова (прочные, как дощечки, они, подписанные сотрудницам, в изобилии валялись по кабинету) прочёл: «Выйдя на край утеса, откуда спрыгнула Марья в горе после того, как узнала что у миловавшего её Фрола законная жена и пятеро детей, Фрол упал на бел-горюч камень, обхватив его виловатыми ручищами. Очнувшись, он с удивлением почувствовал, как сжимает Машины лодыжки. На мгновение это ему поблазнилось, на один шелест опадающего листочка. А сжимал он не ноженьки погибшей под скалой зазнобушки, а две проросших из-под валуна берёзки: двадцать пять лет минуло с тех пор. Канула Фролова молодость на дно Марьиной пади…» Этот фрагмент еще раз заставил меня призадуматься над тем, что мною кто-то манипулирует. Но кто? Уж не предупреждает ли меня о том, что я заступил за запретную черту, сам Наблюдатель-фискал?
Глава 20. Фотовернисаж
«Вашему вниманию предлагается суперпроект «Россия» — серия книг, которые, безусловно, порадуют поклонников Артура Хейли и заставят вспомнить об удивительных перипетиях авантюрных романов Сидни Шелдона. Но на этот раз действие происходит не где-то в Нью-Йорке или Чикаго, а здесь, сейчас, рядом с нами…»
Из рекламного текста
Вчетвером мы мялись у крылечка издательства, чей офис находился в тихом закоулке.
— Здесь прачечная была! А теперь книжки таскают! — прокомментировала вывеску слева от дверей привязанная к таксе тонким ременным поводком старушка-вековушка, пристально осматривая нас на предмет тротиловых шашек за пазухой.
Галина появилась бледная, как маска театра кабуки или отстиранная посконная рубаха. Такие надевают на казнь.
— Ну, ребята! Закрутилось! И «Киллершу поневоле», и «Ночь волчицы» взяли в печать. Выйдет через неделю! А вот и аванс!
Ликуя, мы отправились в «Ливерпульскую четвёрку».
Свято храня тайну ложи «Чёрного скарабея», я принимался за «Гитариста и цветочницу». Существо в шляпе-котелке, с револьвером в кобуре и тростью в кулаке транcмутировало в котоватого сказителя-баюна.
Да и как было не соорудить моему воображению из Гены и Светы нечто вроде Святого Семейства! Как не дерзнуть слепить из них нечто, вполне соответствующее идеалу?! Если в красном углу последней полосы, рядом с кроссвордом, уже оставлен был квадратик, а выше и ниже — урчало, лязгало, скрежетало, бахало выстрелами и воняло трупными миазмами! Зримая благодать гитариста Гены и цветочницы Светы бросилась в глаза как раз в тот день, когда по звонку какой-то не назвавшейся богомолки, примчавшись к стеклянно-бетонному цветку кафе-забегаловки «Лепестки» напротив собора, я сильно «достал» и следователя прокуратуры Антона Зубова, и ментов, шнырявших возле похожего на выпавшего из фрески с изображением поклоняющихся младенцу Волхвов Вола паренька, лежавшего рядом с колесом «Тойоты» со стрелой, торчащей из глаза.
У меня чуть было не отняли и гусиное перо, и кожу манускрипта. Казалось, этим легионерам ничто не мешает заставить меня выпить чернила из моей переносной чернильницы, сооружённой из винтовой ракушки, подобранной на песчаном кипрском побережье, куда выползают откладывать яйца морские черепахи. Чернилку я привязал к верёвке, которой подпоясывал свою рясу, размочалив один её конец. Но на этот раз обошлось — и чернильница, и перья, и манускрипт остались при мне и, отойдя в сторону, я присел на камень, чтобы зафиксировать всё, мной увиденное.
Выдержав паузу, мы лезли с Серёгой на ещё один чердак. Совместными усилиями мы опять имитировали там пребывание снайпера. Следы гильзы от винтовки Серёга выдавливал на шлаке колпачком от авторучки. Выстрел, который должны были услышать жильцы, — китайской хлопушкой. След от тела, которое только что здесь было, но его уволокли и вывезли за город, чтобы бросить на съедение прожорливым койотам, мы фальсифицировали просто: Серёга, окропив сугроб из бутылки с кетчупом, ложился на снег — и я волок его до первой автостоянки, оставляя для пытливых следаков колею волочения. Там, где кетчупа не хватало, добавляли выжимки из свинины. И в этом даже был какой-то глубинный смысл: Серёга оказался порядочной свиньей — с Киски переключился на Курочку, а там начал подбивать клинья и Галине. Мало ему было практикантки на подоконнике! Я встречал возле школы уже выросшего из детсадовского возраста, успешно перешедшего в пятый класс Вовчика, и отводил его в музыкалку. Выслушав гаммы и каденции, сидя на скамеечке под окошком, я доставлял тромбон в футляре и Вовчика к Серёгиной теще. Как и самому Серёге, Серёгиной жене, тёще медийного Казановы и деду Вовчика — было не до того.
Мы слезали с чердака, удалялись от колодца. Ну а затем, чтобы погнать новую волну сенсаций, одному из нас ничего не оставалось, как, имитируя скрипучий старушечий голос, обзвонить редакции, милицию, прокуратуру. Мол, слышала, видела, как и что…
И в который уже раз — редакционная развалина на жёваных-пережёваных колесах. Место происшествия. Толпа зевак. Случалось, мы с Димой Шустровым выезжали по два и даже по три раза на день. Бывало, Дима делал снимок, в котором главным действующим лицом становился я. Я — на фоне трупа. Я — в морге на опознании. Я — на фоне изрешечённой бандитскими пулями иномарки. Я — в зале суда, где фоном — судьи, адвокат, обвинитель, обвиняемый в клетке. Эти фотографии я прикреплял скотчем к стене над дисплеем компьютера, и то и дело помимо моих путешествий хроно-номада в минувшие века, включая воображение, мог мысленно возвращаться в недавнее прошлое.
Взять хотя бы крайнюю слева фотографию моего фотовернисажа. Она была сделана на похоронах тех самых двоих несчастных молодых, погибших на рельсах метрополитена. На этом снимке я стою рядом с угрюмоватым отцом Святополком. В протянутой к могильному холмику руке — гвоздики. Их я купил у цветочницы Светы, чтобы возложить не для маскировки, как бывало на похоронах мафиози, а из искреннего сочувствия. Как сейчас помню — примчались мы на панихиду с опозданием. Народу было много. Говорили речи о талантливом журналисте и подающей надежды одарённой писательнице, чьи жизни оборвались так быстро и нелепо. Толкнул речь писатель-почвенник Трофим Кузьмич Кондаков. Прикусив губу, пролила слезу поэтесса Нонна Прикусина. Погибший посещал руководимое ею литобъединение и писал стихи. Помню, как меня удивили фотографии на двух холмиках суглинистой почвы: он — вылитый я, она — копия Галины Синицыной. Но фамилии на крестах, конечно же, были другие. Да и лица показались столь похожими лишь в полусумраке вьюжного зимнего дня. Глядя на мёрзлую землю, перемешанную со снегом, я, однако, почему-то представлял, как лежу в новеньких штиблетах и клифте, вытянувшись в гробу под толщей почвы. Как, сложив на груди ладони, словно в лодке, уплывает в раке в вечность мастерица бестселлера. И хотя это был совсем другой пописывающий стишки журналист и другая сочинительница женских романов (они теперь выстраиваются в издательства, как бывало — пионеры в мавзолей Ленина), было как-то не по себе.
На второй слева фотографии я опять был рядом с борцом с сатанинскими ересями отцом Святополком. В руках батюшки тускло посвечивали извлеченные из захоронения артефакты. В тот осиянный фелонью Осиновой рощи осенний день по заданию самого Анчоусова мы с фотокором спешно выехали на место строительства новой ветки метрополитена. Из Управления метростроя сообщили: проходческий щит наткнулся на массовое захоронение. Когда мы с Димой Шустровым спустились в подземелье и дошли по туннелю до места проходки, там уже были и корифей археологии, доктор исторических наук Эдуард Константинович Селянин и иерей отец Святополк, и даже мэр города Фёдор Игнатьевич Гузкин. Тут же крутились телевизионщики, топтались журналисты многочисленных печатных СМИ.
— Так, говорите, эти кости составляют большую историческую ценность? — спросил мэр, сделав губы гузкой.
— Несомненно! — ответил историк. — Предметы из этого сундучка — указал он на кристалл, книгу в кожаном переплёте и обломок шпаги, — принадлежали графу Елгину.
— Сосланному Екатериной масону, — вставил о. Святополк, — вызывавшему духов тьмы.
— Это историческая ценность, — возразил археолог. — Как и гробы с костями Елгина и его жены Софьи, которые вы предлагаете сжечь из-за ваших религиозных бредней по поводу элексира вечной жизни витотония.
— Сатанинские секты, которыми и без того кишит наш город, растащат эти останки на сувениры — и будут устраивать шабаши, — впрягался в нешуточную полемику иерей. — А предписаниями по созданию витатония воспользуются, чтобы оживлять покойников. Вспомните про найденное где-то здесь же, неподалёку, «ушедшее под землю» захоронение шаманки Ачи. Есть основания полагать, что они стали сатанинской «святыней» стриптиз-бара. А в одной из уходящих под Ключ-Камышенское плато боковых нор обнаружены существа неизвестного происхождения…
Мэр слушал, улыбаясь. Дима Шустров останавливал мгновения, сверкая фотовспышкой. Я строчил в блокнот, взволнованный столкновением с прототипом сериала «Лунные волки»…
— Вы священник, а рассуждаете, как заурядный беллетрист, — скосил на меня глаза под очками учёный. — Вы, кажется, из газеты «Городские слухи»? Это у вас работает сочинитель романов ужасов Александр Дымов?
— Угу!
— Так вот этот самый Дымов считает себя вправе, переставив имя и отчество и заменив одну букву в фамилии заслуженного человека на другую, плести такую антинаучную чушь, что просто волосы на загривке поднимаются дыбом. Надо мной уже студентки потешаются, коллеги, специально ошибаясь, зовут не Селяниным, а Селениным. Один аспирант разглагольствовал по поводу того, что если Константин Эдуардович Циалковский был предтечей покорения космоса, то я – вложил аналогичный вклад в штурм либидо…А я ведь доктор наук!
— Аху! — автоматически записал я в блокнот «волосы на загривке» и «дыбом», неопровержимо подтверждающие принадлежность археолога к касте оборотней.
— И самое главное, — положил Селянин в сундучок артефакты. — В суде ничего не докажешь. Современная юриспруденция бессильна. Нет статьи за наведение порчи. Иск не принимают не смотря на то, что у меня справка из поликлиники: шерсть на загривке поперла и ногти отрастают так, что обрезать не успеваю.
— Если мы не сожжем всё это, — продолжал меж тем вещать о. Святополк, — будет такая порча, что мало не покажется!
Третья, четвёртая и пятая фотографии вернисажа особенно эпатировали девочек. На них я был запечатлён на фоне растерзанных жертв маньяка в лесопосадках. Шестая воспроизводила облик акулы пера Ивана Крыжа, склонившегося над расчленённой девочкой. Восьмая — рядом с заваленным киллерской пулей Лосевым.
Но самой дорогой сердцу была фотка, сделанная вовсе даже не Шустровым. Она в моём фотовернисаже располагалась крайней справа — и на ней был отображен эпизод студенческой фольклорной экспедиции. На этом снимке совсем молодой Иван Крыж сидел верхом на большом валуне, одна его рука покоилась на плече стройненькой Галины Синицыной, в другой руке он держал общую тетрадь с записями местных легенд.
Рядом, оседлав тот же камень, восседали Серёга Тавров, начинающий поэт Витя Тугов, ещё не доросший до шекспировских высот драматург Олег Гумеров, прозаик-дебютант Лёня Глушкевич, подающий надежды юморист Костя Глотов, дочь писателя-почвенника Аня Кондакова, будущая фотомодель Юлия Хлудова и студентка юрфака Вера Неупокоева. На втором плане, на фоне скалистого склона с провалом пещеры были запечатлены практиканты-историки, производившие по соседству археологические раскопки. Только теперь в молодом руководителе экспедиции археологов, которого все по-простецки звали Костей, я узнал Константина Эдуардовича Селянина, а чуть в стороне от него с удивлением обнаружил наших компьютерщиков Николая Осинина и Лидию Лунёву.
Только сейчас до меня стали доходить и смысл наших походных капустников у камня с наложением рук на найденный в пещере череп, и природа тех посланий, которые я получал, входя в подземелье метрополитена. Сняв со стены фотографию и вглядевшись в неё, среди историков я узнал в пареньке в штормовке следователя прокуратуры Зубова, а рядом — в трико и свитере — жену его Клавдию! Выходит, и на юрфаке были люди, интересовавшиеся археологией! Мысль о вездесущем присутствии руки КГБ и её агентов, с бериевских времен держащих под контролем экспедиции в Гималаи, не замедлила явиться. Значит, и клятвы на черепе шамана, и поочерёдные танцы с передачей по кругу бубна, и братания с обитателями соседнего лагеря — такая же реальность, как и песни Визбора под до сих пор висящую на стене в моей квартире гитару! Так, стало быть, отнюдь не легендарными были рассказы старожилов про подземелья, фантастических их обитателей и возможности перескоков во времени!
Много чего пронеслось в моей внезапно проясневшей голове, когда я разглядел на так долго мозолившем глаза снимке тех, кого раньше не замечал. Но более всего меня поразила вот эта парочка: юные Николай и Лидия, их отрешённо-молитвенные лица искателей Шамбалы. Собственно, вся редакция знала, что компьютерщики увлекались альпинизмом, ездили на Алтай, посещали там какую-то пещеру, возле которой торчал из склона рухнувший с неба осколок метеорита, но мне и в голову не могло прийти, что это была та самая пещера и тот самый свалившийся с неба камень(мало ли их там валяется у входов в бесчисленные норы)! Тем более невдомёк мне было, что, оказывается, судьба сводила всех нас у того камня ещё в студенческие годы.
Я знал, что пресс-конференция уже началась. Что уже, как яйца из черепашьего подхвостья в кипрский песок, куда соблазнял металлургический магнат Семён Семёнович Корявый позагорать Галину — подальше от сотрудников, жены и деток, сыплются в блокноты нумерологические излишества статистики: куплен, мол, контрольный пакет акций, ожидается рост налоговых отчислений, повышение заработной платы до того митинговавшим. Тем временем своей разделанной богом в осколки и сросшейся в панцирь спиной я ощущал, что сукиному сыну не до митингующих работяг, что на эту пресс-конференцию его завлек левацко-красный топик Галины Синицыной. И всё же, держа в руках увесистый факсимильный томик, я не мог оторваться от того, как Эрнест Ренан описывает времена Марка Аврелия. Я безнадёжно застрял у лотка с религиозно-эзотерическими благоглупостями, пожирал страницу за страницей с энтузиазмом гусеницы, дорвавшейся до зелёного листочка Древа Познания (в конце концов по закону неизбежных метаморфоз из червя должна была явиться куколка, из куколки — махокрылое диво). Я готов был даже стоять на ступенях мэрии или у облисполкома с лозунгом любого содержания в руках, лишь бы не тащиться на эту долбанную пресс-конференцию. Я вполне созрел для того, чтобы слиться с пузыристой, напоенной целлюлозой и типографской краской слизью толпы. С этой рвущейся из пасти отчаяния эпилептоидной пеной на обмётанных двухтысячелетними струпьями жажды справедливости губах. С тем самым, отравленным моими репортажами и произведёнными литературной группой ВОЛКИ бестселлерами человеческим киселём, который, как курицу в микроволновке, с одного боку поджаривали мегагерцы, испускаемые телевышкой, с другого — подрумянивали телеэкраны.
Меня увлёк рассказ о заточённом в пещеру, маскировавшимся под переписчика манускриптов факире, усмирившем своими чарами злобного льва. Я зачитался тем, как, чудесно освободившись из клетки, он отправился в Святую землю на корабле и был захвачен пиратами, и как ловко избежал перекинутой через рею петли. Что-то про корабль, колдуна, петлю, пиратов было мелькнуло и на дисплее компа в секретариате. И меня изрядно удивило, сколь всё же неисповедимы пути бродячих сюжетов! Они словно диктуются кем-то извне. Может, вездесущими Наблюдателями? Но задумывался ли об этом Боря Сухоусов? Представляя, как в сотый раз придется объяснять дубоватым охранникам, что, мол, повсюду автомобильные пробки, а машина в редакции — одна на всех, я застрявшей в горлышке бутылки с дешёвым сухим вином пробкой торчал в переходе подземки и жадно сканировал сетчаткой глаз страницы репринтного издания. Выход обычно в таких случаях один — протолкнуть пробку в бутылку и пить вино, сплёвывая невкусные древесные крошки. И я пропихивал, читая, прихватывая сноски и комментарии, в предвкушении, что представитель (или представительница?) семейства кошачьих всё же сожрет факира.
Смиренно созерцала похотливые блуждания моих лапищ по страницам святоотеческих писаний Монашенка. Заинтересованно изучала мои алхимически-чернокнижные манипуляции Ведьма. Так я негласно прозвал тёток-лотошниц, одна из которых представляла собою задрапированный в чёрный плат клон боярыни Морозовой, другая — антропоморфный вариант рыжей кошки — зелёные глазищи, густая шерсть причёски, коготки маникюра.
Гремучая смесь елейной православной благодати с изысканнейшим сатанизмом пьянила и будоражила воображение. В этой примерочной вечного к сиюминутному я наконец-то обретал хоть какое-то ощущение осмысленности в каждодневном циничном оплощении с нами происходящего, к бурливому течению коего не среди цветущих долин вдохновения, а по затхлым канализационным трубам пошлости был, конечно же, причастен и я. Во время чтения об эпохе Марка Аврелия, пожалуй, я испытывал нечто, подобное тому, что испытывает механическая кукла, ощущая, как по её иссохшим шестерням и пружинам струится машинное масло из маслёнки. Шестерням нужна была профилактика и смазка, пружинам — досмотр. Этим профилактическим осмотром были заняты существа прямо противоположной природы и даже враждебные друг другу. С одной стороны кто-то, обряженный в золотую фелонь, бубнил мне в ухо о том, что «искони бе слово», с другой — филолог-сноб на пару с хлыщом-денди язвительно напоминали о том, что «бе» — всего лишь навсего междометие, обозначающее блеяние козла. Это было время, когда я много и напряжённо думал о зловещих ритуалах мафии, коррупции, «братве», сектантах и их необыкновенно активной, прямо-таки бешеной одушевлённости. Не прошли даром и бдения над папками уголовных дел у Веры Неупокоевой и Антона Зубова, беседы с бывшим вузовским преподавателем-физиком отцом Святополком. Как-никак когда-то он читал в электротехническом институте курс квантовой механики, был «на ты» с Планком, Эйнштейном и Нильсом Бором, блуждал воображением в микро- и макромирах Вселенной и вот уверовал в ангелов, бесов и симпатическую магию.
Затягивая время в подсознательной надежде, что оно сделает замысловатую петлю и вынесет меня мимо пресс-конференции, я разломил наугад покетбук с соседнего лотка.
«…Владимир поднёс бокал к полноватым губам и, ощутив запах свисающего с края надрезанного ломтика лимона, пригубил обжигающей нёбо жидкости. Он не любил пить текилу залпом, тем более что слово «залп» из лексики артиллеристов было ему не по душе. Он был не артиллеристом, а снайпером. И поглощал спиртное точными, прицельными порциями. Делая глоток, он вслушивался, как согревающая влага движется по пищеводу. Надкусывание лимона, прикосновение кончика языка к крупинкам соли, насыпанным на тыльную сторону ладони в углубление возле большого пальца, обретали смысл ритуала. Ожидание, когда тепло растечётся по всему телу, — его кульминацией. Так же он отстреливал высовывавшихся из зелёнки «вахов». Не торопясь. Со знанием дела. Соблюдая маскировку. Он с удовольствием отстрелил бы уши и тем, кто не выплатил ему деньги по контракту, но теперь дело было прошлое. Обивать пороги военкоматов, доказывать что-то крысам в погонах он больше не собирался. В городе было полно работы. Братва воевала с братвой. Барахольные мафиози делили кошт. Политики дрались за бюджетные денежки. В Центросибирске такой бардак творился — почище, чем в Чечне, где в каждом ущелье свой тейп. Всё пребывало в таком же беспорядке, как в его детстве, когда вместо отца его годами встречал из детского сада, школы, музыкалки дядя Иван. Он-то и подарил ему однажды старенький детский калейдоскоп. Вначале Вовчик крутил эту прикольную штуковину у глаза и удивлялся составляющимся в ней симметричным узорам, а затем разломал — и, высыпав на ладошку цветные стёклышки, убедился: красота и симметрия — иллюзия, образуемая с помощью скрытых от зрения зеркал.
Краденную снайперскую винтовку с боеприпасами он купил с рук у какого-то уколотого хмыря, потом выследил его в подъезде — и свернул придурку шею, чтоб не настучал. Когда-то увлекавшийся джазом дед настоял, чтобы папа отдал Вовчика учиться на тромбоне, и надо же — в разобранном виде винтовка как раз уместилась в футляр из-под инструмента для выдувания хохочущих звуков.
Первый заказчик не заставил долго ждать. Пошел на беспредел коммерсант Уткин — не захотел платить крышевым. Стрельнуть Уткина из чердачного окна — не было ничего проще. Да и Зайцева из-за киоска союзпечати шлепнуть — дело плёвое! Он доставал из чехла винтовку, привычными движениями собирал её, досылал патрон в патронник — и видел, как жертва падает до нажатия на спусковой крючок. Так было и с Лосевым, и с Волковым, и с Прыгуновым, и с судьёй Хлудовой, и с её однофамилицей-манекенщицей, и с мафиози-барахольщиком Китайцем, и с мэром Гузкиным и с банкиром Дубовым. Кто-то опережал его, но гонорары выплачивались исправно — и он особенно не тужил. В конце концов, на своем веку он уже настрелялся. С тех пор, как дедушка-саксофонист, игравший в джаз-бэнде центрального парка имени Сталина, привел его в тир и, приложившись к прикладу воздушки, Володя увидел металлическую утку, зайца, волка и мельницу, которая начинала бешено вращать лопастями, стоило попасть в кругляшок сбоку (а металлические зверушки падали, переворачиваясь) — ему стала сниться винтовка его мечты. Сверкающая, как тромбон, с обтекаемым прикладом, удобным цевьём, прогонистым стволом.
Владимир в очередной раз припал к краю бокала и собирался уже надкусить лимон, чтобы затем ощутить поверхностью языка приятно солоноватые кристаллики соли, насыпанные небольшой алмазной россыпью в ложбинку между большим и указательным пальцами, когда в кафе под тентом появился странный тип в камзоле, парике, с тростью — и, приблизившись танцующей походкой, уселся за столик.
— Вы Владмир Тибров?
— Да, а откуда вы знаете?
— Я много чего знаю, сударь. Но у меня к вам важное дело.
— Говорите.
— Я, конечно, не могу просить вас о том, чтобы вы устранили повесу Орлова хотя бы за несколько секунд до того, как он удушил шарфом императора Петра III или освободили меня из ватиканского плена. Было бы слишком много возни отправлять вас в прошлое. Но за скромную плату… Не могли бы вы устранить несколько аватар Змея?
— Из тех, что живут в зоопарке? — удивлённо вскинул брови Владимир. — Но я не убиваю животных! У меня у самого ротвейлер Арамис, с ним любит гулять жена и дочка, у моей тёщи — пудель Д’Артаньян, у друга Макса — далматин Атос, и я их очень люблю.
— Вы меня не правильно поняли. — У инков это инфернальное существо называлось Кецалькоатлем, у китайцев — Драконом, у русских — Горынычем, у викингов — Фафниром. Согласно легенде, Зигфрид искупался в крови Змея и покрылся неуязвимой чешуей. И только в том месте, где к его спине прилип кленовый лист, осталось уязвимое место. Впрочем, это не имеет прямого отношения к делу. В действительности никакого Змея нет — это легенды, описывающие инфернальные существа разных порядков. Полиферов, телетян, амбилегов, дринагов. И только посвящённые высших градусов могут управлять реинкарнацией светолептов. Я, знаете ли, адепт и воплощение светолепта… А вот когда презренные недовоплощенцы сбиваются в стаи в туннелях нижних миров, куда не имеет доступа никто, кроме шаманов, духовидцев и мастеров высших степеней посвящения, их передвижение выглядит сплошным чешуистым туловом Змея. Когда же они вырываются наружу…
— Ну и какое мне до них дело?
— Напрасно вы полагаете, что вам нет до них никакого дела. Полиферы, знаете ли, это не шуточки! Я уж не говорю о дринагах и прочей слизи! Мерзкие недовоплотившиеся существа прорвались через нижние миры и овладевают слабыми людьми. Особенно теми, кто, надумав искупаться в крови дракона, забыл, что к спине прилип кленовый листочек.
— Вы говорите аллегориями. Всё это слишком мудрёно!
— Я буду говорить буквально.
Вертлявый сунул тонкую ладонь за обшлаг рукава и вынул оттуда сафьяновый кошелёк с вензельной монограммой. На стол выкатилась груда сверкающих камушков и сложенная вдвое бумажка.
— Я думаю, это скромное вознаграждение поможет вам вникнуть в суть мною сказанного и, ознакомившись со списком приговорённых, согласованным с синклитом великих мастеров, привести приговор в исполнение. А сейчас — моё время истекает…
И Владимир увидел, как незнакомец истаивает. Видение возникло в гранях только что опустошенного бокала. В оконце с мерцающими краями появилось несколько смутных фигур, преклонивших колени вокруг пьедестала, на котором стоял череп — и всё исчезло. Стряхнув с ладони так и не тронутую соль, сунув в карман камушки и список, Владимир попросил расчета…»
Борясь со сном, я сидел на пресс-конференции и не был уверен, отягощаю ли я своею персоной расшатанный полчищами таблоидов стул или всё ещё ем глазами идиотский киллерский роман, в котором Стрелок из хроно-номадов мотался по временным коридорам с винтовкой в футляре из-под тромбона. Я помнил, как, пролистнув страницы в начале покетбука, минуя юность, перескочив из отрочества в детство (любимое моё занятие — читать детективы с конца!), я обнаружил сцену с мальчиком, которого пришибло на детской площадке каруселью. Этот мальчик был ветераном чеченской компании, снайпером Володей, которому грезилось, что его похоронили ещё в школьном возрасте, а он теперешний — не он, а его реинкарнация в тело уже убитого несколько раз бойца. Триллерочек был ещё тот! Но больше всего меня поразила картинка на обложке: дядька, ведущий за руку мальца, женский лик вдали, падающий с ветки кленовый лист в перекрестье прицела. На форзаце красовался брэнд известного мне издательства. Фамилия автора — явный псевдоним — ни о чём не говорила. Кто же настряпал это? Серёга? Шура? Велемир? Анчоусов? Кто-то из группы ВОЛКИ, не поставив в известность солирующего писаку?
Глава 21. Небесный Центросибирск
«…И внизу, на земле, и наверху среди звёзд, — все одинаково далеки от потерянного рая…»
«Православие и религия будущего», «Знамения на небе», Серафим Роуз
Так работал синхрофазотрон метро, таким образом искривлялись и завихрялись в его окрестностях пространство и время, что довольно часто я оказывался как бы на другом конце причинно-следственных перетеканий. И тогда вполне привычные персонажи пресс-конференций вдруг оказывались в той же звериной клетке зала суда, где приходилось видеть и типов(а не прототипов!), пока ещё не устраивающих выходов на люди для самопиара. Что ни говори, а наши серийные убийцы ведут себя совершенно иначе, нежели заокеанские — они отчего-то не желают звёздной славы, они не рвутся давать интервью репортёрам, они хотят наслаждаться своими звериными инстинктами наедине со своими жертвами, втайне, подальше от припекающих софитов и сверкания блицов надоедливых папарацци. Остаточный ли это рудимент былой благочинной стыдливости, оставляющий надежду на покаяние даже самого заскорузлого ублюдка-злодея, или проявление безнадежной инволюции мировосприятия к состоянию, в котором поведением руководят лишь ощущение наличия клыков в пасти и когтей на лапах – кто знает!
В сущности, и металлургический магнат Семён Семёнович Корявый, и не остающийся без работы, скрывающий своё имя, ветеран-снайпер или барахольный мафиози по кличке Китаец вели себя почти так же, желая обладать своими капиталами, не демонстрируя их напоказ, но выползать из нор своего порока их заставляли либидоидные позывы стремления обладать клиентурой или электоратом. Электорат ничем не отличался от жертвы, решившейся пройти через лесопосадку, потому что он становился предметом яростного неконтролируемого вожделения. Вот почему, когда мне приходилось оказываться в залах суда, иллюзия, что всё те же персонажи моих криминальных хроник присутствуют здесь немного в других костюмах и антураже, была полной.
Нет, софиты не наезжали на голые ягодицы, сдёрнутые в поспешности штаны, эректированные, извергающие сперму отростки, прикрывавшиеся ваятелями времен классического эллинизма кленовыми листками, будто это было то самое единственное место, которое не тронула кровь дракона. Всё было пристойно. Фотографам не приходилось фиксировать ковыряние ножа в гениталиях или отрезание сосков для их заглатывания. И, тем не менее, в моём воображении вполне цивилизованные персонажи составлялись в совершенно иные комбинации. Из их благообразных лиц проступали совершенно непристойные хари героев, написанных мною для Галины и Шуры триллеров и, обнаружив, что их выследили, эти антропоморфоиды уже совершенно иначе реагировали на кинокамеры, микрофоны, диктофоны и гусиные перья, обмакиваемые в чернильницы.
А вдруг кто-то напишет, что они не человеки, а излучённые сюда переливчато-разноцветные порождения образовавшегося поблизости от Земли, в неких надстратосферных гайморовых пазухах, плазмоидного гноища, а того хуже — поднявшаяся из земных полостей слизь недовоплощенцев?
Но даже и этот оборот детского калейдоскопа не мог раздробить благостности центральных образов шаткого мира, удерживаемого магнитным полем подземки. Гена продолжал бренчать на шестиструнной. Света шелестела обёртками букетов. Их сынуля Эрик агукал в коляске, пока ещё не обратясь в зловещего электрогитарного шамана Эрлика. Напирая на меня накачанным животом, телохранитель магната-металлурга закупал целое ведро колких стеблей с нераспустившимися, покрытыми росинками бутонами и, ухватив его, пёр наверх. С хиленькой розочкой для Вали, Любаши, Даши я был оттесняем и морально подавлен. И единственное, что меня утешало, была живая фреска, составившаяся из Светы, Гены и их мальца. Фреска казалась такой же законченно-гармоничной, как и проплывающие в окнах снующих туда-сюда электричек мраморные панно на станции «Сибирской», и «каменные бабы», и эвенк в нартах, и рогатый олень, и летящая на Север гагара, и поющие гимн Ярилу подсолнухи. Эту панораму не могли разрушить ни топчущиеся по моим ногам бойцы Китайца, ни хмурый байкер, ни блаженный дирижёр, ни чеченский ветеран, с которыми я, бывало, сталкивался при покупке цветов. Являясь к многочисленным подружкам, я то и дело втыкал свою розу в вазу, кувшин или трёхлитровую банку рядом с увядшим цветком или букетом. Вполне возможно, что в своих сексуальных миграциях бой-френды моих пассий шли по моим следам, как буйволы прерий на водопой — всё как в детском калейдоскопе: зеркальный туннель, пересыпающиеся туда-сюда осколки, составляющиеся в узор, понятный лишь Мальчику.
Выходя из областного суда, я двигался мимо могучей кумирни здания совнархоза, в то время как в спину мне во все глаза бдящих окон смотрела школа контрразведки, которую когда-то окончил ветеран чеченского блицкрига. Отражаясь в витринах «Мюзикленда», я видел свой силуэт — нечто вроде движущегося футляра для развешанных на стенах гитар — этой Гениной голубой мечты. Сюда-то он и приходил, чтобы повитать в облаках несбыточных фантазий. Бывало, и Дунькин появлялся здесь, чтобы в очередной раз облажаться, ухватив пальчонками-сардельками сначала «лесенку», потом «щипчики», зардеться девическим румянцем и, вернув гитару на место, ретироваться. Грёза детства — обзавестись струнным инструментом, чтобы покорять сердца дивчин в ситцевых платьицах — так и оставалась неосуществлённой, порождая в гулком, заваленном хламом сарае подсознания шевеление летучих мышей под стропилами, шебуршание крыс по углам, агрессивное жужжание ос в надутых насекомой злостью серых бумажных гнёздах. Тянуло Дунькина от этих сарайных недр в чертоги концертных залов и сцен, поэтому однажды он изобрел себе родословную, выдвинув гипотезу насчёт того, что истинная его фамилия не Дунькин, а Дункан и он — нигде не зарегистрированный отпрыск танцовщицы Айседоры и Сергея Есенина.
За стекляшкой «Мюзикленда» следовала довольно безликая стена домов с врезками вычурных крылечек, банк, куда возил за зарплатой на «Волге» нашу бухгалтершу Марту Скавронову Коля Анчаров, бывший обком профсоюзов и прилепившийся возле его угла мини-монмартр, где уличные художники торговали берёзой и ёлкой над речушкой, элегическим кладбищем под луною, церковью-лебедью, глядящейся в пруд. Случались и довольно аппетитно выглядящие, напоминающие о фуршетах в «Пресс-студии», натюрморты и ню. Здесь второй своей жизнью жил редакционный Андрей Рублев — полставочник Андрюха Копейкин. На этом углу у Андрюхи Копейкина я купил его великолепный этюд «Цветы, гитара и обнажённая» — на полотне женское тело уподоблялось теплотою красок цветам, а очертаниями — инструменту испанских идальго, с помощью которого рыцари склоняли серенадами к греху обольстительных дуэний, наставляли рога их мужьям и гибли, наколотые на острия шпаг ревнивцев (случалось и наоборот — ревнивцев нанизывали на булавки шпажонок и, трепыхнувшись, рогоносцы отходили в астрал или проваливались в адище Уирцраора).
— Ты чего это опять понаписал? Ты же на пресс-конференции был! Речь об отечественной металлургии. А ты — про каких-то антропоидов! При чём тут инопланетяне?! Между прочим, Семён Семёнович Корявый готов нас спонсировать, а ты! Знаешь ли ты, что у нас денег на бумагу нет?! Зачем ты десять раз повторил его фамилию? И без того ясно, что он Кор-рявый! — тряс перед моим лицом вымученным мною опусом зав. отделом. — А из «картинок с натуры» ты чё сделал? Ведь у тебя всё было как надо. И вдруг пошли библейские реминисценции. Ты слышал, что говорил главный на последней летучке про тебя и Сергея Таврова? Что вы исписались и не способны исполнять элементарную работу…
И я снова лез по вантам в свою бочку на шаткой, готовой вот-вот надломится мачте. Вместо того чтобы переписывать заметку, я открывал разворот «Городских слухов» и читал: «Монстр вонзил зубы в шею жертвы…» Потом заходил на сайт www.pirat@ru и погружался в перипетии морских сражений и кровавых подпалубных разборок. Особенно было интересно улавливать соответствия созданных Сухоусовым персонажей их реальным прототипам. Долговязый Билл - был он сам, Чёрный Пёс — главный редактор, Хитрая Лиса — зав. моего отдела. Кривоглазый — зав. отделом по связям с мэрией Шура Туркин. Налагая один поверх другого романы двух редакционных писак (одним из них, увы, был сам я), словно ингредиенты многослойного гамбургера, можно было угадать очертания совершающего плавание по бурному морю информации плавсредства с парусами, снастями и, похожими на ацтекских богов, типографскими машинами в трюме. В местами плохо узнаваемом романе о монстрах (Шура всё властнее вмешивался в текст, да и Анчоусов, запершись в кабинете с полосами, правил, подпуская порнушки, похоже, таким образом борясь с рудиментами своей партноменклатурной стыдливости) я мог опознать себя среди высасываемых жертв, в тексте о пиратах — в захваченном факире.
Это место особенно поразило меня сходством с некоторыми главами у Эрнеста Ренана, которых Флинт явно не читал, но мог каким-то образом высосать из моей памяти или перефлюидить из моей заметки с пресс-конференции, где о том хоть и не было ни слова, но писал я её с неотвязными мыслями о временах Марка Аврелия. По крайней мере, ощущение того, что мы пассажиры одного корабля при обнаружении этого фрагмента в его компьютерном романе прямо-таки пронзило пущенной из арбалета стрелой. Флинт описал и одежду факира, и чернильницу-раковину, и путешествие несчастного мага на утлой посудине — и вот события приближались к тому, что колдуна должны были вздёрнуть на рее за то, что он мешает продвижению парусника по верному курсу.
Боря Сухоусов уже слепил из обработанной его слюной жвачки куколку мага, обрядил его в пластилиновую чалму, соорудил из нитки петельку — и на днях все замы должны были собраться, чтобы за бутылочкой текилы приговорить пленника к повешению. После свершения этого ритуала Анчоусов обещал тут же дать в «Городских слухах» Борин роман с продолжением. Да и широко читаемый и глубоко любимый народом Пафнутий Мыченок уже побывал у главного, польстив его самолюбию, и был поставлен на очередь к печатанию его сери-ала. Как отказать человеку, окончившему семилетку с папой (Мыченок был ровесником Анчоусова-старшего)? Но пока назревал скандал с создаваемыми под брэндом «Александр Дымов» бестселлерами. Блуждающие по улицам, ночующие на чердаках, шляющиеся по параллельным мирам и под крышками канализационных клоак киллеры и монстры начинали воплощаться. В земноводноподобном воплощении канализационных коллекторов Вадиме Климовиче Улиткине узнавался мэр города Фёдор Игнатьич Гузкин. В главаре кровососущих оборотней — великолепный мафиози Кидальник (обычная замена «д» на «т» не спасала — всё равно было ясно, кто это) по прозвищу Китаец. Ну а уж с серийным насильником и вообще получилось невыносимое: любого добропорядочного мужа с женой и ребёночком можно было заподозрить в лунатизме и склонности поедать вырезанные женские гениталии.
Мои писания сбывались. Произведённые мною на свет слова меняли картину окружающего мира до неузнаваемости. Я впервые в жизни задал сам себе фундаментальный вопрос: кто же я — репортёр, Наблюдатель или всё ещё выслушивающий в наушники шум приближающейся торпеды гидроакустик? В момент обострения моих армейско-флотских воспоминаний, я задумывался: кто знает, может быть, все эти видения и голоса — гарантия того, что я не ошибусь в тот момент, когда угрожающая катастрофой металлическая барракуда станет рыть обтекаемым рылом океаническую пучину? Известно же, что Земля-корабль. И что, если всё со мной происходящее — предвестие приближения из космоса астероида, какой-нибудь шальной кометы или ещё чего, начинённого мыслящей слизью?
Вдруг ожило дремавшее в панцире под ватными одеялами накачанное лекарствами чудовище — читатель. Ластоногая рептилия клюнула — и забилась в трале. Её головы шипели, урчали, булькали. К Анчоусову явился ветеран ВОВ и, положив перед ним на стол свежий номер, принялся читать на правах подписчика.
— Он впился в соски её грудей и, откусив, проглотил их! — вскинул болезный брежневские брови и полез в карман за нитроглицерином.
Для чего уж мы с Серёгой отправились золотым осенним утром на электричке, запасшись колготками и старыми босоножками Галины Синицыной и одноименной (но, к счастью, разнофамильной) Серёгиной жены, не знаю. Наверное, всему виной — произнесённый на летучке монолог Анчоусова по поводу падения тиража, подкреплённый филиппиками насчёт нашей творческой никчёмности и дремучей бездарности. Как бы там ни было, но прежде чем нарезать с пней опят, мы вдоль всей лесополосы раскидали обильно смоченные экстрактом свинины, кое- где сдобренные её обрезками бельё и обувь наших женщин. Наскрипеть пенсионерским голосом по телефону — где и чего обнаружено — в многочисленные редакции и правоохранительные органы было делом привычным. И вслед за романом, сработанным литературными неграми Александра Дымова, СМИ опять запестрели сообщениями о выходящем на охоту в лесопосадки серийном маньяке.
— Пока остановим печатание следующего романа с продолжением «Кровавый след», — бледнел Анчоусов и прятал глаза. — Звонил генерал милиции Аслан Садыков. Общественность обеспокоена… Нас обвиняют в подстрекательстве этого чертова маньяка… А ведь тираж скаканул! Тут нам ещё и Мыченок плагиат шьет, но пока мы сошлись с ним на том, что напечатаем с продолжением его «Тайну старого колодезя»;. Дрянь, конечно. Примитивщина. Но не так возбуждает читателя…
Глава 22. Знамение
«Чертог он видит
солнца чудесный,
на Гимле стоит он,
сияя золотом:
там будут жить
дружины верные,
вечно счастье
там суждено им…»
«Старшая Эдда», «Песни о богах», «Прорицание Вёльвы», стих 64
Я спускался в метро, словно в старый замшелый колодец, о котором газета начала повествование на следующий же день. А залы суда, где восседали в мантиях чернокнижников усталые женщины (среди них изредка попадался и мужчина) и по очереди неимоверно тихими голосами зачитывали страницы бесконечных томов, поднимались всё выше и выше. По мере отлёта они превращались в стихалию убийств, изнасилований, ограблений. Среди прочих небесных Россий, эта представляла собою легионы отошедшей в небеса «братвы», убиенных номенклатурных коррупционеров, «зачищеннных» киллеров и мудрых, как буддийские монахи-сенсёи, восседающих на нарах воров в законе.
Доносящееся с высоты квохтание было подобно чтению мантр, упрямому повторению заклинаний и магических формул. Звук читающего эпизод за эпизодом голоса, падающий в гиперускоритель подземки, преобразовавшись в нём, должен был, как импульс в электронном ревербераторе, воплотиться в бесчисленные повторы эха зла, а, многократно умножившись, продемонстрировать истинную суть апокалиптического зверя. Это ощущение было столь сильным и неотвязным, что рука сама тянулась сотворить стыдливое крестное знамение. Апофеозом всего доносящийся сверху, приводящий в трепет металлические прутья церковной ограды голос надиктовывал о тинейджере, которому посоветовал убить девочку тёмный дух подземелья: к нему малец обращался, спускаясь с такими же, как он, мальчиками в канализационный колодец. Туда они потом и сбросили несчастную девочку, предварительно изнасиловав её на чердаке (собственно, произвели лишь имитацию — какое может быть изнасилование десятилетнего ребенка десятилетним!) Затем они тащили мёртвое тельце, чтобы, уложив его на круг вентиля, как на алтарь, совершить в темноте подземелья сатанинскую мессу. Под диктовку голоса, отравленный наркотической пылью залежавшихся томов уголовных дел, я, как выживший из ума сыщик-детектив, ловил себя на мысли, что эта юридическая инкунабула — суть записи чернокнижника. Через неё я приобщался к трагедии мира, в котором давно отсутствует какая-либо логика, разрушены причинно-следственные связи, потеряли всяческий смысл приёмы дедукции, а индукция существует лишь в виде всепронизывающих наводок полей чудовищного, закопанного под землю соленоида, способного переставлять и передёргивать времена, вынуждать время прыгать, скакать, совершать перебросы в прошлое и будущее оптом и в розницу. Когда же в одном из томов уголовного дела я прочёл, как среди прочих расчленённых и брошенных в колодце девочек некоторые были до костей обглоданы сбежавшимися из ходов-ответвлений канализационного коллектора крысами (по другой версии — существами не совсем понятного биологического строения), я содрогнулся, вспомнив о собирателе фольклора деревни Кусково Пафнутии Мыченке.
— Впервые я увидел чёрта в лазерном луче, — задумчиво произнёс отец Святополк. — А до того не верил. Правда, перед этим мне изменила жена — и я хотел убить и её, и его.
— Кто же он?
— Какой-то базарный мафиози. Увидел её в метро, купил огромный букет цветов у той самой цветочницы, что сидит рядом с гитаристом, ещё ребёночек у них, — и соблазнил. Я был так увлечен квантами и искривлениями пространства, что ни разу после свадьбы не дарил ей цветов… Потом она с металлургическим магнатом спуталась. Потом ещё с одним, с которым ездила в Египет. А с четвёртым — на Кипр…
Я оторопел.
— А звали её случаем не Галина?
— А как ты угадал?
— Ну, это просто — фотографии с Галиной Синицыной сейчас в газетах, журналах, на каждом книжном лотке, — слукавил я.
— Нет, это другая! Хотя все они — клоны Евины — исчадие греха…
Мы сидели с отцом Святополком в боковом, переоборудованном под библиотеку приделе собора, где рядом со старинными экземплярами Священного Писания посвечивал экраном компьютер, и, развернув Апокалипсис, настоятель прочел место, подтверждающее верность квантовой механики, теории относительности и возможности путешествий во времени. А также обосновывающее полную правдоподобность существования транслируемых пульсирующей на орбите плазменной Линзой Наблюдателей. И тут он открыл сайт про секту, которая, подобно стремившимся овладеть секретами левитации посредством алхимических ухищрений и заклинаний средневековым чернокнижникам, путешествует во времени с помощью компьютерных игр. И пока он увлёкся, рассказывая, я смотрел на него в полумраке придела, и мне казалось, что он — пятое или десятое отпочкование моего распавшегося «я», которое неизбежно должно вернуться в материнскую плазменную Линзу, как только Наблюдатель-фискал надавит на кнопку аннигилятора.
— Вот их гуру и его подручная, — открыл отец Святополк картинку, на которой я узнал наших редакционных компьютерных богов — Николая Осинина и Лидию Лунёву. — Те ещё греховодники! Бывшие мои студенты с кафедры диэлектриков, полупроводников и исследований хронотопики. Вначале зачитывались Блаватской и Гурджиевым, потом заинтересовались выделением из физических тел астральных сущностей и некоторыми феноменами времени, а теперь вот через компьютерную сеть посылают пользователей в иные эпохи. Этакое турагенство, дающее возможность побывать хоть в Риме времён Марка Аврелия, хоть в масонской ложе во время магического сеанса, устроенного самим Калиостро…
— Но ведь это только компьютерная игра! — возразил я, чувствуя, как мне становится нехорошо.
— На вид — игра, на деле же… Беда в том, - достал о. Святополк с полки книжку с изображением вершин Гималаев на обложке,- что с подобного рода сатанизмом в истории уже устраивались игрища. К добру это не привело. Вот, - стал листать он фотографии,- экспедиции Блюмкина, Рериха, Эрнста Шеффера. Гималаями интересовались НКВД и СС…Да! Чуть не забыл! — вскинулся отец Святополк, совершив квантовый скачок с пятого на десятое. — На днях прихожане сообщили о том, что захоронение тех двоих, обгоревших на рельсах метрополитена, опустело. Их, кстати, рядом похоронили, как мужа и жену, хотя они так и остались неопознанными. Дело было так. Кладбищенский сторож видел, как ночью на небе засветилась Линза, потом из неё вышел луч, озаривший две могилы — и мёртвые, как сказано в Откровении, вышли наружу. Обгорелая кожа на них быстро восстановилась, и они — в чем были похоронены, в том и исчезли в лесу.
— А в чём они были похоронены? — почему-то спросил я, хотя и был на похоронах.
— Да в чём! Он вот в таком вот свитерке, как у тебя, в джинсах, а она — вот, — отец Святополк ткнул перстом в фотографию на Галинином романе. — Точь-в-точь как эта писательница…
Когда, спускаясь с паперти и проходя сквозь церковные ворота, я увидел рядом с ними самого себя в отрепьях с протянутой рукой, я, ссыпая в просящую подаяния, давно немытую горсть всю имеющуюся в наличности мелочь, не на шутку призадумался: а не следствие ли все это тех злокозненных манипуляций со временем компьютерщиков Осинина и Луневой, о которых предупреждал о. Святополк? Ко мне как бы придвинулась вплотную стена с фотографиями над моим редакционным компьютером, на эти фото «наложились» снимки, иллюстрирующие показанную о. Святополком книгу. Ба! Да ведь улыбчивый, водружающий флаг со зловещей свастикой на одну из вершин Гималаев эсэсовец был копия Осинин! А помогавшая ему фроляйн – Лунева. Сквозь арийский лик Шеффера проглядывала физиономия угробившего Мирбаха чекиста…
Глава 23. Монстры подземелья
«Выползая из всех щелей и закоулков своего мира, твари вовлекали его в бесконечную гонку, проявляясь то тут, то там, разыгрывая бесконечную шахматную партию, в которой они всегда опережали его на несколько ходов».
«Последний вампир», Уитли Стрибер
Пока металлургический магнат Семён Семёнович Корявый, прячась за тонированными стеклами от общественности и тоскующей в особняке жены, пежил Галину, даже не доставив её для этого на кипрский пляж, я писал про загадочную секту пристрастившихся к компьютерным играм пенсионеров, которые верили, что они совершают путешествия во времени. Они умерли, уйдя в эту игру так же увлеченно, как металлург — обладатель контрольного пакета акций — в раскаленную лаву страстей, закипающих вокруг работницы по связям с прессой. Так и осталось неясным — то ли пенсионеры были отравлены их гуру каким-то быстро распадающимся ядом (экспертиза ничего такого не обнаружила ни в крови, ни в желудках), то ли и в самом деле им удалось преодолеть временные барьеры и перейти из своих одряхлевших оболочек в юные тела ровесников своих внуков и внучек. Их гуру была ясноглазая, словно сошедшая с портретов Шилова, старушка-пенсионерка, вязавшая вечерами носки для своего внучка, читавшая Мегрэ, генерала Петрова, Грабового, чтившая «Агни Йогу», ходившая к гор - и обладминистрации на митинги протестов, осуждающих монетизацию льгот. Рачительная бабушка поощряла внука дружить с девочкой из соседнего подъезда. И небескорыстно. В эту самую девочку труженица прежних пятилеток и намеревалась переселиться после смерти.
Однажды в редакцию газеты, где кроме обязаловки отчётов с пресс-конференций и натуралистических зарисовок о бомжах, проститутках и побирушках я, как истинный многостаночник, вёл вместе с Серёгой Тавровым криминальную хронику и рубрику «Третий глаз», пришёл невзрачного вида дядя и выложил из кармана на стол, рядом с полустёртой компьютерной клавиатурой, завёрнутую в носовой платок синицу. Он долго объяснял, что между подбитой из рогатки птахой и ДТП, в котором погибла его дочь, существует прямая связь. Глядя на эту синицу, я ощутил, как холодок пробегает по моей спине. Не знаю как насчёт связи убитой синички с гибелью дочери читателя, а вот с Галиной Синицыной, как показалось мне тогда, связь была прямая и непосредственная. Вот так мы и жили. Дети гибли под колёсами (снимок распластанного на асфальте тельца облетел все газеты), а неизвестная пенсионерка (я грешным делом подозревал, что это таинственная тёща Серёги Таврова) рвалась реинкарнировать вместе со своими дряхлеющими ровесниками в резвящихся на детских площадках детишек. Для свершения сатанинского обряда в качестве исходного толчка цепной реакции реинкарнации обязательно нужна была жертва. И бывший гаишник (подлечив в психушке, убитого горем отца тихонько комиссовали) утверждал, что были свидетели, которые видели: делавшие вид, что стоят возле почты в очереди за пенсией, пять старух вытолкнули девочку под колёса не успевшей затормозить машины.
Типографский блюминг изрыгал романы о монстрах уже не из номера в номер «Городских слухов», а в виде брикетированной в покетбуки готовой продукции. Как только милицейские наряды собрали все босоножки и колготки, разбросанные нами с Серёгой по лесопосадкам, милицейский генерал Садыков что-то поумолк. Общественность попритихла. Ластоногая читательская рептилия погрузилась в спячку под своим панцирем из стёганых ватных одеял. И Анчоусов предпринял новые попытки поднятия стремительно заваливающегося вниз тиража. Газетный цепень выползал из вспученного свиного живота провинциальных СМИ, чтобы с фекальными выбросами воспроизводить себе подобных, но публику уже выворачивало. Читательский океан ломился в телефонные трубки. Он спрашивал про «минет» и «пару палок», воспроизводя лексику очередного опуса, по которому Шура, Анчоусов и Дунькин прошлись для оживляжа красным фломастером, а хуже того — вопрошал: а есть ли противоядие от укусов поселившихся в туннелях под городом ужасных вампирических существ неизвестного науке биологического происхождения? Всё, что было напечатано в газете, читательская плазма воспринимала, как документальный репортаж с продолжением, и не могла понять — почему репортажу отдано так много места и отчего не принимает мер мэр и не размыкает губ онемевший губернатор, или их тоже уже затащили в ветвящиеся от основного ствола метрополитена ходы и высосали?
Плазма читателей «Городских слухов» грозила отхлынуть от киосков — и Анчоусов дал-таки команду остановить печатание шедевра с обещанием последующего его выхода в издательстве Ненасытина. Метящий в мастера бестселлера Шура бесился и искал недоброжелателей.
Милиция бдела. И тогда мы с Серёгой задумали учинить новую мистификацию…
Для того и притормаживал я у иконной лавки, копался в скучноватых наставлениях отцов церкви, ворошил американскую фантастику и руководства по прогнозированию и выправлению кармы, что здесь всегда толклись контактёры, эзотерики, провидцы, мыслящие вполне в духе Даниила Андреева и славного тибетского монашества. Не потому ли всё происшедшее далее напоминало что-то мистерийно-мистическое чуть ли не в абсолюте? Всё это случилось уже после того, как на летучке был отмечен мой очерк о компьютерных путешественниках во времени, в котором я, конечно, умолчал о злодейских манипуляциях Осинина и Лунёвой, надеясь, что рано или поздно они как-нибудь сами засыплются. После того, как я допер, что они одновременно существуют в нескольких временных коридорах, в одном из которых им выпала судьба штурмующих Гималаи белокурых бестий, я затаился, как свято хранящие космические скрижали махатмы в пещерах.
Редакцию одолели звонками и завалили письмами. Оказалось, что чуть ли не на каждом перекрёстке города сбило машиной по девочке или мальчику, и всюду при этом присутствовали желающие омоложения старики и старушки. Анчоусов, несмотря на насупленные брови Шуры, пожал мне руку и вручил конверт с повышенным гонораром. Но всё это было всего лишь очередным соединением стёклышек в калейдоскопе, которые составлялись в узор лишь потому, что все мы действительно представляли собою что-то вроде осколков в снабжённой зеркалами детской игрушке-трубке. Мне до сих пор кажется, что главными действующими лицами во всём случившемся далее были цветочница, читающая очередной детектив (возможно, это был уже упакованный в покетбук, написанный без моего соучастия плод коллективного творчества не на шутку расписавшихся Туркина, Анчоусова и Дунькина, иначе зачем бы им запираться вечерами в кабинете главного), гитарист, наигрывающий блюз на уже подключенной электрогитаре, и их подросшее дитятко, забавляющееся откопанной в затянутой паутиной кладовке картонной трубой с зеркалами и разноцветными стёклышками внутри. Найти такое ретро в эру караоке и компьютерных игр так же непросто, как поднять со дна морского подзорную трубу затонувшего пиратского судна. Но…
«Искони бе слово». А потом ещё слово. А потом слова начинают соединяться, перетекать одно в другое, материализоваться. Слившись воедино, несколько сюжетов проступили на страницах читаемого цветочницей Светой покетбука — и все мы попали под власть производимых её шевелящимися губами магических заклинаний.
Во второй раз рука опустилась на моё плечо как раз у лотка с эзотерической литературой; до книжного развала с детективами (их я хотел оставить на десерт) я так и не добрался. Но всё, что произошло дальше, создало полную иллюзию, будто я попал по ту сторону обложки с трупом у колеса джипа, киллером, припавшим к прикладу и оптическому прицелу винтовки и обольстительно улыбающейся блондинкой с выпирающими из топика силиконовыми титьками. Книжку с этой картинкой я уже не раз разламывал в разных местах — дрянь была несусветная, но обилие глаголов «стрелять», «бить», «убегать» завораживало. И вот… Кал еси, гной еси, как выражался неистовый протопоп.
Обернувшись на столь недружелюбные похлопывания по плечу, я обнаружил, что рука-пылевыбивалка, спутавшая меня со столетним, пропитавшимся пылью ковром, принадлежит существу из племени камуфляжников, преграждающих проход опоздавшим на пресс-конференции или оттесняющих гладиаторскими щитами разбушевавшихся оппозиционеров. В других временах эта публика камуфлировалась под легионеров, затаптывающих в пыль манускрипты, когда морщинистый бородатый хрыч в драной хламиде, пристроившись на камушке, пытался записать последние слова мага, брошенного в яму со львами.
— Пройдёмте! — вежливо улыбаясь, предложил блюститель порядка.
Рука моя потянулась за удостоверением представителя второй древнейшей, но, подумав о том, что репортаж сам плывет в руки, я решил сыграть в игру «журналист меняет профессию». Перевоплощаться в бомжа, продавца газет, сборщика стеклотары мне уже доводилось. Почему бы теперь не посмотреть, как менты обслуживают инаковерующих, тяготеющих к сектантству и оккультизму? Подобно римским голоногим обладателям шлемов с петушиными гребешками, по городу рыскали милиционеры, ищущие сатанистов. Всё-таки девочка — в колодце. Мальчики, начитавшиеся Алистера Кроули. Бабушки, воплощающиеся в девочек. Трупы с вырезанными гениталиями — по лесопосадкам. Производимые в окрестностях церкви «заказняки». Не говоря уж об умыкнутом «Корабле на мели» Айвазовского и утекающих через таможню бивнях родины. Я знал, что меня сейчас как пить дать прокрутят через компьютерный банк данных, чтобы установить, не причастен ли я к хаббардизму, не вхожу ли в число распространителей порнографических картинок Детей Бога? Ну а почему бы, допустим, не посмотреть, как милиция идентифицирует лиц, напоминающих чеченских террористов? А я как раз обладал теми чертами лица, которое благодаря бороде и специфичной внешности принимали то за фэйс чечена-вахабита, то за лик православного священника, то за обличие опростившегося до детскости отпрыска некогда бежавших в Сибирь хлыстов.
— Здесь недалеко! — подпихивал меня резиновой дубинкой в спину.
Милиционер. Миновав контроль и зайдя в комнату дежурного, где, безучастно глядя через стекло, сидел молоденький сержант, мы вошли в боковую комнату. Милиционер плотно прикрыл за собой двери. К стене скотчем были приклеены несколько фотопортретов удивительно похожих на меня бородачей.
— Может быть, документы предъявить? — спросил я. — Или будете обыскивать на предмет наличия взрывчатки?
Я почему-то подумал о том, что, может быть, милиционер принял меня за последнего из Аум-Сенрике?
— Нет! — показал белый ряд зубов вежливый мент, на плечах кителя которого ангельскими крылышками топорщились майорские погоны, и отворил ещё одну дверку. За ней открылась ведущая вниз лестница.
— Прошу! — произнес майор, звякнув наручниками.
Накаты адреналиновой эйфории делали развитие событий интересными. Еретика вели в инквизиторский каземат. Это, пожалуй, было покруче «электрического стула» у Дунькина! Только не надо спешить с трюком — удостоверение наголо! Тем более что теперь, когда я полностью в его власти, не совсем понятно — как он отреагирует на моё движение руки за пазуху, да и не подействует ли на него пурпурная картонка с золочёными буковками, как красная тряпка на Вола, мгновенно превращающегося в разъярённого быка?
Ступени убегали вниз, теряясь в полумраке. Лампочки на стенах, ниши, где видны были заплесневелые трубы городских коммуникаций — всё это тянулось довольно долго, пока мы не достигли горизонтального коридора. Я был наслышан о том, что переходы под Домом офицеров переоборудованы из бункера, куда в случае чего вместе с генералитетом СибВО должны были прятаться обкомовские работники, но я и подозревать не мог, что здесь столько ходов! (Говорили так же, что норы под городом нарыты со времен Гражданской войны и строительства оперного театра.) Предположим, вот в этот боковой туннель, куда уходят рельсы, должен был прятаться вагон с первым секретарём обкома, его домочадцами, кошкой и собакой. (Вполне возможно, до того здесь рассчитывали спрятаться Колчак или барон фон Унгерн.) Ну кого они ещё могли с собой прихватить в свой бункер? Любимую секретаршу? Личного повара? Заведующего идеологическим отделом? Председателя облисполкома? Номенклатурную челядь? Лошадей? Допустим, вот эта нора была предназначена для окружного командного состава. И где-то в её конце всё ещё существует помещение с картой мира, пультом, экранами радаров. (А прежде здесь располагались подземные конюшни.) Всё это опечатано, засекречено. И в любой момент, открыв тяжёлые бронированные двери, можно усесться за пульт и дать прикурить той самой Линзе-плазмоиду на околоземной орбите, чтоб не морочила людям головы. Кто знает, может быть, в каждом канализационном колодце, под каждой говнопередающей трубой запрятано по межконтинентальной ракете, и их не отыщет никакая ооновская комиссия. Нажатие на кнопку — осколки чугунных труб, фекальные брызги — и столица Сибири выплёвывает из своих недр ядерную начинку в том самом месте, откуда веком раньше планировался выход несокрушимой конницы.
Размышляя обо всём этом, я двигался по лабиринту, направляемый подталкиваниями в спину резиновой дубины.
Кроме того, из-за посещавших меня в последнее время мучительных раздвоений сознания, я был не вполне уверен, что в это же самое время я не находился в бетонно-стеклянной забегаловке «Лепестков», где мы, случалось, встречались с одноглазым Кешей-гармонистом, одноногим Витей-гитаристом и двуногим коллегой калеки Геной. Случалось, здесь бывал толкинист и губной гармошечник Тимофей по кличке Апостол. На него и его подружку Олю я наткнулся в переходе на станции метро «Октябрьская». Он дубасил по струнам и сопел на приделанной к специальной железке «губнушке» «Дом восходящего солнца». Потом вдруг выплюнул губную гармошку и запел:
Меч на боку, забрало и плащ —
что на веку нам суждено?
Что ж, атакуй! Змей, как плющ,
сжимает кольцами, давит и плющит,
в недрах пещеры темно.
Я останавливался и слушал балладу о том, как храбрый рыцарь кинулся в бой с непобедимым драконом. Понятно, ни плаща, ни лат, ни красного тамплиерского креста поверх белоснежной развивающейся хламиды на Тимофее не было, но зато наличествовали голубые глаза, русые патлы до плеч и панковая подружка Оля с кепкой для сбора монет. Так вот мы и познакомились с Тимохой.
Глава 24. Тотем куриного Бога
«Что же такое тотем? Обыкновенно животное, идущее в пищу, безвредное или опасное, внушающее страх, реже растение или сила природы (дождь, вода), находящиеся в определённом отношении ко всей семье. Тотем, во-первых, является праотцем всей семьи, кроме того, ангелом-хранителем и помощником, предрекающим будущее и узнающим и милующим своих детей, даже если обычно он опасен для других».
«Тотем и табу», Зигмунд Фрейд
Нутро электрички. Давка часа пик. Телеэкраны, в тысячный раз прокручивающие те же самые рекламные ролики. По жаркому песку бежит игуана, напоминающая о крокодиле, давшем дёру из зоопарка через канализацию. Загорелые купальщицы и купальщики плюхаются в морскую лазурь. В одной из парочек я узнаю Галину и металлургического магната: она, по моей версии, сейчас охмуряет спонсора где-то на островах Карибского бассейна, давшего название кризису, связанному с тем, что наши атомные боеголовки упёрлись в пах штата Флорида. Экранные пингвины ковыляют по сахарно-белому с голубоватым оттенком льду, и им нет дела до кокосовых пальм и жарких песков. Не нужен им также и берег турецкий. Это уже сотни раз виденная реклама идеально защищающей от болезнетворных микробов зубной пасты. Еду ужатый, подобно содержимому тюбика. Завис над игуаноподобной старухой с авоськой на коленях, из которой выглядывает култышка «ножки Буша». Вот оно — типичное отпочкование морского чудища, обрушивающего на нас с Серёгой Тавровым свой рык по телефонным проводам! Дремлет в оцепенении. Хитин лап и рог панциря. Тем обворожительней выглядит девушка с покетбуком — рядом. Это бестселлер про пряную любовь и знойную жестокость. Девушка переворачивает страницу. Кое-как изловчась, чтобы читать вверх тормашками, фиксирую нечто созданное помимо моей фабрики грёз, не на шутку призадумавшись о том, что Галина Синицына нашла себе другого литературного негра, и теперь уже не я насилую клаву компьютера, обрядясь в её лифчик. Всё же читать в таком положении не очень удобно, поэтому кроме слов «отель», «солёные адриатические брызги» и чего-то про постельного скакуна арабских кровей всё остальное — лишь зыбкая сетка типографского шрифта.
Чудом дешифрованная фраза порождает взрыв негодования: несогласный с доводами Мрачного Ирониста Ревнивый Мавр находит, что эта стряпня — дело рук Серёги Туркина, некогда послужившего начинающей писательнице Галине Синицыной прототипом кареглазого мальчика, чьи генеалогические корни уходили во времена русско-турецких войн, а пронзая их — в древнеегипетские мистерии с человеческими жертвоприношениями.
Девушка закрывает книжку и, вывернув запястье на излом, смотрит на часики, блестящей змейкой греющиеся у края рукава демисезонного пальто. Взгляд тёртого жизнью ловеласа приклеивается к картинке на обложке, наглядно иллюстрирующей содержимое книжки. Она — белокурая бестия с крутым окорочком бедра навыворот. Он — ясноглазый ариец, в спешке не успевший снять даже рубахи и кобуры с торчащей из неё рукоятью револьвера. Причем, благодаря вверхтормашечному положению книги, наездница так оседлала вьючное животное сладострастия, что не оставалось ни какого сомнения: это родео будет длиться до тех пор, пока бык не превратится в одни рога, копыта и тощий хвост. Художник всё прорисовал с фотографической тщательностью: всунутый в кобуру револьвер иносказательно намекал на то, как там всё это соединяется (мелькнуло: когда-то забракованная Галиной метафора всё же пошла в дело!). Если бы не перекрывающий часть изображения палец с ногтем огненного перламутра! А может быть, тут и нет никаких намеков и метонимий, а просто ветерану секс-революции так же повсюду мерещатся вставляющиеся друг в друга гениталии, как ветерану, герою труда — рашпили, сношающие бесплодные дюралюминиевые дыры? Ну что мне поделать с собою, если даже вот этот, въезжающий в раструб метро вагон, мнится пустотелым металлическим фаллосом, в боках которого проделаны застеклённые оконца, внутри пещеристого тела установлены скамейки и смонтированы поручни! И вот теперь меня потряхивает и куда-то тащит, чтобы выпихнуть наружу с очередным сгустком человеко-сперматозавров. Это неизбежная кульминация пахтания Отцом-Городом Матери-Земли, ежегодного совокупления конопато-ушастеньких Городовичков с дебелыми Обинушками;. Впрочем, вполне возможно, всё это — лишь результат происходящего на ложе в моём гроте бога Пана на пятом этаже. И девушка опять открывает книжку, чтобы бормотать тантрические заклинания.
Станция «Площадь имени» того самого вождя-мыслителя, чья чугунная лысина, дефлорировав каменную плеву девственного гранита, в неодолимом рывке в космос вознеслась к сибирскому хмурому небушку. Скульптура разодрала высокоуглеродистый гондон на две полы зябкого пальтишка; обрывок презерватива — кепчонкой в руке, впрочем, скорее всего — это присевший выдавить из себя какаху сизарь. Девушка захлопывает книжку. Голубь взлетает, спугнутый. «Унесённые страстью» — мелькает на обложке, и я убеждаюсь, что это, конечно же, продукт какой-то конкурирующей фирмы из тех детективописцев и сочинительниц пряно-эротических женских романов, что толкутся, как скульптурная группа — на пьедестале монумента, заслоняющего оперный, на крылечке издательства для лохов: хмурые, устрёмленные вдаль взгляды из-под будёновки, козырька фуражки, винтовка на плече, колос — в одной, факел — в другой руке.
Кутаясь в полушалочек Родины-матери, бабушка подхватывает авоську. Здесь нам выходить — всем троим. Поколение за поколением. От превратившихся в потрескавшиеся крынки рабкринок до фантазёрок, воображающих себя летящими над хладным зерцалом льда фигуристками и прямо в коньках падающими в жаркие объятия зазеркалья с презентациями, кругосветками, коленопреклоненными красавцами из банкиров.
— Ой! — говорит девушка, чуть не натыкаясь на перроне на словно выпрыгнувшего из картинки юношу, только без револьвера на плечевом ремне. А может быть, ремень и есть, но я его не вижу под курткой на пингвиньем пухе.
— Иван, я так спешила! Давно ждёшь?
Материализовавшийся обложечный Иван заключает в объятья ведунью, вызвавшую его сюда чернокнижными манипуляциями. «Он ухватил её за талию, она его — за гениталию», — напоминает Мрачный Иронист выбракованную заготовку Юмориста-Сатирика Кости Глотова, злорадствуя по поводу эпидемии словесного плоскостопия. Меня сжимает и выдавливает вовне. Стиснутый с одной стороны мартеновским боком дамы в бобровой шубе, с другого уязвляемый острым локтем проворно двинувшимся к выходу существом, питающимся «ножками Буша», я продвигаюсь, убеждаясь в точности ленинского определения интеллигенции. Стимулируемый ба-Бушкой с авоськой (стимул — эта такая палка с металлическим шипом-наконечником, который погонщик вонзает в задубелую кожу слона), устремляюсь к эскалатору, возложив руку на талию Мэри-арфистки, прибежавшей на свидание от ребёнка, от свирепого дирижёра-любовника; ясно, что материализовавшийся Иван — это я и есть, а хмырь, заглядывавший в чужую книжку, чтобы, добежав до ближайшего подъезда и спрятавшись в лифте, закончить блаженное чтение актом облегчающей мастурбации (таково свойство порнографии — она должна возбуждать!) — другой. В момент, когда вагон доставил Мэри, маньяк-онанист выскочил навстречу мне и, пройдя меня насквозь, вознёсся в сторону башмаков монумента.
Вход на эскалатор — это (если длить метафору пахтания Городовичком Обинушки) шейка матки, жадно всасывающая порцию белкового сгустка, в котором копошатся юркие существа с жгутикообразными хвостиками, даже отдалённо не напоминающие прямоходящий венец эволюции. С уверенностью гомо эректуса ступаю на подвижные ступени, радуюсь тому, что дирижёр напрасно сейчас тычет своей остренькой палочкой в сторону арфы, обязанность которой — изображать журчание волшебного ручья. Все звуки этого ручейка утекли вместе со мной сразу после антракта, через буфет на втором этаже. И хотя это было в прошлый раз, а теперь она сбежала не от дирижёра, а от ребёнка, доверив его маме, пока репетирует муж скрипач, донимаемый всё тем же чернофалдовым орнитоидом-дирижёром, всё равно. Прижав Мэри к куртке, впиваюсь в её губки. Приволакивая за собой игуаний хвост, ба-Бушка пристраивается рядом. Теперь мы на одной ступеньке. Хотя нас разделяет промежуток времени, равновеликий геологическому периоду, в который успели втиснуться все фазы, непрерывной цепью соединяющие существ, только что слезших с дерева, с телегомункулусами. Антисексуальная игуано-неандерталка что-то бормочет, вызывая дух тотема-Бройлера. Её курино-рептилоидная шея трясётся. Неужто птичий грипп? Кажется, вот-вот на её кривые, крепко вцепившиеся в ступеньку, разлапистые, соединённые перепонками когти должно выкатиться яйцо. И дальше она заковыляет на манер пингвина, удерживая кругло-белое диво на лапах, чтобы потом из этого кокона проклюнулась точно такая же старуха с авоськой и торчащим из неё окорочком, только в десятикратно уменьшенном масштабе.
— Вот молодёжь! — клечетеет бабка. — Лижутся прям на эскалаторе! И не боятся, что их зажуёт! Люди кругом, а оне! Где стыд? А по телевизору чё кажуть? Секс и насилие… Жутики…
Кажется, этот голос и этот же самый текст я уже слышал в телефонной трубке своего редакционного узилища. И разве не права премудрая? Эскалатор возносит нас ввысь. Помесь игуаны, бройлера и комсомолки сороковых продолжает издавать звуки. Это существо размножается путем откладывания яиц, которые зачинаются в её изуродованных мутациями фаллопиевых трубах. Этому чудовищу не требуется совокупления. Эскалатор доставляет старуху прямо к аптечному лотку, словно нарочно устроенному здесь для того, чтобы остановить движение яйца по неостановимому конвейеру изувеченных куриными анаболиками, абортами и радионуклидным загрязнением внутренним половым органам. У неё, в её однокомнатной — дюжина махоньких мерзких, зловонных старушонок — абсолютных копий её, и ей хошь не хошь приходится кормить их, скупая дешёвые окорочка, заглатывая их целиком и срыгивая теплую кашицу из зоба прямо в жадные клювики.
На нас наезжает витрина аптечного киоска. Мы с Мэри смотримся в неё, как в горный ручей. Перебредая его, и сбегают арфистки (чья обязанность изображать на струнах журчание воды) с залётными корреспондентами через театральный буфет. Где тут средство для проверки утверждения насчёт совместимости гения и злодейства? Капли в пузырьке. Порошок в перстне. А уж кому подлить или подсыпать в кубок — найдётся! Это моя профессия: цедить и подмешивать словесный яд. Убившая Моцарта аква тофана отравляла не сразу, а мало-помалу, исподволь. Место, где притулился аптечный ларёк и тянутся по стенам цветные плакаты с кандидатом в депутаты, клоуном и поп-звездой, — это гранитно-мраморная матка метрополитенной великанши-роженицы, которая в конце концов должна зачать. Подземный ход под помпезноколонное строение, где по сцене ходят два мужика в кафтанах и курчавых париках и орут под взмахи чернофалдового мудака из оркестровой ямы, — вот за этой дверцей, не иначе!
— Чё-то я, милая, не разберу, почем ноне муравьиный спирт?
— А у нас его нет, бабуль!
— А! У вас токо эти! Противозачатошные! С голыми девками на тикетках! Этого мне не надоть! Этим поясницы не вылечишь!
— Ну, вот это от склероза возьмите!
— Што стоит?
— Двести пятьдесят рублей…
— Да ты чё, сдурела?! За такие деньги от склерозу лечиться!
Как раз в этот момент из-под всей измятой серой юбки, при свете бледной неоновой зари на мрамор метрополитена выкатывается яйцо. Суетливо подцепив его на перепончатые лапищи, бабка сосредоточенно движется далее. Нам с Мэри пока не нужно муравьиного спирта для поясницы, а что до терзаний насчёт деления человечества на Моцартов и Сальери, то это можно пережить.
— Милый! — прижимает голову к моей куртке Мэри, на мгновение заставляя забыть о Карибских островах, предательнице Галине, металлургическом магнате, бросающемся с ней в набежавшую волну. Главное — чтобы и пианистка Катя не появилась здесь же в сию секунду и не разрушила идиллии. Ей я тоже звонил и назначал свидание на этой же станции, да и журналистке Вале, и рекламной полубогине Даше, с которой мы обменивались радостями жизни башь на башь. Мэри просто опередила всех этих копуш. И надо было смываться, чтобы потом ввернуть дезу, говоря о срочном редакционном задании.
Сделав семенящий шаг с яйцом на лапах, ба-Бушка, пингвинея, оборачивается и осуждающе провожает нас разинутым клювом. Может быть, и игуанодонобройлерша когда-то была такой же кралей-милашкой, как и Мэри, и в её чреве набухало, пенилось и пузырилось не нечто, рвущееся воплотиться в клювастых уродцев, а в прекрасных голопопых младенцев. Но во времена, когда пахали её целину, не принято было раздеваться перед фотоаппаратом, пользоваться противозачаточными и канканить на сцене стриптиз-баров в чёрных ажурных колготках. Рассчитавшись за презервативы, Мэри суёт коробочку в сумочку из кожи героинь минувших пятилеток рядом с остросюжетным романом. Предвкушаю: по выходу из метро события, ожидающие нас, будут развиваться не менее остро и сюжетно, нежели в греющемся рядом с пудреницей покетбуке, где по всем законам жанра по ходу дела должно произойти не меньше двух десятков постельных сцен с грязным смакованием подробностей. Ну не кинется же она сейчас назад в оркестровую яму, тем более что там подстерегает её не только злодей с дирижёрской палочкой, но и ревнивец со смычком!
Подпираемые толпой, выдавливающей нас наружу, плотной кучкой продвигаемся дальше. И мы с Мэри, и старуха, и хмырь-соглядатай, провожавший книжку жадным взглядом, когда Мэри- арфистка уталкивала её в сумочку. Тут всё, что выталкивается из мраморной матки, пропихивается в мгновенно наступающее будущее. И вот — цветы! Бахромою свисающие. Словно жабры из полипов — киста к кисте, метастазы запаха и цвета. Влекущие. Эротичные. Возможно, даже порнографичные бутоны, воспроизводящие формы раззявленных малых и больших губ, губок, коралловидных клитороподобных отростков, словно разрастающаяся внутрь дышащего жизнью, изнемогающего от переполняющего его желания организма великолепная галлюцинация. Властвующая над всем этим чудом, Света, уткнувшаяся в книжку, вздрагивает от моего голоса.
— Мне, пожалуйста, вот эту розу!
Рыцарский ритуал истинных розенкрейцеров: цветы к подножию замка с бледноланитной красавицей в стрельчатом окне. Дама подносит цветок к лицу. Доносящийся снизу гул останавливающейся электрички свидетельствует о достижении очередного оргазма и очередном выплеске текучего и клейкого в горячее и липкое… Слезоточивыми гляделками ба-Бушка смотрит на шеренгу цветочниц, предлагающих розы, гвоздики, хризантемы. Хмырь суёт нос во все бутоны и венчики, словно его нос — запахохранилище, но ничего не покупает. Волоча авоську с «ножками Буша» и буханкой хлеба, громыхая, как опустевшая электричка, медалью «За трудовые подвиги», старуха бормочет арию подруги птицелова Папагены, желая воскресить прошлое с помощью волшебных колокольчиков. Меж обдрябших грудей героини романов про замесы, грохот прокатных станов и огнь плавильных печей на суровой нитке болтается тщедушно-пеллагрический Мессия со свалившейся набок куриной головкой. Рядом привязана сушёная куриная лапа. Ею осеняет вождица адептов тотема во время литургических оргий во славу Куриного Бога.
Воображая себя на миг металлургическим магнатом, бросаю монету на Генин чехол, изловчаясь при этом так, чтобы волочащийся следом хмырь-онанист не поймал его на лету и не сунул за щеку. Ухватив за руку украденную с премьеры дирижёрову подружку, обгоняю неуклюже ковыляющую с яйцом на лапах игуано-пингвиниху. Пробегая диезы последних ступенек, вдыхаем морозный воздух. Белый, как букли Моцарта, снег на мраморе монумента. Холодный, как месть Сальери, ветер. Не иначе — сегодня ночью заявится к старухе Чёрный Пингвин и закажет написать реквием. Каплей аквы тофаны в кубок и дирижёра, и Галины, которая теперь, поди, уже пенит карибскую волну на простыне в отеле — розан у счастливого лица Мэри. Многокрылым мотыльком покетбук летит в бутон забычкованной урны. Лицо писательницы на обложке, в квадратике — промельком. Где-то я его видел — среди топтавшихся на крылечке издательства или входящих-исходящих в редакционные теснины? Хмырь ныряет в мусорницу и, выхватив оттуда ядовитое чтиво, убегает мимо витрины магазина «Кристалл», будто овладел драгоценностью, уединившись с которой в лифте десятиэтажки он изольет семя на обложечную красотку.
Ковыляя, чтобы не обронить яйцо, старуха терпеливо тащит авоську, удаляясь в сторону громады мэрии мимо склеротических крон дерев. А ведь когда-то и она была увлекаема юным значкистом ГТО в тепло квартиры с задёрнутыми шторами, слониками на этажерке и голосом Бернеса в патефонном раструбе! Я смотрю ей вслед, и чёрные сумрачные кроны дедуктивной логики осеняет догадка: это они — вылупившиеся из яиц орнитоиды — и «заказывают» моих жертв киллеризма, мстя, потому как разуверились в других формах протеста! Продают квартиры, сбиваясь в одной, как в курятнике, и на вырученные деньги нанимают стрелков. Да, они – заказчицы, а не граф Елгин, выходящий на межвременную связь с помощью кристалла, подаренного ему вертопрахом Джузеппе Бальзамо. Ба-Бушки могли воспользоваться и услугами биатлонисток, которые взялись мстить чохом. А уж путешествовать во времени с помощью Интернета этим сектантам-изуверам сам тотем Куриного Бога велел!
Шумела вода в душе. Грёза дирижёровых поллюций выпархивала, обмотанная драконом на махровом полотенце — и, схватив со стола мыльную пену распечаток, бубнила:
«Стряхивая с лацканов пиджака липкую глину, мэр приветственно кивнул секретарше — и, потянув на себя ручку двери, вошел в просторный кабинет.
Странные вещи стали твориться с мэром города Фёдором Игнатьичем Гузкиным с тех пор, как похоронили двух его настигнутых киллерской пулей замов. Его стало тянуть в метро. В газете «Городские слухи» Фёдор Игнатьич прочёл о путешествиях гробов по подземельям. И теперь он не мог избавиться от желания проверить, а нет ли и действительно где каких ходов, нет ли таких отодвигающихся мраморных плит на станциях, из-за которых по ночам выдвигались бы гробы? Ему хотелось самому убедиться - не встают ли из тех домовин покойники и, управляемые манипуляциями чёрной мессы, не выходят ли они на белый свет, чтобы рассосаться по учреждениям? Наконец, ему хотелось подтвердить или опровергнуть слухи о том, что некоторые сотрудники мэрии лишь для блезира отправляются вечерами домой, кто — на служебном или личном транспорте, а кто — и на метро. На самом же деле они обладают свойством, раздвоясь и даже расчетверясь, находиться и в спальне с женой, и в ночном клубе с любовницей, и — что самое невероятное — в виде летающих по подземелью крылатых гадов или рыщущих по лесопосадкам лунных волков одновременно. Хотелось ему вникнуть и в таинственную механику посещавших его снов: в тех навязчивых сновидениях он видел себя манекеном в ДУМе(Доме Универсальной Мечты).
Войдя в кабинет, Гузкин уселся за стол и сразу решил провести совещание с новым замом.
— Клавдия! — пригласите нового! — нажал он кнопку селекторной связи.
Дверь отворилась. Гузкин поднял голову и увидел, что перед ним не новый зам, а прежний, то есть барахольный магнат Кидальник по прозвищу Китаец.
— Мы ж тебя вчера похоронили! С почестями! Неподалёку от твоего предшественника Уткина и депутата Лосева.
— Вы что-то путаете, — сузил Китаец и без того узкие глаза-щёлки. — Это мы вас похоронили! Вон у вас ещё и глина на пиджаке, и ботинки все в земле выпачканы. Присмотритесь к рубахе под галстуком. Там у вас дырочка с окровавленным пятнышком. Отверстие, проделанное пулей киллера. А вот, — Китаец выложил на стол свидетельство о смерти и бросил веером фотографии, — подтверждение того, что прав я, а не ты, Федя.
— Но-но, без фамильярностей! Всё-таки я лицо, представляющее власть!
Мэр склонился над фотками. На одной из них он увидел себя в гробу, заваленном цветами, плачущую жену Клавдию, дочь Галину, сына Эрика, губернатора Золотогоркина, депутата Крайнова. На другой — то, как гроб опускают на верёвках в могилу. На третьей — суглинистый холмик, мраморный обелиск, фотографию, надпись.
— Фальсификация, сфабрикованная на компьютере! Фальшивка! — отбросил он и фотоснимки, и свидетельство о смерти.
— Ничего! Мы сделаем так, что всё сойдется!
Китаец выхватил из-за пазухи пистолет с набалдашником глушителя.
— И не дави на кнопку! Все провода обрезаны, а секретарша лежит в приёмной в луже крови! Так что охрана ничего не услышит!
— Как — не услышит?! Не может быть! — прошелестел онемевшими губами Гузкин, сжав их в трубочку. За эту, по наследству передаваемую из поколения в поколение особенность мимики, видать, и была дана Гузкиным столь экзотическая фамилия. Ожидая выстрела, Фёдор Игнатьич прижал руку к груди, сунув её под галстук, и ойкнул: палец провалился в кругленькое отверстие. Покрутив в дыре указательным, он вынул вымазанный сукровичной слизью перст.
— Что это? — протянул он палец Китайцу.
— А то, — осклабился мафиози, — что ты давно покойник, — и, воткнув пистолет в карман, вышел из кабинета.
— Подкрепитесь! — вынырнула, как кукушка из ходиков, секретарша, несмотря на слова зама живёхонька-здоровёхонька — и на край стола брякнулся поднос с бутербродами на тарелке. Колокольцем Папагены звякнула ложка о перламутровый фарфор с золотым ободком (Гузкин был страстным поклонником оперы и балета).
Задумчиво помешивая кофе в чашке и поднеся ко рту первый попавшийся сэндвич, Гузкин обнаружил, что поверх хлебушка лежит отрезанное ухо — и, заорав, отбросил мерзостную гадость. «Неужели это результат того, что в проданном недавно под ресторан помещении располагался морг?!» — подумал он и обнаружил, что стоит вместе с приёмной комиссией на новой станции метро.
Он, его зам Трофим Кидальник, губернатор Золотогоркин и депутат Госдумы Крайнов топтались рядом в оранжевых касках.
— А что, действительно под городом есть полости, в которых кем-то спрятаны блуждающие гробы? — улыбнувшись, спросил Виталий Викторович Золотогоркин, оглядывая подсвеченный неоном, одетый в алюминий потолок и обращаясь к прорабу. — И что выходы тех, прорытых ещё до революции, нор ведут к самому Алтаю и даже к Гималаям?
— Действительно, Виталий Викторович, — зарделся прораб. — И мы хотели показать вам одну нишу, о наличии которой пока просят не разглашать археологи и секретчики из ФСБ.
— Любопытно! Вы прямо бы с сюрприза и начинали…
Свита уселась в подошедшую совершенно пустую электричку — и через минуту она затормозила внутри туннеля.
— Это место вырыто ещё белогвардейцами, потом переоборудовано во времена всевластия КПСС! — комментировал прораб, вводя комиссию в темноватый боковой туннель.
— А! Я слышал про обкомовский бункер в колчаковских конюшнях! Это он и есть? – задумчиво произнес народный избранник Крайнов.
— Не совсем!
Стало светлее. Открылся отделанный мрамором зал. Нагнетая запах лепестков роз, работали кондиционеры. Делегация вступила в зал, уставленный великолепными саркофагами на пьедесталах.
— Свету и музыки! — отдал прораб команду суетливым ассистентам и, сняв каску, оказался хлыщом с косицей на затылке из накладных волос. Из-под спецовки халата выглядывал золочёный камзол.
— Куда вы нас привели? — возмутился Гузкин. Мы что, под оперным театром?
— Секундочку! — сказал факир, перекрикивая туш. — И повинуясь взмаху руки, крышки гробов отворились.
То, что увидел Гузкин в них, лучше бы ему было не видеть.
Хуже того — он отдавал себе отчёт в том, что всё ещё находится в своём кабинете, но не сидя за столом, а, уцепившись за оконную гардину когтями лап орнитоида, висит вниз головой и смотрит в щёлку между портьерами, как проплывают по улице в сторону часовни глубоководные рыбины фар.
Ему надоело так висеть — и, разжав пальцы-когти, он выпорхнул в открытую дверь, пролетел через приёмную, сделал вираж на лестничной площадке и винтовой полубочкой стал спускаться по пустой лестнице. Охранник не заметил, как мохнатое тельце с большими ушами фыркнуло крыльями и вылетело на улицу в то время, когда из мэрии выходил последний посетитель. Перелетев дорогу, существо нырнуло в зев метрополитена. Только вскинулась тётенька, торгующая эзотерической литературой — и Гузкин уже устремлялся в глубь тёмного туннеля. Здесь он услышал шелест других крыл, трепет других телец. Они летели туда, где их ждали отверстые саркофаги. Там, перевоплотясь из полиферов в подготавливаемые к трансгенерации; тела антропоидов, они лежали, сцепив поверх пиджаков пальцы жёлтых ладоней…»
Глава 25. Роковой пентакль
«…Мы воспользуемся таким известным в зарубежной литературе понятием, как «магический пятиугольник»…
«Выживание населения России», «Проблемы «Сфинкса XXI века», В.П. Казначеев, А.И. Акулов, А.А. Кисельников, И.Ф. Мангазов
Случалось, проваливаясь в прошловековье, я заставал свою спутницу в положениях неудобоприятных. Как-то, возвратясь с охоты на фазанов, я застыл в дверях обвешанный тушками добытых птиц и от изумления уронил на порог арбалет. Лучше бы я остался у ручья и продолжал любоваться, как плещутся форели в мельничной запруде, чем видеть такое! Для того ли оставил я келаря в крытой дубовым корьём и соломой избушке, чтобы он зашёл так далеко в своих куртуазных поползновениях! И это за то, что я обучил его удить рыбу, ловить птиц, вить мордушки и клетки из ивовых прутьев, чтобы зарабатывать на жизнь продажей карпов и щеглов на рынке! Уходя, я велел ему набрать хворосту, чтобы развести огонь в очаге. Это было не просто потому, что пучки моха и трута следовало запалить на улице, а так как в хижине не было ни единого окна, келарь мог воспользоваться отполированным стеклом, чтобы поймать им солнечный луч, лишь выйдя на поляну перед нашим убогим жильем. Подходя к нашему убежищу, я увидел, как курится дымок над трубой, и уже мысленно похвалил мальца, но когда я отворил двери, тех похвал и след простыл. С моею чернилкой, гусиным пером в руках и ещё неиспользованным пергаментом на коленях нахал возлежал в постели, декламируя сонет (вот на что он употребил преподанную ему мною учёбу складывания рифм!), а на его груди лежала златовласая головка моей пастушки. Даже щеглы в клетках попритихли от такой наглости. Всё было, конечно же, не совсем так, и я могу доверить манускрипту лишь аллегорический слепок происшедшего, проницательный же читатель поймёт, почему в то мгновение мне показалось, что в постели с моей красоткой резвится даже не келарь, уже успевший обзавестись пушком над губой и мяконькой бородкой, а осёл-трудяга, не жалеющий сил в пору, когда ему приходилось запрыгивать на того и ждущих ослиц. Вполне возможно, всё это было игрою отражения в большой выскобленной до блеска сковородке;, висевшей на стене над очагом, в которой мы жарили украдкой от герцогских егерей подбитую дичь, но, возможно, морочившие меня фантастикумы населённого эльфами, гномами и злыми духами леса тут ни при чём. А ведь были времена, когда мы резвились с моей Хлоей, как две форельки в чистом ручье!
В другой раз, в другом веке, я оказывался обморочен вызванным мною с помощью инкунабулы духом, представшим мне вначале в виде крылатого полифера, но затем обретшего черты вполне сформировавшегося юноши в камзоле, плаще, со шпагой на боку, в парчовом берете со страусовым пером. Лучше бы я не вызывал его в свою пропахшую снадобьями, серой, сурьмой, ртутью и ядовитыми смолами лабораторию. И как я не внял написанному мелким шрифтом предупреждению под картинкой крылатой, веретёнотелой гадины с щупальцами на морде, рядом с которой были изображены фазы воплощений этой мерзости в человека?! Для чего не доверился грозности выведенного по латыни memento?! Существо свободно проходило сквозь стены — и тут же просочилось в соседнюю спальню, где почивала под балдахином моя спутница. Дух овладел ею, какие бы ни произносил я заклятья. А вся сила его в том, что даже воплотившись, это существо сохраняет связь с окололунным пятном, которое описано многими чернокнижниками и некромантами и, как они утверждают, представляет собою своеобразный туннель, ведущий к небесным сферам, описанным у Платона. Нет сомнения, что та же сущность шла по нашим стопам, когда, раздобыв череп сибирского шамана, мы заперлись в комнатах на набережной Мойки, и, произнеся страшную клятву, попытались вступить в связь с духом Брута при помощи кристалла, завещанного князю Елгину самим Калиостро. Напрасно я рвал на кафтане кружева, топтал парик на паркете и целился в инфернальное существо из пистолета — оно овладело воплощением моих грёз, влезши в постель под балдахином. Пока я сидел у конторки с горящей свечей, золотящей колдовским светом корешки томов Вольтера, Руссо и Монтеня в книжном шкафу, пока я ворошил листы инкунабул, в одной из которых нашел старинный рисунок друидического ритуала (на лесной поляне меж дубов, на камне, лежала прекрасная обнажённая, а вокруг неё стояло пять жрецов с занесёнными для удара жертвенными ножами), всё это и произошло. Инкунабула была полна таинственных намёков о грядущем расчленении империи Гипербореи. Готический шрифт перемежался с рисунками, среди которых более всего моё внимание привлекли вписанная в Пентакль Ева и распнутый на Звезде Давида Адам. Текст описывал соответствие числа конечностей мужского и женского тела этим двум символам. А то место, где говорилось о приходе времен последних, было проиллюстрировано тремя гравюрами. На одной — пять купидонов целились из луков в символическое сердце. На другой — пять злобных карликов терзали девочку, прижимающую к груди куклу, на третьей — пять ведьм рвали на куски кучерявого младенца мужеского пола, чтобы, выварив его в котле, приготовить мазь для левитации. Так я сидел в спальне, за столом со свечой в канделябре, пока отлетала в мир сновидений моя возлюбленная. Вдруг что-то метнулось мимо. Запахло серой. Впрочем, то, что было увидено мною в зеркале, было не совсем человеком — то ли разросшийся, обретший подобие юноши, свечной огонь, то ли сгустившийся из дыма фантом! Не лучше было обнаружить того же хлыща, предлагающего моей возлюбленной прокатиться на велосипеде. Отворивши однажды двери в боковую комнату лаборатории, где хранились звёздные карты, глобус, секстант для измерения параллаксов, телескопы, я очутился в пространстве, заставленном этажеркой с книжками Льва Кассиля и Эренбурга, патефоном на комоде и с солнечным утром в окне. Выглянув в распахнутое окошко на улицу, я увидел мою суженую в крепдешиновом платьице, а в сторонке, возле сарая покуривающего «Беломорканал» велосипедиста из агентов КГБ в расстёгнутой на волосатой груди клетчатой ковбойке. Вполне возможно, я принял за мою подпольщицу какую-то другую значкистку ГТО из-за сверкания никелированных ободьев (они просто ослепили меня) — и всё-таки горечь измены влилась в моё сердце. Тем более, что, когда пришли изымать мои, порочащие строй писания, в горшке, из которого клетчатый ковбой вырвал фикус, обнаружились две рукописи: вторая принадлежала незнакомому мне автору, а именно: велосипедисту, который после того, как зажевало штанину и отломилась педаль, стал неумеренно восхвалять индустриальный Запад; с ним мы и пошли по этапу, деля одну самокрутку на двоих.
Что-то не совсем понятное происходило во всех временных коридорах, лучами звезды расходящихся от мгновения настоящего. Из златовласого юноши с арфой я перетёк в лысого, картофеленосого философа, чья ворчливая жёнушка корила меня за нехватку сестерций и надрывалась, принимая роды афинских рожениц в три смены. Из лютниста-арбалетчика я перерос в занудливого чернокнижника, чья златокосая дива-возлюбленная обернулась в зловредную каргу. Из придворного мудреца при академии Екатерины Дашковой — в старого, сломленного сибирской ссылкой графа, кропающего небылицы для своей подслеповатой Софьюшки, утисканной всеми её расплывшимися, как барабинская грязища, формами в подбитую ватой кацавейку и в чепец, чтобы греться у камина. Опять-таки я грешил на зеркала и картины, которыми украсила графиня гостиную. Были тут и в золочёные рамы обрамлённые живописные сцены, и призрачно мерцающие зерцала с потускневшей амальгамой, и отражающиеся в них полотна с аллегорическими сюжетами: старец, занесший нож над юношей, женщина, подносящая голову на блюде. Все эти персонажи начинали двигаться при свечном огне, тем более что вечерами, после того, как мне довелось поучаствовать в кампании двенадцатого года и ознакомиться с трудами лорда Байрона, я выкуривал порою кальянчик с опиумом. Но к этим калейдоскопическим хороводам миражных образов я попривык. А вот провалы в будущее (с некоторых пор они участились) меня по-прежнему удручали. Там люди вынуждены были жить в больших усыпальницах, в коих зимою тепло поддерживается не живым каминным огнем, а опутавшими всё дьявольскими путами из железа. Огромные котлы, для разогрева коих на манер жидкости в реторте, грохочущие анаконды на колёсах въезжающие в подобные пастям Гаргантюа хайла непомерных каменок, построенных навроде русских бань, — вот их подобные пузатым Буддам боги! Так вот и греются, накаляя железо! А хуже того — обморочены изобретением англичан и французов — газетами. Не зря, вступив на престол, Бонапарт закрыл 86 парижских газет! Но они опять расплодились, как инфузории — в капле воды на предметном стекле микроскопа-бинокуляра в моей лаборатории! Однако видел бы Джузеппе Бальзамо усовершенствованным свой графин с водой для прорицания, который люди будущего называют созвучным с именем сына Одиссея Телемаха теле-визором! Он понял бы, что как в воду глядел! Но — проглядел… Само собой, я понимал: зеркала, свечи и всё такое, чем баловались на Святки дворовые девки, запершись в бане, чтобы погадать на суженого, не зная, что я подглядываю, всё это — игра воображения! Но то, что я увидел в закуржавелый продух в расставленных ими зеркалах и отверзшихся в них огненных коридорах, заставило меня сильно пожалеть, что однажды я материализовал коварный, изменчивый дух.
То ли так проявляли себя чудеса отражения в трюмо, на котором, как актерские принадлежности в гримёрной, была навалена в творческом беспорядке косметика, а на похожих на оторванные головы болванках красовались парики шатенки, блондинки и брюнетки, то ли обманное трепетание свечи в подсвечнике рядом с томиком Пастернака, помноженное на похмелье, но то и дело, просыпаясь и обнаруживая на груди голову моей мастерицы бестселлеров, я видел в зеркале меняющиеся лики Поэта, Драматурга, Прозаика и Юмориста-Сатирика. Все отчетливее прояснялось: все они – суть разбежавшиеся мои двойники. Я-сам, окончательно раздробленный на отдельные самостоятельные сущности, ставшие следствием утраты самоидентификации. Самое странное, что клоны моих фантазий воспринимались окружающими, как вполне реально существующие люди. Да и сам я не сразу допёр, что весь подпольный творческий коллектив по производству макулатурного чтива, - это ведущий диалоги со своими собственными альтер-эго –я. В этом калейдоскопе все отчетливее прорисовывался одичавший, прикованный к компьютеру, обросший волосней и бороденью «раб лампы», вынужденный за миску жидкой похлебки , которую ему подсовывали в щель под дверью, производить вороха макулатурного чтива.
Продолжаясь, этот кошмар преподносил и другие сюрпризы. Скрежетал ключ, отворялись двери, и на пороге появлялся похожий на только что принявшего душ по полной зимней выкладке в кроличьей шапке и подбитом ватином пальто мокрого Яковлева муж, чтобы уличить в безнравственности не успевшего ещё натянуть штанов эскулапа-гитариста с веником в портфеле подмышкой. Да. Отворивши однажды двери в свою однокомнатную, я застал Галину в творческих муках с Прозаиком — мы прошли с Гумеровым на кухню, приняли за воротник, — и вот тут-то и состоялась неожиданная дуэль. Белели лосины. Синели мундиры. Но пистолет системы Кохенрайтер дал осечку. Шпага отлетела в сторону, отброшенная ловкой рукой фехтовальщика — поверженный каратистским ударом, я повалился на гусарские шеренги порожних бутылок в мышином углу. Впрочем, только падая, я разглядел, что это вовсе не Прозаик, а барахольный мафиози Китаец, застукавший меня в постельке со своей подружкой-пианисткой, и происходит это не в моей однокомнатной на девятом этаже, а совсем в другой квартире— на четвёртом. Заглядывая ещё дальше за цепь свечных огней, я мог обнаружить, что мордастый хмырь из другого зеркала тычет мне в зубы кулаком с зажатым в нём брелоком и ключами от «Харлея». А засевший в третьем зеркале трельяжа,- фехтуя, норовил проткнуть меня заострённой палочкой. В этом рапиристе я узнавал дирижёра. Только тогда до меня доходило, что произошло совмещение пентаклей: в случае с демоническим хороводом вокруг Галины было пять мальчиков, одна девочка, в случае с моими метаниями между чужих жён и любовниц — пять девочек, один мальчик.
Возвращаясь то из лесопосадок, то из морга и повернув ключ в замке, я то и дело заставал Галину в постели, а, заглянув под койку, обнаруживал там одного из писаришек нашего штаба по производству макулатурного чтива. Впрочем, может быть, всё это была морочь зеркал. Потому как, ухватив любовника за шкирку, я вытаскивал из под ложа сладострастия пушистого дымчатого кота Калиостро. И всё же, вполне возможно, чтобы подбросить сублимативного жара, Галина разогревала предвкушениями секса не только меценатов, но и исполнителей проекта. И я был любимой наложницей мужеского пола в её шахиншахском гареме.
Другой пентакль как-то сам по себе составился из соблазнённых и покинутых Серёгой Тавровым практиканток, чьих имён уже не упомнить. Эти безымянные жрицы любви, представлявшие собою сублимативное топливо (что-то вроде вытопленного жира младенцев, используемого ведьмами и ведьмаками для левитации), выглядывали из-под простынок, охорашивались перед зеркалом, выпархивали из ванны, обмотанные полотенцами, курили сигареты, стряхивая пепел прямо на ковёр, когда, пропахнув формалином морга, где производились вскрытия жертв киллеризма, я вваливался в свою хижину, ключи от которой имелись и у Серёги, и у Олежки с Лёней, и у Кости с Витьком. Собственно, в моей квартире и происходили эти занятия практиканток, набирающихся уму-разуму у тёртых калачей второй древнейшей. Я понимал, что квартира превратилась в притон, а жизнь — в нескончаемый бардак, но ничего не мог поделать. Тем более что сосед по лестничной площадке Митя Глумов вёл не менее (а скорее — ещё более) богемный образ жизни. Бывало, весь цыганский табор с гитарой и девочками перетекал в соседнюю ячейку пятиэтажки, и там учинялись оргии с прогонами пьес Драматурга и читками стихов, отрывков прозы и реприз Поэта, Прозаика и Юмориста. Не всё было в лад. Не всё впопад. Соседи стучали по трубе центрального отопления. И настучали. Приезжала милиция. Делала предупреждение. Выпивка кончалась. Закусывать было нечем. Однажды заявилась мама практикантки и пригрозила подать в суд за совращение малолетних. Потом ворвался папа другой юной и непорочной и наставил фингалов Серёге, вывихнул челюсть Олегу, рассёк губу Витьку. Галина исчезла, покинув вертеп, соблазнённая металлургическим магнатом и, видимо, наставляла рога из финиковых пальм мне и жене-магнатихе где-нибудь на острове с жёлтым песком, омываемом лазоревыми волнами. Как бы там ни было, но в нашем творческом союзе всё больше ощущалась дисгармония.
И я снова шёл на свидание в дворцовые чертоги метро. На этот раз подруга чеченского контрактника опережала арфистку, и, выхватив её из метрополитеновской толчеи назло путающейся в саргасcовых водорослях своих бой-френдов Галине, я увлекал очередную сексуальную экстремалку на горный склон постели, чтобы как бы падать с нею вниз на сноуборде. Впрочем, не исключено, что я всего лишь навсего опережал кого-нибудь, дышащего мне в затылок. Чересчур уж торопились мои подружки увлечь меня с места встречи в людскую толчею. Так что вполне возможно, соединившись, мы представляли собою более или менее случайную комбинацию частиц двух встречных потоков.
Пока обвитая махровым драконом подруга ветерана чеченской кампании, усевшись у трюмо, красила ресницы, я усаживался за компьютер, чтобы длить сюжетные линии романа с продолжением, который жадно выклёвывали из почтовых ящиков и выцарапывали из газетных ларьков игуано-пингвинистые существа. На этот раз литгруппа ВОЛКИ разрабатывала сюжет под названием «Украденный шедевр»
Возвещая о новых подвигах детектива, который из ЗуДова незаметно для главного преобразовался в ЗуБова, двигался по вагону электрички с пачкой «Городских слухов» материализовавшийся из торсионного вихря столыпинский переселенец в нагольном тулупчике. Хлыщ в треуголе протягивал ему пятак сузунской чеканки с екатерининским профилем и, развернув пахнущий свежей типографской краской лист, к всеобщему изумлению садоводов-огородников воспламенял газетный лист взглядом. На экстрим с заменой буквы я пошел, чтобы подразнить своего прототипа. Это документально-достоверное «б» я протащил в очередной бестселлерочек контрабандой, по-садистически испытывая своего источника информации криминальных репортажей на ответную реакцию. Небезынтересно было, уже уставшему безымянно вкалывать на литературных галерах Мрачному Иронисту и то, как затрепыхается редакционное начальство, когда прославленный расследователь заказняков вкатит «Городским слухам» иск за оскорбление чести и достоинства.
«Следователь прокуратуры Антон Зубов внимательно рассматривал прямоугольник на стене. Этот геометрически правильный островок невыцветшей штукатурки остался на том месте, где висела исчезнувшая минувшей ночью картина. Дело было тёмной ночью. Кто-то отключил сигнализацию, вскарабкался по стене, выдавил стекло на втором этаже — и умыкнул шедевр кисти Айвазовского «Корабль на мели» вместе с багетовой рамой.
— А это портрет Петра Зубова! — донёсся до Антона голос экскурсоводши. — Того самого, что стукнул табакеркой по голове императора Павла, а потом душил его шарфом…
Зубову было не очень-то приятно слышать свою фамилию в речевом обороте с обвинительным уклоном. К такому он не привык. Но в этом Екатерининском зале вообще творилась какая-то чертовщина. А тут он ещё в Рериховский заглянул и проторчал, как олух, битых полчаса среди сизовато-фиолетовых и голубовато-беловатых Гималаев, размышляя о том, что всё это изобразил человек, серьёзно верящий в реинкарнацию, трансмутацию и бестелесные перенесения в пространстве. Но не инфернальная, а вполне реальная сила совершила ограбление музея.
Экскурсия продвинулась дальше. Посторонясь от атласного подола Екатерины II и надменно-бесстыжих глаз Дашковой (с холста в багетовом обрамлении она смотрела, как живая), Антон Зубов подошел к портрету своего однофамильца. Пронизывающий взгляд придворного вельможи вошел в следователя, замерцала бриллиантами звезда на камзоле — и Антон решил, что на сегодня хватит.
Спустившись по лестнице, он протянул гардеробщице номерок и, всунув коченеющие руки в рукава плаща, застегнулся на все пуговицы. Направляясь к выходу, он поблагодарил дежурившего на вахте милиционера за содействие следствию — и очутился на улице. Накрапывал дождь и, чтобы не намокнуть, пришлось развернуть зонт. Нырнув в двери первого попавшегося кафе, Антон заказал вина. Это был подвальчик, оформленный в пиратском стиле. Трюм галеона. Бочонки. Пушки. Ядра. Модели бригов и каравелл. (Их изготовил какой-то газетный работник, свихнувшийся на парусном флоте.) Клочок карты с крестиком, где закопан клад, — под стеклом. Скелет, указывающий направление поиска, — в витрине. Гостеприимно раскрытый сундук с пиастрами и драгоценными каменьями — рядышком. Штурвал. Корабельные снасти. Официанточки в тельняшках, с абордажными пистолетами за кушаками и всё такое. Но самое главное, из-за чего зарулил сюда сыщик, это было название трактира — «Корабль на мели». Копия картины великого мариниста украшала небольшую кают-компанию с иллюминаторами вместо окон.
Зубов сел под картиной, чтобы как следует изучить произведение не по репродукции, а по «списку», сделанному рукой профессионала.
— Вам известен художник, рисовавший эту копию? — спросил Зубов посасывающего трубочку шкипера.
— Кто ж его не знает? Копейкин! Он и карикатуры в газете такие рисует — закачаешься! И афиши, а главное — ню! — хмыкнул директор-затейник.
— Слышали про кражу в картинной галерее?
— Как не слышать? Но это, начальник, туфта, а не Айвазовский — клеёнка, — и, постучав мундштуком по полотну, он позволил убедиться в том, что с изнаночной стороны полотна наличествует накатанная станком мелкая клеточка.
— Ну что! Детектив! — плюхнулась рядом жена Клавдия, поблёскивая глазами княгини Дашковой. — Опять без меня калган не варит? Ну что ты на эту мазню уставился!
Зубов знал, что со своими подругами-биатлонистками, которых он застал однажды за питьём крови молодого волка, она может всё.
В голове его что-то вспыхнуло, словно хворост, зажжённый лучами, исходящими из глаз галерейного цареубийцы. В свете этого пламечка Зубов отчётливо увидел, как подъезжает к зданию галереи микроавтобус, на котором они ездили на охоту. Как выгружаются из него девушки в костюмах экстремалок, в масках, с лассо и привязанной к нему «кошечкой». Как одна из кисок карабкается по стене, выдавливает стекло, проникает в зал, снимает картину с гвоздика — и… Обычно, правда, вырезают и кладут в тубус. Но то — профессионалы. А это — дилетантки, домохозяйки, которым что Айвазовский, что клеёнка! Слово «клеёнка» обожгло. В выходной на даче — что за новенькая клеёночка лежала на столе? А, Зубов? Голубенькая с пенными волнами, с корабликом, завалившимся на бок, рыбарями, шествующими по отмели? Зубов не донёс бокала до губ. Выходит, опять она устроила ему розыгрыш со стопроцентным раскрытием для повышения по службе!
— Ну что — дотумкал? — подмигнула Екатерина Дашкова? Это была никакая не жена, а трактирная шлюха с оголённым плечом, на котором красовалась татуировка: корабль, лежащий на боку, мель, рыбаки, набегающая волна… Чайка сорвалась с плеча и, кинувшись в пучину морскую, выхватила из неё серебристую рыбку. Диджей крутил штурвал и напевал хриплым голосом пиратскую песенку. Зубова потянуло потрогать пиастры в сундуке. Пообщаться со скелетом. Но почему-то руки лезли под тельняшку усевшейся к нему на колени, нахлобучившей ему на голову треугол официантки с перевязанным глазом.
Пользуясь дедукцией, Зубов узрел на стене капитанскую подзорную трубу и сразу понял: картина — в ней! Всё-таки вырезали… Вот эта официантка в тельнике залезла по вантам и ножом выпластала из рамы, а рамку умыкнули сторожа. Он рванулся. Он сорвал трубу со стены. Он глянул в неё. Увидел корабль на мели у самого горизонта — и, выдавив линзы, хотел вынуть заветный холст, но полотна там не было… Потом скелет, указывающий дорогу к сокровищу, направил Зубова в гальюн. Там он увидел изваянные из уплывающих через таможню бивней родины унитаз и бачок — и вырвал их с корнем…
— Вам, Антон, счёт пришёл за повреждение сантехники и бутафории кафе «Корабль на мели»! — нахмурился районный прокурор Павел Табакеркин. — Чем платить будете? Пиастрами? Зарплату-то который месяц задерживают…»
С когтем дракона — на левой и пастью — на правой груди из ванной выходила пианистка Катя и садилась за трюмо, чтобы подправить собственные когти Галининой маникюрной пилочкой. В это время мне, едва обмотанному простыней, будто Сенеке, вознамерившемуся сочинить ещё одно письмо к Луцилию перед тем, как вскрыть себе вены, приходилось трудиться в поте лица. И я усаживался за компьютер, чтобы хоть что-то сдать к завтрашнему дню в номер. Репортаж о митинге возле облисполкома хотя бы. О том самом митинге протеста, куда подошедший народ нахлынул, словно тесто, вылезшее из кастрюли.
«Депутат Павел Крайнов дошел до края. Как и доведенный до туда же народ. Иначе бы не явился он на этот митинг. Не стал бы грохотать в мегафон. Толкаться среди кумачовых полотен, чёрных серпов с молотами в белых кругах. Но пришлось. Не улежал в своем саркофаге, в склепе, овеваемом запахами роз и хризантем. И хотя это был не совсем прежний Крайнов, а его неожиданное воплощение, явление его народу было вызвано нарушением запрета-табу. Он бы не пришел на эту, выпавшую на крещенские морозы, акцию в столь неожиданной ипостаси, но жена Клавдия не выполнила его наказа: не продавать после смерти его старое депутатское драповое демисезонное пальто. Ох, уж это видавшее виды пальтишко — почти как дедовская проеденная молью будёновка в шкафу, повидавшая и кремлёвские звёзды, и иглу адмиралтейского шпиля. Подлатанная верой в имперское могущество, подстёгнутая подкладкой надежд на социальную справедливость! В гроб не положишь, с собой на тот свет не унесёшь!
И вот драповая ипостась Павла Петровича Крайнова на атласной подкладке стоял на крыльце обладминистрации и ощущала, как магнетизм электората наполняет ее обновлённой энергией.
Потрясала лозунгом на картонке Пульхерия Гребешкова: в толчее людской было всё веселей, чем на ступеньке перехода, где, ровесница подвига Челюскинцев, она давно превратилась в пингвиниху.
Фёдора Терпугова требовала не отдавать Курилы, низом брюха ощущая, что негде будет нереститься рыбьим косякам. Инесса Стойкер, следуя традиции Инессы Арманд, настаивала на сексуальном раскрепощении. Коля Б. и Юля Д. разбрасывали листовки с изображением коловрата-солоноворота, призывая не допустить вырождения русской нации. Дирижёр держал плакатик с требованием отправить оркестр в заграничное турне. Толкинист Тимоха в полном облачении витязя с мечом на боку и его подруга Оля развернули транспарант КПРФ с требованием отослать в отставку антинародную власть.
Старуха с куриной лапой в руке клекотала, обращаясь к собравшимся и осеняя их когтистой закорюкой, напоминающей коготь на шлеме тевтона.
Митинг развивался хоть и несанкционированно, но вполне в рамках, когда вдруг со стороны ступеней здания бывшего Сибкрайкома образовался торсионный вихрь, пыхнуло снегом. Некоторые даже говорили потом, что увидели не то лик Николая Рериха, не то зрак легендарного Эйхе. Впрочем, при жизни Крайнов чем-то походил и на того, и на другого…
Когда в рядах собравшихся появилось пустое драповое пальто с мегафоном над обрёмканным воротом, по транспарантам, знамёнам и лозунгам пробежал озноб. Возгласы ужаса вырвались у пенсионерок. Представители казачества и православной общины осеняли себя крестными знамениями.
Расталкивая митингующих, драповое пальто двигалось в сторону крыльца и — по всему было видно — готовилось прорваться к губернатору. Милиция ощетинилась дубинками. Блюстители порядка сомкнули ряды. Впрочем, по смиренно обвислым рукавам можно было судить о том, что драповое пальто не помышляло о насильственном свержении губернской власти.
Обернувшись к народу всеми своими пуговицами, пальто поднесло витающий в воздухе мегафон к выемке над воротником. И в громкоговорящем устройстве возник голос Павла Крайнова:
— Товарищи! — обратился он к народу. — Вы похоронили меня полгода назад. Я пал от киллерской пули. И знаю, кто прострелил мой драп, но дело не в этом, товарищи… Моё тело сейчас лежит на кладбище, его же нетленная субстанция, согласно учениям Рериха и Блаватской, отделилась, перераспределилась и теперь значительной своей частью пребывает в специальной нише метрополитеновского подземелья, в саркофаге рядом с другими избранными, готовящимся к дальнейшим трансформациям. Но в этой части я, товарищи, с вами. И могу продолжать свою деятельность в виде желеобразной, растёкшейся по лабиринтам подземелья массы. Мы поднимем эту массу на протест. Масса уже закипает и скоро попрёт из ливнёвок и канализационных колодцев…
— Анафема ему! Инфернальный Поп Гапон! — раздался голос.
— Заткни свою дырку от пули, драп, молью недоеденный!
— Паша! Я с тобой! — ринулась из толпы женщина с лицом ещё не старой Надежды Константиновны Крупской.
Милиция лязгнула наручниками. Оттесняя старое демисезонное пальто к площади Свердлова, спецназ открыл огонь на поражение. Брякнул алюминиевый колокол мегафона. Из него продолжал вещать голос. Изрешечённая ткань не сдавалась, продолжая призывать к бессмысленному и беспощадному русскому бунту. Тогда плеснули бензина и подожгли. Вращаясь на месте и корчась, пальто всё никак не могло угомониться, выкрикивая лозунги антиправительственного содержания. Потом повалил густой чёрный дым, разверзлись облака на небесах, и двигаясь по образовавшемуся сизо-голубому лучу, астральное тело драпового пальто отбыло в объятия орбитальной Линзы…»
Процесс созидания репортажа прервал звонок по телефону. Некогда иронично-игривый голос Зубова прозвучал официозно отчужденно, даже враждебно:
- Ваша газета, гражданин Крыж, с макулатурных художеств на потребу нископробной публики скатились на прямые издевки! Я только что звонил Дымову, который перевирает ваши криминальные репортажи в своих триллерочках. А я получается – источник всего этого вранья. Коллеги надо мной потешаются: ты чего это, дескать, отпрыск рода цареубийц, сосланных когда-то в сибирскую каторгу?
Я понял, что моя провокация достигла цели. Нашим неформальным отношениям пришел конец. Еще немного понакаляв пластмассу плохо скрываемым гневом, Зубов ушел по ту сторону гудков. В едва водруженной на место трубке образовался голос моего литработадателя. Пожурив меня за несанкцианированную замену буквы в фамилии героя детектива, на которую он не обратил внимания, Шура Туркин требовал следующую главу «Монстров подземелья». Один триллер с продолжением шел в ежедневных номерах, другой в еженедельной «толстушке». Надо было торопиться. Блуждая одной рукой по эрогенным зонам разлегшейся на ложе пианистки, другой я принялся набивать текст.
«Губернатору Золотогоркину всё же хотелось понять — кто он? Плавающее в телевизоре, взирающее с газетных полос, вещающее из радиоприемников нечто или всё же человек во плоти? Эта проблема стала для него особенно жгучей с тех пор, как во время сдачи станции метрополитена «Осиновая роща» ему показали колумбарий, где он обнаружил в гробу самого себя, обложенного со всех сторон цветами. И сколько потом его ни уговаривали, объясняя, что это была святочная шутка и в гробу лежал не он, а изготовленная для музея восковая персона, так же, как и персоны мэра Гузкина и депутата Крайнова, он не мог отделаться от ощущения, что всё ещё лежит в гробу с атласной подкладкой, и его сложенные на груди ладони покалывают шипы роз, а в носу свербит от густого запаха тех же роз, гвоздик и хризантем.
Если прежде Золотогоркин раздавал интервью направо и налево, то теперь у него появилось предубеждение, что, говоря что-то в микрофон, он словно бы отдаёт часть себя. Его томило ощущение, что набалдашнички с сеточками вытягивают из него нечто, что, утекая по проводам, улетая в эфир магнитными волнами и растекаясь по экранам, обращается в сгустки чего-то, ему неведомого, живущего самостоятельной жизнью. С некоторых пор он стал верить в рассказы про обитающие под городом трансформирующиеся субстанции и подумывал — не есть ли он сам часть этой субстанции?
Золотогоркину становилось легче, когда он выезжал в поля, на посевные и уборочные. Но, пролетая на вертолёте над золотистым жнивьём, он обнаруживал непонятные круги и треугольники, истолковываемые, как следы деятельности полтергейста, пришельцев и НЛО. Глядя на селян, он всё чаще убеждался: как же похожи они на персонажей раскольнических легенд — скрытников! А тут ему ещё приснилось, что он манекен в самом большом супермаркете города — ДУМе — и с ним воюет какой-то выживший из ума охранник!
Вот и выходя на эту пресс-конференцию по итогам проведения мероприятий, связанных с пронёсшимся над Западно-Сибирской равниной ураганом, губернатор ждал, что его могут спросить о таинственной природе бури, её связи с геопатогенными зонами и легендой о Змее Подземелья.
— Скажите, Виталий Викторович, — задала первый вопрос Майя Курнявская, — как вы относитесь к слухам о том, что пространство под городом изрыто неведомыми существами, что нарастают геопатогенные факторы, из недр поднимаются родоновые массы — и в перспективе город если не провалится, то превратится в лепрозорий мутантов?
— В природе есть много ещё не изученного! — начал губернатор. — Вот и академики Азначеев и Митриев свидетельствуют. А это всё-таки наука…
Он говорил и чувствовал, как, вливаясь в микрофоны и входя в объективы кинокамер, его второе, преобразованное в проводах, я проницает пространства и предметы и как светящимися сущностями оно врывается в отверстые устья подземки, чтобы, влившись в них, метаться по туннелям крылатыми тенями. В эти мгновения он, в самом деле, ощущал связь с кем-то лежащим в гробу в склепе подземелья и готовым выйти оттуда по первому зову.
— Что вы думаете о связи последних изысканий археологов и уфологов в районе Змеиногорска и ставшим гибельным для нашего сельского хозяйства ураганом?
— Ну что я думаю! Нужна помощь федерального бюджета. Нужны субвенции. Потрепало льны, побило овсы, вымолотило рожь и пшеницу. Поднимало на воздух коров и комбайны. У многих сорвало крыши…
Поняв, что он изъясняется двусмыслицами, Виталий Викторович умолк.
— На этом, пожалуй, всё! — обернулся он к лучезарно улыбающейся ведущей Галине Синицыной. — Об этом лучше прочесть в романах наших знаменитых писателей Галины Синицыной и Александра Дымова, которым я уполномочен вручить премию имени Гарина-Тугарина…
Усаживаясь в свою служебную, сработанную под пробойник пси-пространства серебристую «Волгу», Виталий Викторович принял машину за уже готовый к отправке в подземелье саркофаг. «Неужели так обыденно!» - мелькнуло …»
Глава 26. Пещера
Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним.
«Евангелие от Матфея», гл.2, стих 3
В «Лепестки» мы захаживали и с живописцем Копейкиным, чтобы, заправившись пивком, удалиться в его затёртую среди асфальтовых льдов улицы Полярников — громко будет сказано — мастерскую. Громко потому, что в прибежище вдохновения, холстов, опустевших бутылок и тюбиков из-под масляной краски была обращена обычная, являвшая собою реликт былого великолепия полуподвальная конура малевальщика афиш для кинотеатра. С тех пор, как кинотеатр отремонтировали, оснастив его долби-стерео, на первом этаже соорудили зал игровых автоматов, а на втором — ночной клуб, Копейкину приходилось разрисовывать огромные полотна, на которых он воспроизводил грандиозные сцены гладиаторских боев, взятия Жанной Д’Арк Орлеана, коллажи из персонажей «Звёздных войн», «Властелина Колец» и «Гарри Поттера». Афиши были столь велики, что подвал превратился в заурядную подсобку для хранения краски, кистей и краскопультов. Для того чтобы намалевать седую бороду Гендальфа, приходилось изводить ведро белил. На наивно-всепобеждающую синеву глаз Фродо уходила банка ультрамарина. Полотно рекламного плаката Андрюха расстилал по сцене — и ползал по нему на четвереньках, как муха по белому потолку. По старой агитпроповской привычке он старался особенно выразительно изобразить глаза. Когда-то подрабатывавшему на производстве транспарантов, ему особенно удавались ленинский прищур, брежневская осмысленность, андроповская аналитичность, горбачёвская решимость действовать. Он так мог расписать на афише Владимира Высоцкого или Олега Даля, что все говорили: как живой! Некоторые столицесибирцы обращались к психиатрам, жалуясь: их преследуют глаза с афиш. Глаза Гендальфа или очочки Гарри Поттера могли возникнуть в самых неожиданных местах. К примеру, обнаружиться на лице ведущего местных теленовостей или на носу губернатора.
С тех пор, как на экран безраздельно вторгся Голливуд, Андрюха стал захаживать в церковь, покупать литературу и свечки в иконной лавке и начал мыслить библейскими сюжетами. Свои христианнейшие видения он воплотил на стенах подвальной каморки. Одну из стен Андрюха расписал, взяв за основу сюжет Тайной Вечери, на другой тщательно выписал звезду Рождества над яслями с младенцем, задумчиво склонившимися над ним Волом, Ослом и молитвенно замершими Волхвами. Отсюда, как аквалангист — с борта субмарины, я уходил в житейские пучины, чтобы внедриться в сообщество привокзальных бомжей. На гвоздь, вколоченный в Вифлеемскую звезду, я вешал свои курточку и джинсы, облачался в засаленные лохмотья, Андрюха подмалёвывал мне гуашью фингал и следы проказы на лице — и вот уже на первом же привокзальном газоне мне открывался Клондайк опорожненных бутылок и распахивался вход в подземелье живописных мутантов эпохи перемен. Как раз с меня, загримированного под бомжика, Андрюха Копейкин срисовал апостолов Петра и Павла, и Фому, и Иуду, и всех других, включая центральную фигуру композиции Тайной Вечери. Он считал, что двенадцать апостолов — это просто двенадцать клонов Христа, вот и размножил мой лик, чтобы получить целостную картину. Правда, потом он стал забавляться тем, что, закрашивая прежние лики, пририсовывал на их месте физиономии наших сослуживцев. Носителя благой вести не трогал. А вот Иуде подрисовал рожу Дунькина, а Петру — Анчоусова. Остальные фигуры обзаводились головами прозаика Лёни Глушкевича, драматурга Олега Гумерова, поэта Вити Тугова и юмориста Кости Глотова по мере их увольнения из редакции. На третьей стене подвальный Пиросмани запечатлел нечто вроде Дантова Ада — уходящую в подземелье разветвлённую систему ходов, начинающуюся, как перевёрнутое дерево или уродливое корневище, с канализационного колодца, в который заглядывал по-садистски улыбающийся Мальчик. Девочка была изображена в трех фазах: падающей в земляную дыру, лежащей на подобном инквизиторскому колесу вентиле — ещё не расчленённая, дрейфующей по канализационному кишечнику. Падение происходило оптом, дрейф — в розницу: отдельно — голова с широко распахнутыми глазами, отдельно — рука, отдельно — нога и так далее. Под потолком юная мученица была изображена распнутой на чердачных стропилах. Для пущей ужасности Копейкин срисовал эту девочку с Галины Синицыной; мы с ней здесь бывали. И когда в чёрной тоске из-за того, что Синицыну сейчас трахает какой-нибудь заказавший пресс-конференцию директор элеватора, засыпая ей в бункер своё семя, или хозяин молзавода, взбивая из сливок сметану, или хуже того — вождь какой-нибудь партии, вожделеющей поять чресла парламентских кресел, я глядел на кочующую по канализационной трубе голову Галины. Не вынеся этого ужаса, я бежал наверх, чтобы, втолкнув карточку в первый попавшийся таксофон, звонить Даше, Любаше, Кате, Мэри…
На подвальной диораме были видны молитвенно задравшие головы к дыре колодца Мальчики-садисты с носами клоунов и антеннками инопланетян на их головах. С такими поролоновыми носами и кружочками на рожках-пружинках на столетие столицы Сибири ходило полгорода, а первую девочку изнасиловали, сбросили в колодец и расчленили как раз в этот день. Здесь же — в коллажном совмещении — были изображены толпы ликующих язычников, уродина-Обинушка, ублюдок-Городовичок, парящий над толпой Дирижёр в одном фраке без штанов, припавший щекой к деке в виде венерина холмика Скрипач, вставивший между ног голую бабу и водящий смычком по её ягодицам Виолончелист. Это были зримые образы творящейся в мире какофонии. В память об ужасном жертвоприношении и создал Андрей свою «Гернику». Копейкин считал, что город подвергся психотронной бомбёжке, а изнасилованная и расчленённая девочка — лишь результат этого. Параллельно штудируя Библию и «Розу мира», Андрюха был убеждён, что СМИ, Голливуд и паралитература совершают ужасающие трансмутации в облике небесной России. Что демон государственности воплотился в кровожадных, требующих жертвоприношений монстров, что античеловечные Шрастры стремительно трансформируются, а игвы и раругги, до сих пор высиживавшие в астральных городах, уже вторглись к нам вместе со своей демонической техникой.
Такова была его живописная версия происшедшего с очередной девочкой, чей расчленённый труп сантехники обнаружили во время ликвидации канализационного засора. В своей подвальной фреске Копейкин хотел передать религиозно-фантасмагорический смысл сатанинского обряда, заставившего содрогнуться канализационные трубы. И ему это удалось. Мальчики держали в руках окровавленные кухонные ножи — каждый луч этой пентаграммы должен был вонзить своё стрекало в лежащую на вентиле жертву. Они ждали лишь того, когда по скобам лесенки к ним спустится пятый.
Здесь нашлось место и Гене со Светой, и Кеше с гармошкой и нищенкой-пуштункой, и одноногому Вите, и сирой мамане с надписью на картонке, взывающей подать на пропитание ребёночку, и бабушке, требующей вернуть льготы, и толкинисту Тимофею с девочкой при кепке-подойнике, в которой виднелись кругляшки монеток. На этой же стене, в её самой нижней части, были изображены ужасающие химеры подсознания, посещавшие Андрюху во время похмелий и раскумарок (Копейкин покуривал травку). Среди тех химер заглатывающая людей и переваривающая их на фекалии, оснащённая когтистыми лапами и гребнем рептилии электричка метро была самым безобидным из существ. Довершали картину выглядывающие из пролома гробы и скелеты в том месте, где туннель, по которому скользил Змей, ответвлялся в сторону Осиновой рощи. Воплощённым ужасом выглядели свечения и оскаленные хари в районе рынка, будто зоопарк не перевезли за город и не разместили среди сосен, а закопали под землей после того, как он провалился туда, подобно вышедшему из строя атомному реактору-капсуле. Эта аллегория была особенно дорога её создателю, потому что Андрюха Копейкин был убежден: Зверь засел в нас всерьёз и надолго. И никакими молитвами не выгнать этого рогато-когтистого паразита. Лик же самого страшного из ужасов этой фрески лишь маячил в самом дальнем углу, высунув оттуда саблезубые клыки и окровавленные бивни, напоминая об арестованных на таможне археологических ценностях, которые контрразведка не давала вывезти за рубеж.
Для ню, которыми Андрюха торговал у входа в метро, ему позировали некоторые из моих привокзальных собутыльниц. Приукрасив их формы подобно тому, как я приукрашивал речи косноязычных монстров пресс-конференций и судебных заседаний, он получал в итоге очень даже приличные типажи «обнажёнок». Эти «нюни» шли не хуже плодоовощной фламандщины натюрмортов. Андрюха мечтал, чтобы ему попозировала Галина Синицына, но почему-то стеснялся ей даже предложить стать моделью для полотен. Ведь она как-никак была заметной в городе фигурой, популярной писательницей, её то и дело казали по телеку среди участников пресс-конференций, а он свои картинки продавал возле метро.
Я увлёкся игрой с переодеваниями. Мои репортажи о жизни городского дна шли влёт. Это, случалось, надолго освобождало меня от тягостной обязанности посещать пресс-конференций, на которых кроме фуршетов с обильными холодными закусками и десертами ничего интересного не было. В мастерской Копейкина я хранил целый гардероб, что-то вроде костюмов профессионального карнавальщика времен Франсуа Рабле. Многократно задерживаемого в обличии бомжа, рвущегося на рок-концерт подростка-наркомана, подозрительного лица кавказской национальности, всякий раз открывающего свой розыгрыш, когда уже были пройдены все круги ментовского досмотра — ой как не любила меня привокзальная милиция! Как раз тогда, когда в редакцию звонила богомолка и сообщала о стрельбе, это была никакая не богомолка, а одна из натурщиц, позировавших для Андрюхиных ню, предпочитающих прогуливаться голыми вдоль по улице Полярников. Мало того, что о. Святополк тут же заподозрил образование новой секты, пришла в движение репрессивная машина — и нудисток поставили на учёт в ФСБ. В прилетевшего по звонку меня переоделся Андрюха, а меня он загримировал под бойца бригады «центровых». Одолжить ненадолго «Тойоту» мы договорились с выпивающими братками. Игра им понравилась. Подурачить ментов — это их пивом не пои! И вот на глазах у прущих на молебен Андрюха сделал это. С пластмассовым пистолетиком в руках он взорвал парочку петард-хлопушек, я упал у колеса «Тойоты», рвя на груди презерватив, наполненный красной краской, а Копейкин, забежав в подъезд, переоделся в заготовленные заранее одежды репортёра. Ружьё с прицелом соорудили, примотав к воздушке позаимствованный у Эрика детский калейдоскоп.
В темноте чердака и пылу расследования детектив Зубов всё принял за чистую монету. С нашими неформальным отношениями было покончено. Теперь, разгоняя далее волну скандала, можно было делать прокурорскому детективу дальнейшие гадости. И детектив клевал.
Упаковав туфтовую винтовку в мешок, он отсылал ее на экспертизу, и пока суд да дело — материал об очередном убийстве на том же самом перекрёстке уже был в номере. А там — станут ли прокурорские работники обнародовать свои оплошности? Опровергать. То же самое и с изуверами-мальчиками и расчленённой девочкой вышло. С ещё раз повторённой мистификацией-инсталляцией, переросшей в нехилый хеппенинг. Голову девочки, ручки, ножки Андрюха Копейкин отлил в своей мастерской из силикона, раскрасил, получились как настоящие. Говядинки прикупили (как, бывало, с Серёгой — свининки) на центральном рынке, детское бельишко в первом попавшемся отделе детской одежды — всё это разбросали в канализационном колодце в художественном беспорядке, измазали стропила чердака кровью, нацеженной из мясца, — и вот уже версия, выдвинутая отцом Святополком, публикация, очередное рукопожатие Анчсоусова, премия в конверте.
Розыгрыш удался и в первый, и во второй раз. Как и в случаях, когда мы готовили их с Серёгой. Даже то, что и киллерский выстрел, и сатанинская оргия произошли на одном и том же чердаке, в запарке никого не насторожило. Наоборот. Это, подобно заевшей пластинке, повторяющееся единство места придало происшедшему большей зловещести. «Лепестки» стали пустеть. Закрутилась следственная машина. Начали распухать дела. По газетам, теле- и радиоэфиру прокатились волны публикаций и репортажей. Первая инсталляция вышла вполне в духе придурка, навалившего кучу в Третьяковке под «Боярыней Морозовой». Понаехало телевидение, завертелось уголовное дело. Хеппенинг-перформанс раскочегаривался на всю катушку: меня уже повезли в морг, надо мной уже занёсся заинтересованный скальпель искателя свежих органов для пересадки их денежным дядям, когда я проделал обычный трюк с предъявлением удостоверения. Вторая инсталляция и того не потребовала. Просто пропили с Андрюхой мой повышенный гонорар — и всё.
Но вот беда. Частенько эти розыгрыши перемежались с небольшими кислотными путешествиями. Правда, за неимением ЛСД, которым пользовалась ливерпульцы, приходилось довольствоваться такой гадостью, как насвай или херовенький героинчик, но что есть, то есть… Бывало, я, Андрюха, Кеша-гармонист, гитарист Гена и блюзмен Тимоха, покинув «Лепестки», устраивали мальчишник в пивной «Ливерпульская четвёрка». Эти свои уходы на дно я таил в полной тайне от Галины и членов братства по «Чёрному скарабею». (Знал бы я, что в конце концов буду предан и стану жертвой их розыгрыша!) Благо, пункт сдачи стеклотары был рядом, напротив рынка, — и когда я разыгрывал бомжа, то нагребал «пушнины» по окрестным помойкам и урнам вполне достаточно для того, чтобы угостить пивком друзей. Ну и им кой-чё кидали на чехол и в коробки из-под китайских кроссовок. К тому же крышующий пуштунку Кеша-гармонист огребал деньгу, да и Гена по полкружки из того, что шло на пропитание мальца, отсыпал в свой карман, чтоб не рос шибко быстро — на большого дадут меньше на столько же, как на обутую в протез культю. Ну и Тимофей-толкинист не зря толкался в переходе возле облсовета, Федерального казначейства и Внешторгбанка.
Под приглядом барменши и ливерпульской четвёрки мы что-то сильно затосковали по большему кайфу — и чтобы заодно с репортажем о бомжах, уличных художниках и привокзальных проститутках набрать фактуры и для цикла натуральных очерков из жизни наркоманов, я пустился во все тяжкие. Луч Вифлеемской звезды воткнулся в вену, и по нему, смешиваясь, потекли образы со стен Андрюхиной каморки. Натурщица с висевшей над моей холостяцкой постелью картины, соскользнув с полотна, материализовалась. Гитара обрела черты вполне плотские. Беженки Надя и Вера, наплюхавшись в ванне и вылив на себя весь шампунь, оказались крашенными Андрюхой молоденькими стервами. К тому же я узнал в них Монашку и Ведьму, для отвода глаз приторговывающих в метро духовной литературой и макулатурным ширпотребом. Бывало, открыв томик Блаватской или Гурджиева, можно было обнаружить аккуратно вырезанный в страницах тайничок, где были уложены пакетики с белым порошком. Так что недаром книгочеи толклись у лотков. Да и кой-какие фолианты с жутью и детективами содержали такие же схроны. Так шла бойкая торговля наркотой прямо под носом у милиции. Присев на корточки прямо на ворс коврика, девахи выдавливали из себя целую кучу капсул, будто, начитавшись Алистера Кроули, как и он, считали свой кал священным. Они ликовали и бесились. Менты лоханулись, начав их оформлять в ночлежку, проявляя заботу о выдаче пособий. Не всё, видать, ладно было в компьютерном хозяйстве оборотней в погонах. И вот на зелени коврика лежало целое состояние. Кал если, гной еси, но деньги, позволяющие бить балду, есть и пить не хуже дядек, разглагольствующих на пресс-конференциях для того, чтобы светиться в телеке, жить не хуже их жён и пассий, а на самом деле — по очереди трахать Галину Синицыну. Мою Галину. Во мне бурлил Ревнивый Мавр. Пора было мстить. Я возлежал на своём греко-римском ложе и мог наблюдать, как эпохи проплывают мимо в виде подвижных цветных фресок. И пусть, вполне возможно, этим кино, сидя за компьютером, управлял научившийся манипулировать временем Коля Осиновский, было интересно. То в квартиру лезли оливки и ливанские кедры Иудеи и пробегал гонящийся за кем-то крепкоикрый легионер, вооруженный сверкающими мечом и щитом. То из угла выскакивал взбесившийся бык и, бросаясь на красную тряпку с серпом и молотом, бодал её под умопомрачительное фламенко. Гитара льнула ко мне, розетка шестиструнной сжималась и превращалась в третий глаз вагины;.
Два глаза одного четвероного-четверорукого существа из глубин подсознания смотрели на меня разинутыми влагалищами. Два алых, зияющих глаза сверлили мою плоть, прожигая. Это была заурядная групповуха, с помощью каких Великий Зверь — Алистер, не заботясь о последствиях, сотворял новые эоны.
Посвечивание тех глаз увидел я в темноте, куда ступил подпихиваемый в спину стражем. С тех пор, как легионер вырвал из моих рук пергамент, отшвырнул перо и вылил мне на бороду все чернила, он зачем-то вёл и вёл меня по этому подземелью, над которым в выбитой в горе зарешёченном углублении томился в соседстве с рыкающими львами несчастный факир, обещавший рассказать мне о том, что будет через две тысячи лет. А он пророчествовал, что мне предстоит погибнуть в подвале замка от наложения щипцов на детородные органы, мыть золото в норах Колымы, оказаться привязанным к койке в больнице для умалишенных и много ещё чего… Я успел записать лишь несколько заклинаний да фразу о том, что большие железные змеи подземелья будут пожирать людей и высирать их невредимыми, потом появится рыцарь и рассечёт дракона пополам, как налетел этот фанатик веры в Юпитера-вседержителя и похерил мои труды.
…Наехало грохочущее чудовище, пахнуло розами и хризантемами, сыростью подземелья, гробовым тленом, и мы с моим провожатым милиционером оказались в ярко освещённой комнате, заваленной цветами. Цветы стояли в вёдрах, лежали в ванночках, в каких купают младенцев, они торчали из старинных античных ваз, египетских кувшинов (в таких хранятся мумифицированные органы фараонов) и хрусталя. Тут же по углам были навалены иконы, свечи, библии, труды эзотериков, детективы. Склад удивлял обилием ассортимента и пересортицей. К чему тут бивни и саблевидные клыки? Ведь им же место на таможне? Или их так и не отправили в музей? А картина Айвазовского «Корабль на мели» что здесь делает?
Помещение представляло собою что-то вроде заброшенной резервной диспетчерской, подземной конюшни или того самого командного пункта, из которого можно долбануть по орбитальной Линзе-плазмоиду. По крайней мере, на одной стене видна была карта звёздного неба. На другой располагалась схема метро с мигающими лампочками, показывающими, где и как движутся электрички. Эти мигалки могли означать и колодцы с запрятанными в них нацеленными на околоземную плазмоидную субстанцию ракетами. Под картой и схемой горбился пульт. Когда сидевшая за ним обернулась, я узнал в ней цветочницу Свету.
— А! Привет! Вовремя! Сегодня как раз родительский день — видишь, сколько товара…
Над головой заскрежетало — открылся люк, в нём на фоне одинокой, тянущей лучик-ниточку звёздочки в непроглядье неба показалась мордочка бомжика.
— Принимай, Света!
Верёвка с крюком опускала в подземелье огромную корзину, пахнуло нарциссами.
— Ну что — ещё ходку?
— Давай! На Заельцовском и на Плющихе полно товара. Датчики запаха так и семафорят!
Только теперь я понял: передо мной не диспетчерский пульт, а что-то совсем другое…
— Ну, чё уставился? — ухмыльнулся майор и, расстегивая пуговицу на милицейском кителе, подошёл к зеркалу над раковиной, возле которой торчал из стены кукиш теплодуйки. — Мы тебя для чего сюда привели? То-то… Чтобы ты нам пиар организовал! Это хорошо, конечно, что ты писал про Кешу, Гену, Свету… Теперь ты должен знать, что мы надумали двигать своего человека в Думу, — изобразил он думу на челе, — чтобы лоббировать свои интересы. Ну а роль гитариста, воспевающего нашего кандидата, будешь играть ты. Вместо Гены. Ты ж тоже на гитаре бренчишь. И очень любишь менять профессии. Так что впишешься вполне гармонично. Мы тебе ещё и афганского колориту придадим. А лучше чеченского… Вон у нас тельников — целый тюк. Бартер это. А лучше, если мы тебе создадим легенду о журналисте, потерявшем ногу в Ираке… Поначалу ногу будешь подвязывать, а потом мы тебе её отрежем. Ты ведь, кажется, пишешь женские романы? Так что если не шибко нравится идея насчёт отрезанной ноги, можем произвести операцию по смене пола, чтобы тебе не так сложно было вживаться в образ. Всё будет, как надо. Титьки можем трансплантировать из твоих же ягодиц, ну, немного силикончика подкачаем, а вот от мужских излишеств придётся избавиться…
Майор снял китель, смыл грим — и я узнал в нём героя своего трогательного рассказа из возлюбленного завом отдела цикла «Картинки с натуры» — «Гитарист и цветочница» и что самое удивительное — металлургического магната, Сёмена Сёменовича Корявого, — тоже.
— Да не смотри ты так, Иван, — глядел он на меня из зеркала.— Мы тут все взаимозаменяемы. Вон, видишь — протез в углу. А вон — гитары на стене. А вон там — «ляльки», в пелёнки замотанные… Народ бежит, торопится — ему хоть пим дырявый в пелёнку заверни — кто будет присматриваться, тем более милиция наша. Им лишь бы откат был во время. Суешь в пелёночки диктофончик, чтоб пищало, — и денежки посыпались…
— Но ведь я видел — чумазенькая девочка просила подаяние, ребёночек соску сосал. Эрик-то — ваш отпрыск. Твой и Светы.
— Да долго ли за бутылку водки чумазенького ребёночка на прокат взять? Пуштунчика-тушканчика. Или младенчика у мамаши-алкашки одолжить? А если мамочка сопротивляться будет — расчленить, как ту девочку, которую мальчики… Хе! Это у нас налажено. Зато приварок — наш. Ты думаешь, мы такие нищие? Кто тебе сказал? Видел — иномарки у выхода из метро в ряд стоят? Все наши. У меня квартира в двух уровнях с бассейном, сын в Гарвардском университете учится… Ну, и контрольный пакет акций металлургического комбината я недавно купил — ты же был на этой пресс-конференции, — подмигнуло его отражение в зеркале, конечно, имея в виду шашни с Галиной. — Ну, а с конкурентом разобраться — это без проблем… Вон видишь — винтовочка с оптикой в углу.
— Значит, это всё ты! — рванулся я.
— Спокойно! — брезгливо отвернулся он, в то время как у меня на руках повисли два мордоворота.
— А как же Эрик? — всё ещё надеялся я, что это очередной розыгрыш.
— Да какой, блин, Эрик! Зациклило тебя. Маратом я его назвал в честь героя французской революции. Я ведь до всей этой перекройки-перестрелки, пересадки историю в школе преподавал. А до этого кандидатскую защитил по языческим культам, но попёрли с кафедры за общежитские дионисийские оргии и эксперименты с жертвоприношениями. Ну, там, бардовские тусовки, рок-фестивали, вялотекущая, психиатрические репрессии… Долго рассказывать. В общем, оказалось, что в прошедших своих жизнях я был факиром, магом, чародеем. Тем самым, которого заточили в клетку со львами. Помнишь? Вначале мне в числе других волхвов довелось поднести дары самой Марии, потом меня посадили за решетку с этими кисками, которых я загипнотизировал, а потом — ну ты же читал об этом у Ренана и Сухоусова: корабль, пираты, плен, верёвка на шее, рея. Свои паранормальные способности я обнаружил совершенно случайно, когда после увольнения с кафедры работал дворником в зверинце. Света тогда там ветеринаром трудилась. Ашот директором был. Зашла в клетку к приболевшему льву, а он как кинется — и сшиб её. Я, не думая, влетаю с метлой в вольер. А лев и завилял хвостом, как ручной. Вот так. А потом уж, когда стал штудировать источники, допёр, что я — реинкарнация того мага, ага. Я и на крокодилов так же действую. У нас и серпентарий есть. Змеи, знаешь ли. Яд. Древнее целебное средство. Мы тут их разводим в тепличке с бассейном. И змей, и крокодилов. Небольшой филиал зоопарка. Упрятали под землю. Мы щас как раз под тем местом, где раньше был зоопарк. Ну, а подкармливаем рептилий теми, кто шибко выпендривается. Кстати, насчёт Эрика. Это ты нам подсказал идею, когда в заметке написал и слегка приврал. А нам эта идея понравилась. Мы со Светой и её мужем Ашотом сразу на этот сюжет ставку сделали. Хорошо ты на слезу даванул… Потом этот рассказ в трёх газетах появился, телевидение клип сняло — и посыпались денежки… А ты думаешь, почему этот клип с такой охотой ставили, съёмочную группу напрягали?
— Я думал — мне удалось ухватить типаж. Угадать, что у людей слезу вышибает… Но теперь вижу — я создал кого-то очень устраивающий миф. Проходящие мимо сильно переживают насчёт того, что им когда-нибудь придётся просить в метро подаяние…
— Так-то оно так, но пусть не переживают, — вклинилась в разговор Света. — Здесь все места забиты. Ашот никого не пустит. Наше ноу-хау — продавать цветы по два-три раза… А чё им зря пропадать на могилках да у монументов? Когда они совсем ещё свеженькие…
— Так вот, — продолжал майор, вешая китель на стояк с крюками, который вполне можно было использовать в качестве орудия инквизиции, — твой рассказ три раза напечатали лишь потому, что я откупил место в газетах. Это, кстати, окупилось, когда тут телевизионщики по следам фильм сняли. Реклама попёрла, а это уже солидное бабло. Так что теперь можно и в депутаты двигать… Наша партия называется «Ритуал»… Вот и заказняк, о котором ты писал — его совершил сын Светы и Ашота. Кстати, лишь для того, чтобы показать, что наши ритуалы сильнее церковных. Вон сколько народу сбежалось, все газеты написали, телевидение показало, только ты переврал… Ну, а потом мы решили повторить ещё и ещё… Чтобы закрепить успех. Тем более — вы с Серёгой начали дурить. Да и Андрюха Копейкин, Микеланджело недоделанный, встрял. Ты даже не удосужился поинтересоваться тем, что было на том же самом месте возле «Лепестков» и на тех же самых чердаках через час после того, как вы сначала с Серёгой, а потом с Андрюхой закончили свои розыгрыши: а всё повторилось. Только по правде.
— Теперь всё ясно! — дёрнулся я из рук мордоворотов. И провалился в моё прошловековье.
Монах-палач взял щипцы… В то же время мне казалось, что я сижу на «электрическом стуле» в кабинете Дунькина. Правда, это был не совсем тот стул. Каким-то образом кресло смертника перекорёжилось в гинекологическую дыбу — мои ноги были расшеперены и задраны вверх, ляжки опирались на полукружия костылеобразных подпоров, я прочно был пристёгнут к этому орудию пыток, и Главврач, обряженный в рясу доминиканца, уже приценивался скальпелем к той самой части тела, которая мешает танцорам выделывать умопомрачительные па и помогает поэтам писать стихи.
— А ты думал — почему тебя вызывал на допрос следователь Зубов? Хотя ты-то по глупости счёл, что и в самом деле отправляешься брать у него интервью. Они ведь о том втором трупе и серии заказняков по подсказанному тобой сценарию, прессе — ни гу-гу. Тайна следствия! И с девочками то же самое было. И с изнасилованными в лесопосадках. Я сам Тромбониста нанимал, чтобы под шумок устроенных тобою мистификаций убрать Корявого. Насчет Китайца договаривался с Виолончелистом. С Дирижёром — насчёт инсценировки изнасилований. Пацанов-нюхачей по гаражам собирал и объяснял, что и как нужно делать. Дал им денег, чтобы всё в точности соответствовало твоей писанине, а они уж постарались. У Дирижёра с Виолончелистом был мотив — ревность. Ведь ты трахал их баб. Убрать конкурентов мне нужно было, и ты мне помог, а инсценировки помогли отвлечь внимание сыщиков…
— Не-е-ет! — заорал я, глядя на ухмыляющееся чудовище.
При этих словах в открывшейся сбоку двери появился чернявый паренёк. В руке у него был футляр, похожий на крепкобёдрую женщину. Сквозь крышку явственно проступали титьки, бёдра, лобок (всем этим я должен был обзавестись в результате трансплантации собственных ягодиц, путем перенесения их с задворков моего бренного тела на его фасадную часть, и избавления меня от моих «янских» атрибутов). Я вспомнил о том, как, присутствуя при убийстве коллеги-журналиста, с которым мы пили пиво в «Лепестках», по настоятельному совету следователя прокуратуры не стал писать о том, что видел, а выпустил в свет утку с переодеванием и откуда ни возьмись явившейся стрелой. Голос милицейского майора возник в телефонной трубке сразу после голоса старушки-богомолки, чьё место сбора подаяния было как раз напротив «Лепестков». Собственно, насчёт стрелы я не соврал. Да и насчёт того, что стреляли в меня — тоже. Вот только переодевания были не совсем переодеваниями, а следствием психофизического явления. Потому что пил-то я на тот раз в «Лепестках» один. Кружечку за кружечкой. Хрустя кириешками. И где-то на пятой кружке, после того, как, по причине нефункционирования отхожего места, удалясь до худфонда, я уже пару раз опорожнил мочевой пузырь, за столом появился этот второй. Коллега. Я не был уверен, что этот самый коллега не я же. Этот второй я обычно появлялся, когда я, жеванув насвайчика и курнув соломки, догонялся стопочкой в «четвёрке». И вот, глядя на купола златые, на сизарей, на крестах сидящих, я увидел, как я-второй вышел из кафе. Я мог видеть, как я-второй подходит к редакционной колымаге, пытается открыть дверцу — и падает, как сизари взлетают, набегает хмурая тучка, отбрасывающая тень на лучезарные купола. При этом я-первый мог наблюдать, как сверкает в темноте чердачного окна так напоминающая мне о намалёванном Копейкиным в подвале вифлеемском чуде звёздочка окуляра оптического прицела. Кроме того, под воздействием искривлённых магнитных и гравитационных полей и коловращения вездесущих торсионных вихрей как раз в этот самый момент происходил перескок во времени — и между лопаток меня-третьего — волхва в заношенной хламиде с обремкавшимися краями — вонзалась стрела. Я-третий падал — по камням катилась чернильница-ракушка, на белые катыши выплескивались синяя жижа, сандалий легионера наступал на колеблемый ветерком пергамент, тяжёлая нога римлянина давила связочку гусиных перьев. В других временах это же событие выглядело так: в келью чернокнижника врывались canis deus*, в кабинет диссидента — сотрудники-гэбисты…
— Вовчик! — покажи, что у тебя в футлярчике и что его ждёт, если он будет дёргаться.
Чернявенький открыл футляр. На малиновом бархате блеснула воронёная сталь разборной винтовки с оптическим прицелом. Чернявенький запахнул футляр и, словно механический, задвинулся в зияющую нишу. Следом захлопнулась дверца.
— Так что давай, примеряй протез, нахлобучивай парик, гитару в руки — и вперёд, — сушил умытые руки автоматической ветродуйкой с подогревом руководитель разветвлённой подпольной организации. — Твоё место на Гагаринской, там как раз все судьи тусуются, законники хреновы…
Между лопатками текла холодная струйка. Казалось, это кровь, сочащаяся из-под стрелы. А её наконечник покалывал сердечную мышцу. Спина взопрела под колымской телогрейкой. А может, это охранник с вышки достал из винтаря? Плохи дела, если это подтекал аминазин из всаженной под лопатку иглы. Или инъекции для запелёнутых в смирительную рубашку с диагнозом вялотекущая ставят в ягодицы? Неужто трансплантация уже проведена, но только навыворот, -и моя ягодица переместилась под лопатку? Нет, только не туда! Иначе — что делают два явственных вздутия пониже ключиц? Отчего между ног уже ничего не мешает, как после снятия швов?
Взглянув в сторону Гены, я увидел восседающего на золотом троне лысого темноликого жреца в пурпурной мантии. Света (как зовут эту стерву на самом деле, я не знал) нажала на кнопку, и прямо у моих ног распахнулась полость, на дне которой в одной отгороженной секции клубились змеи, в другой плюхались в затхлой воде крокодилы, в третьей и четвертой другие хищники. Можно было разглядеть и валяющегося на камнях недоеденного человека, над которым склонился матерый волк. Створки в полу тут же захлопнулись, но прежде в одной из поднявших голову змей я узнал Клару Стукову, а среди рыкающих представителей семейства кошачьих — жгучую пантеру Киску. Всё произошло так быстро, и я не мог понять, что это — галлюцинация или звериная яма — действительность. В двоих, всё ещё придерживающих меня под локотки, я сильно подозревал дюжих санитаров из-за шкафа Дунькина. Да и благообразный Гена шибко уж смахивал не только на металлургического магната, но и на поклонника творчества сгинувшего от электрического разряда поэта. «Неужели я и в самом деле сижу на электрическом стуле у Зам Замыча?» — кольнуло в ретивое наконечником стрелки.
— Львов, к сожалению нет, — прокомментировал мой многоликий спутник. — Да. Чуть не забыл. В одном из недавних своих воплощений мне довелось быть отцом-доминиканцем. Ох уж эти еретики! А намедни я покинул тело лагерного начальника. Умер в своей постели, обладатель персональной пенсии, окружённый заботливыми родственниками. А ведь было — Колыма, золотые прииски, побеги… Да, в чьих телах я только не поселялся! При Николае Первом довелось поселиться в тело одного из чинов третьего отделения. Усмирял бунтовщиков-кавалергардов, мятежных князей и графьёв, мать их за ногу! Мы, кажется, тогда уже встречались! Припоминаете, граф-поручик, о том, как вас отправили в ссылку в Иркутск? Да и имя масона Елгина и его самоотверженной супруги Софьюшки, если мне память не изменяет, должно вам о чём-то говорить! А в одно из моих воплощений мне приходилось участвовать в теологических дискуссиях. А потом и в атеистических диспутах. Были глупцы, которые утверждали, что вифлеемский хлев — это сердце человека, а обитатели пещеры — пульсирующая в нём кровь. Находились и такие, кто уверял, будто бы возраст распнутого на кресте равен количеству сверженных римских императоров… Всё это такая же ерунда, как и то, что говорят нынче на пресс-конференциях…
— Да! Пресс-конференция, — вскинулся я. — Я опоздал… Мне нужно…
— Никуда ты не опоздал! — отрезал зловещий жрец, гнездясь на выдвинувшемся из стены троне. — Смотри! Все газеты разместили публикации о загадочной смерти на рельсах одного журналиста и его подруги.
Вещатель взмахнул рукой — и с потолка, где не видно было никакой дырки, в которую перед этим спускали цветы, посыпались газеты…
Газеты валились мне на голову. На последней полосе «Городских слухов» я увидел свой портрет в траурной рамке, короткий некролог, начинающийся дежурным «От нас ушел…» и подписи коллег, среди которых фамилия Анчоусова, разумеется, была первой.
— Убедился? — оскалился главарь глубоко законспирированной организации, вертя в руках банку с заспиртованным излишеством, обладание которым мешало мне стать полноценным членом сообщества продолжательниц славных дел Жорж Санд.
И вдруг вслед за ворохами газет в люке появилась чёрная развевающаяся ряса, а следом за ней — витязь с мечом и гитарой на верёвке, в кольчуге и шлеме. Отец Святополк и толкинист Тимоха бухнулись на газетный холмик и кинулись к садисту. Света — или как там ее? — взвизгнула. Меч долбанул тирана подземелья по макушке…
Я проснулся. И самым чудовищным было то, что сон сморил меня на пресс-конференции.
Глава 27. Дракон
Он кипятит пучину, как котёл, и море претворяет в кипящую мазь.
Книга Иова, гл.41, ст. 23
— Вы представляете, што он учудил! — ярился Анчоусов. — Он подошёл на пресс-конференции к директору элеватора Кукушкину и долбанул его по голове бутылкой минералки! Человека, который собирался нам платить! Мецената, спонсора ударить!
Да, я помнил, как, когда на голову дракона опустился меч, я вначале почувствовал его рукоять в собственной руке, поняв, что толкинист, бренчавший на гитаре в подземке, — это я и есть. То бишь, одна из бесчисленных моих глюкоидных ипостасей. Потом рукоять преобразовалась в горлышко бутылки. Кровь и минералка текли по лицу одного из моих сексуальных антагонистов. Он торговал семенным зерном. И имел колбасный заводик. Галина Синицына висела на моей руке. Голову сдавливали обручи шлема, и хотя я понимал, что никакого шлема нет, и просто меня сорвало с катушек, иллюзия была полной. Пришедшие на выручку отец Святополк и толкинист Тимоха удалялись, пройдя сквозь противоположные стены конференц-зала. Меня подхватили под микитки дюжие охранники. Они вытащили проявившего столь дерзкое неуважение к представителю бизнеса на улицу. Это был всё тот же перекрёсток у «Лепестков», потому как пресс-конференция происходила в этом железобетонном лотосе. Я поднял лицо к маячившему в перспективе улицы Гоголя солнышку. Тучка плыла по небу. Птица летела. Что-то блеснуло в глаза. Не дойдя до дверцы санитарной машины, я обернулся. В чердачном окне того самого дома, по лестнице которого мы взбирались со следователем и священником — борцом с сектами, сверкнуло стёклышко оптического прицела. Я услышал щелчок. Боли не было. Просто сразу стало темно…
— Всё! Я больше не намерен терпеть этого гения! — орал Анчоусов, выныривая из просветов между нынешним времечком и прошловековьем в обликах Гитлера, посылающего войска на Восток, Хрущёва, стучащего башмаком по трибуне ООН, Муссолини, выпячивающего нижнюю губу, Фиделя, воспламеняющего речью суровых барбудес. Это был Карибский Кризис.
Я отчётливо увидел спрыгивающую на рельсы Галину и ринулся следом. Сощуренные глаза Дунькина напомнили о касте Наблюдателей. Налетевшая бешеная электричка январской метели тащила меня от станции к станции. За светящимися её окнами мирные граждане держали перед глазами свежий выпуск газеты с очередным бестселлером. Ринувшись за Галиной в чёрную дыру, я не успел: её засосало торсионными вихрями. Пленённый одним из них, я готов был превратиться в матёрого волка, чтобы улепётывать подальше от этих вышек с охранниками в касках, похожих на перевёрнутые детские горшки, переговаривающихся лающей речью. «Ему нельзя доверять тайны Тemplicie Salomoniasis!» — гневно произносил магистр. «Он прячется в урмане за речкой Падучей!» — давал инструкции по поимке беглого зека начальник лагеря. «Ещё пару кубиков аминазинчика — и он уймётся!» — ковырял спичкой в зубах Главврач…
Это было весьма увлекательное чтиво.
Как всегда, я задерживался у книжных лотков, копаясь в томах с толстыми обложками и тонкокорых покетбуках, вдыхая декадентский тлен поэтов начала века, обнаруживая параллельные места там, где их никто и никогда не углядит. Этот сброшюрованный самиздатским способом томик мне предложила посмотреть лотошница с обликом Монашки. Мол, ходил тут один мужчина — и оставил на память. Просил передать первому, кто простоит у прилавка более получаса и не купит ни одной книги. И вот, прочтя: «Я услышал хлопок. Боли не было. Просто сразу стало темно…» — я дошел до многозначительного многоточия. Я понимал, что это не репортаж, а мистификация, что тот, в кого выстрелили из чердачного окна, не имел возможности что-либо написать. Надо сказать, и пролистал-то я толстую повесть с пятого на десятое. Скользнув глазами по диагонали по сцене вздёргивания пластилиновой куколки факира на ниточке, пробежав наискосок цитаты из вставного романа про обитающих в подземке монстров.
— Спасибо, — вернул я книгу, в которой мне не грели сердце матерки и длинноты, поняв, что стал читателем какой-то неформальной библиотеки.
Не успел я сделать и двух шагов на выходе из метро, как меня обогнали драповое пальто и шляпа. Их я заприметил ещё тогда, когда погрузился в чтение странноватого самиздатского труда. Пока я листал его страницы, меня преследовало неотступное ощущение: кто-то заглядывает мне через плечо. И вот — опять фетровая шляпа, пальто, выглядывающие из под обшлагов кожаные перчатки. Сделав пол-оборота в мою сторону, все эти вещи обнаружили свою принадлежность Антону Зубову.
— Не хотите ли прогуляться, гражданин Крыж?
— С удовольствием! –понял я , что следак пришел мстить.
Зубов вынул из кармана пульт с кнопочками, нажал на одну из них — и к моему немалому изумлению мы оказались в его сыщицком кабинете.
— Ловко это вы! — кивнул я на приборчик с кнопочками.
— Пустяки! — сказал он.
— Вы, случаем, не Наблюдатель-фискал? — спросил я, холодея, ожидая, что в отместку за мои приколы и мистификации он зачитает мне сейчас какую-нибудь обвиниловку( что –нибудь там из серии подстрекательства с помощью СМИ). - Раз с помощью этого прибора вы так легко переносите предметы в пространстве, чего вам стоит просто стереть кого-нибудь?
— Вы, молодой человек, проницательны! — сказал Зубов (или тот, кто выдавал себя за него), и на месте его рта образовалась беззубая дыра со щупальцами. — Но сейчас не о том. Вот, посмотрите…
Он ещё раз нажал на кнопку пульта — и я вовсе не исчез, а увидел, как на экране стоящего на тумбочке телевизора появилась движущаяся картинка. То ли это была отснятая на плёнку наша посиделка в «четвёрке», то ли каким-то образом отсюда мы подглядывали за происходящим там, хотя это и было в прошлом.
— Обратите внимание на предложение о создании «Ложи чёрного скарабея!» — прогудело около моего уха. Глянув на дознавателя, я обнаружил, что вытянувшееся большим зеленоватым раструбом, его ухо к чему-то прислушивается, словно ловит поступающие свыше указания.
— И что с того?
—А то, что являясь Наблюдателем, вы нарушили Кодекс Наблюдателей (КН) и вмешались в ход событий. За это вы будете подвергнуты переносу на нижние уровни воплощения. Побудете парочку веков в виде недовоплощённой слизи — узнаете, что такое КН и как его надо чтить! Сняв перчатку, он тянул обнаружившиеся под ней жгутики к отложенному было пульту.
— Не-ет! — заорал я. И проснулся окончательно.
Увы, я очнулся опять-таки на той же самой пресс-конференции, как раз в тот момент, когда Галина Синицына протягивала Кукушкину стакан минералки. Они глядели друг другу в глаза. Их ноги соприкасались под столом. Вот тогда-то, роняя стулья и расталкивая продажную журналистскую братию, я и выхватил из дымящегося алтаря сияющий меч. Я рванул его за ручку, я явственно ощутил, что горлышко бутылки «Ессентуков» — это рукоять. Я контрастно-отчётливо увидел, что сжимающий в когтях стакан с пузырящейся жидкостью — зелёный, чешуистый змей. И тогда я занёс свой меч. Но прежде, чем его опустить, я увидел висящую в воздухе книгу. Змей отворил пасть — и, зевнув, заглотил меня вместе с нею. На неимоверной скорости меня уносил совершенно пустой вагон электрички метро и, пройдя без остановки последнюю станцию, он вжёгся в расправляемую породу материнского Ключ-Камышенского плато. И когда огненные круги разошлись, перед моим взором снова предстал распахнутый, шевелящий страницами фолиант. Вполне вероятно, что это была не книга, и букв не было, а всё промелькнуло в виде быстро сменяющихся картинок на экранах прикрученных к потолку вагона телевизоров, по которым постоянно крутят рекламу. Был ли это «грязный пиар» или что-то другое — даже затрудняюсь сказать. Просто я как бы вошёл внутрь текста-изображения.
«Сквозь выпуклое стекло на губернатора Золотогоркина невидящими глазами смотрел его двойник. Расслабленно раскинув руки, он плавал в зеленоватом прозрачном растворе и был абсолютно голым.
— Это первый экземпляр вашей копии, который мы можем предоставить в ваше распоряжение, как только начнётся избирательная кампания, — сказал академик Владлен Кириллович Азначеев и добавил: — Такое вот соединение биотехнологий с выборными.
— Он спит? — поёжился Золотогоркин, глядя на искусственного близнеца.
— И да, и нет. По крайней мере, ваш двойник вполне жизнеспособен и, в отличие от вас, вечен;.
— То есть, он не будет стареть?
— Да. Кроме того, он обладает некоторыми паранормальными способностями.
— Какими же?
— К примеру, он сможет трансформироваться в форму способного для полёта рукокрылого и в сущность, которая вполне может обходиться без одежды, потому как она обладает внешностью волка и защищена от холода шерстью.
— Когда-то таких сущностей называли оборотнями!
— Средневековые суеверия! Вы же видите — всё согласуется с научными методами…
— Как же вам удалось добиться столь впечатляющих результатов?
— Всё благодаря соединению некоторых разработок на стыке оккультологии, археологии, космозоологии и генной инженерии. С помощью добытых в подземельях Змеиногорска образцов фауны и флоры нам посчастливилось синтезировать вещество, которое можно назвать биопластмассой, или мыслящим силиконом. В прозрачных чанах, которые вы видели в начале конвейера, происходит первичный синтез. Затем через патрубки, клапаны и дозаторы вещество поступает на участки, где с помощью компьютерного моделирования аморфной массе задаётся облик того или иного клиента. Таких двойников нам уже заказывали некоторые состоятельные люди Центросибирска. И вовремя. Двойники попадали под обстрел киллеров, их хоронили. И тем самым обеспечивалась безопасность клиента и сохранялась полнейшая конспирация. Копию хоронили, оригинал уезжал за границу и, к неведению своих конкурентов-злопыхателей, продолжал руководить бизнесом из какой-нибудь оффшорной зоны, загорая на пляже…
— Заменить меня куклой, чтобы избежать пули наёмного убийцы — это мне понятно, а вот как насчёт принятия важных государственных решений?
— На этот счёт можете не сомневаться. Разработчики этой программы и главные координаторы Лидия Лунёва и Николай Осинин всё предусмотрели. Интеллектуальный ресурс вашего двойника будет равен мощности силиконовой долины. Всё благодаря синтезированному особого вида силикону.
— Но если во время выборов кто-нибудь почувствует что-то неладное? Избирательная комиссия, знаете ли! Наблюдатели. Да и электорат! Его настроения непредсказуемы! Вспомните, как народ отвергал Лжедмитриев! Не постигнет ли та же участь и моего двойника?
— Не постигнет! Тем более, что на складе готовой продукции уже имеются запасные дубликаты — и вы сможете с успехом проводить предвыборную агитацию, бывая сразу в нескольких местах… Тем самым вы обеспечите высокую явку. Это гарантировано: двойник обладает одной примечательной особенностью. Незаметно отпочковавшаяся от основного экземпляра нано-частица твердеет в микрокапсулу и во время встречи с избирателями проникает под одежду собравшихся и сквозь кожу всасывается в организм реципиента. Со временем микрокапсула внедряется в мозг — и голубчик становится полностью подконтролен нашим операторам Лидии Лунёвой и Николаю Осинину…
— Любопытно, — произнёс губернатор. — Но ведь таким образом от моего двойника ничего не останется.
— Останется! Капсулы настолько микроскопичны, что он даже почти не похудеет. Разве что брюшко немного опадёт!
— Ну а если сведения обо всём этом просочатся в прессу? — словно бы сам себя спросил Золотогоркин, переводя взгляд на соседний резервуар с плавающим в нём, похожим на синеватого невылупившегося цыпленка в яйце, двойником мэра Гузкина. Далее следовал вислобрюхий генерал Садыков, бодибилдерской стати депутат Крайнов, гламурный банкир Дубов, быковатый металлургический магнат Корявый, сам академик Азнечеев и другие «випы» Центросибирска.
— Ну и когда же вы их оденете?
— Эта миссия возложена на наш Дом Универсальной Мечты — ДУМ. Заодно они постоят там немного в качестве манекенов. Есть у нас и такой режим работы для наших подопечных. Ну а там используйте их, как вам заблагорассудится. Можете закатить в кругосветку, а ваши двойники будут всё делать за вас!
— Заманчиво! — задумчиво произнёс Золотогоркин, представляя себя в каюте трансокеанического лайнера вдвоём с манекенщицей Хлудовой. И, приблизив к стеклу лицо, почувствовал кончиком носа холод гладкой поверхности. В тот же момент он ощутил, как его нос проходит сквозь прозрачную перегородку. В ноздри брызнули струйки вязкой, пахнущей стриженым газоном и послегрозовым воздухом жидкости — и вот уже всё лицо вдавилось в вязкий кисель, который он принял за поверхность прозрачного пластика. Липкая масса втягивала губернатора внутрь, чтобы заключить в себе, словно муху в янтаре. И по мере того, как Золотогоркина всасывала тягучая масса, из неё выдавливался её двойник. Губернатор видел, как двойник открыл глаза и, барахтаясь, уже прорывал руками поверхность прозрачного кокона. Оторопелый учёный наблюдал за происходящим, крича что-то в мобильник насчет сбоя в системе. Но, вырвавшись наружу, как из парной, силиконовый двойник так врезал Азначееву в челюсть, что тот вляпался в соседний резервуар — и, утопая в нём, выдавил наружу двойника мэра Гузкина.
Заволновались двойники и в других ёмкостях. Но Лжезолотогоркину и псевдо-Гузкину было не до них. Глядя на то, как едва трепыхаются в слизистом узилище губернатор и светило науки, беглецы поспешили покинуть склад готовой продукции №1.
В белых халатах на голое тело, вознесясь в лифте и пройдя через ярко освещённое помещение бассейна, куда губернатор приехал для секретной миссии, они выскочили на морозец — и сразу же вычислили среди других губернаторский броневик. Итак, их подземная тюрьма, где безумный академик создавал подобия людей, освоив, кроме того, и производство чудобиопротезов, была позади. Охрана была снята по случаю приезда важной персоны. А остававшиеся в неведении телохранители ждали наверху.
— Как, и мэр здесь! — предупредительно засуетился с дверьми броневика водила. С боков подскочили двое телохранителей.
— Что ж вы! Без одежды! Простудитесь!
— Ничего! Здоровье у нас хорошее! — осклабился небывало белыми зубами искусственный Золотогоркин. На лице его живописно мерцали неоновыми отсветами крошечные капельки. Ни водитель, ни телохранители не видели, как несколько таких капелек, скатившись, уже юркнули им под штанины и, просачиваясь сквозь кожу, вливались в артерии.
— С лёгким паром! — услышал водитель голос внутри головы.
Телохранители вытянулись по струнке.
— Мальчики! — протянула руки с заднего сидения манекенщица Хлудова. — Как классно от вас пахнет! Это что за гель такой!
— В ДУМ! — скомандовал двойник и увидел, как Гузкин то ли от холода, то ли от запаха женского тела трансформируется в волка…»
Мигнуло. Я сидел у монитора едва ли не дымящегося компа. Надо мной нависала Галина Синицына. В одной её руке вякал пуштунчик-тушканчик, в другой надрывался голодным криком Эрик. Цветы в подземке не шли, монетки в чехол бросать перестали. Надо было гнать строку, чтобы прокормить двух голодных короедов, которых я так художественно превратил в своих новеллино в детей подземелья. Две отдельно существующие от меня кисти рук топтали клавиатуру бешеным аллюром узкорылого крокодила (в моменты смертельной опасности с ползания на брюхе этот рептил переходит на галоп).
«Вера Неупокоева знала, что всё равно найдёт этот колодец. Ей давно было ясно, что Георгий Кругов, он же Иван Крыж, неспроста пишет про расчленённых девочек. И недаром совершает свои мистификации. И хотя до некоторых пор она не верила в телепатию — пришлось поверить. И теперь Вера не сомневалась — через Георгия Кругова говорит и действует кто-то третий. Какая-то древняя тёмная сила. Вера обшарила все канализационные колодцы Центросибирска, исключая из списка уже проверенные, и не теряла надежды. И вот в старой части города, подступающей к загородному поселку Ново-Кусково, она спустилась в колодец, чтобы проверить ходы строящегося канализационного коллектора. По её сведениям, под видом канализации под городом сооружалось новое сатанинское капище. Ступив на сочащийся влагой пол, Вера заглянула сначала в одну, потом в другую расходящиеся по сторонам трубы и в третьей увидела мерцающий вдали свет. Вот так же и во время спелеологической экспедиции в Змеиногорск мерцало, а потом и во время турпоездки в Мексику, когда она спустилась в подземелье ступенчатой пирамиды, где с нею произошло нечто не совсем понятное. Это было что-то вроде аттракциона, но весьма странного.
Вера двинулась на синеватый огонёк и услышала звуки бормотания. Читали заклинания. Неупокоева шла, а сердце бухало в груди гулким там-тамом. Вера знала: ещё десяток-другой шагов — и она окажется в зале с пятью расходящимися от него туннелями. Посреди этого подземного храма будет стоять алтарь, на нём будет лежать жертва. Вера вынула табельное оружие, которое стала брать с собою в эти тщательно скрываемые от начальства путешествия. Под ногами хлюпало. С потолка сочилось. Новый коллектор прокладывался в болотистой низине. В таких гиблых местах в незапамятные времена водились кикиморы. Подходя к краю трубы, Вера обнаружила, что продвигалась по туннелю, который, скорее всего, предназначен под вентиляционную шахту: стоя на краю с вынутым пистолетом, следовательша видела, как внизу разворачивается сатанинская месса. Пятеро в капюшонах, чьих лиц не было видно, стояли вокруг алтаря со свечами в одной и кинжалами — в другой руке. На кругообразном алтаре лежала она. В ней Вера Неупокоева узнала себя. Неужели? Сейчас они допоют еретические псалмы и вонзят в неё свои ритуальные ножики! Но что это? В отверстие противоположной стены Вера увидела нечто вроде монастырской кельи, старца, возложившего руку на череп, развёрнутую старинную книгу. О, эти музейные экспонаты времён завоевания Мезоамерики Кортесом и Писарро! Как глубоко они врезаются в память! Тогда, в подземелье Тенотчитлана, ей показалось, что в нише над головами туристов не восковая фигура монаха-доминиканца, а живой старец. И вот опять! Всё повторилось… Как хотела она тогда сорвать с лица жреца оскаленную маску ацтекского бога — протянула руку и почувствовала, как пальцы проходят сквозь вязкое вещество. И хотя их предупреждали, что экспозиция оборудована голографическими спецэффектами, Вера вскрикнула…»
Мне чудилось: яркая вспышка света, слепящие блицы фотоаппаратов, кинокамеры. Это скандальная пресс-конференция. Мастера бестселлеров публично отказываются от своего авторства, раскрывая истинные масштабы суперпроекта и его паранормально-гениального творца. Чёрный смокинг. Белые манжеты. Давящая на кадык бабочка литературного мэтра. А пока пальцы галопируют по буквам и знакам препинания.
«Из канализационного колодца пахнуло смрадом. Вера скривилась, но дело было привычное. Топтавшаяся же рядом с чугунной крышкой Изабелла Ненидзе уткнулась носом в надушенный платок. Получив сообщение об очередной жертве, Вера Неупокоева сразу позвонила экстрасенсше Изабелле — хотела провести сеанс опознания с применением паранормальных способностей целительницы, предсказательницы и телепатки (втайне Вера считала её заурядной психопаткой), пока её не опередил вездесущий Зубов. За годы охоты на маньяка-насильника и попыток поймать таинственную секту Зубов сделал карьеру — из следователей районной прокуратуры вырос в следователя городской, а затем и областной. Вера же продолжала трудиться всё в том же Осиноворощинском подразделении государственной структуры, уходящей корнями во времена прокуратора Понтия Пилата (Вера любила перечитывать «Мастера и Маргариту» и даже воображала себя рыжеволосой фурией, летающей на щётке.) Чтение ли увлекательной книги, в которой главным «фигурантом» по уголовному делу проходил иудейский пророк или блуждания по ведьминским кольцам зловещих преступлений повлияли на вполне прагматичную женщину, но параллельно с дедуктивными построениями, скроенными по законам формальной логики, что сшивались в папки уголовных дел, Вера стала выстраивать версии, обоснованные на зыбких предчувствиях, интуитивных озарениях, мало-помалу скатываясь в зыбкое болото мистицизма. Джинна суеверий выпустил из бутылки о. Святополк, дав телевидению и газетам Центросибирска интервью, в котором вполне определённо высказался на тот счёт, что и маньяком (вполне возможно, это была стая оборотней), и расчленителями девочек манипулируют инфернальные силы, приводимые в действие масоном екатерининских времен Елгиным, которому удалось установить мистическую связь с духами древних друидов.
Окончившая юрфак Вера Неупокоева не верила во все эти легенды с переселением душ и, будучи женщиной конкретной, решилась привлечь ясновидящую к следственным мероприятиям в расчёте на то, что и её, подобно Зубову, телевизионная и газетная популярность вознесёт по служебной лестнице. Областная прокуратура почему-то виделась ей некой более высокой ступенью на ведущей в небеса лестнице карьерного роста. Что же касается колодцев и лесополос, то за чертой города их было не меньше, а даже больше. От того, что при переходе к областному масштабу забетонированные входы в подземелья сменялись на укреплённые замшелыми брёвнами, а лесополосы постепенно переходили в тайгу, суть не менялась, а столь любезное публике легендарное очарование только усиливалось. Так что перспектива роста была и здесь обеспечена, тем более что обнаружился странный феномен: мистически настроенную общественность мало интересовала раскрываемость, за низкие проценты которой ещё недавно начальство получало нагоняи. Общественный резонанс превращал ужасные происшествия в шоу, звёздами которого становились следователь, журналист, подлежащий поимке неуловимый злодей. Жертва играла роль необходимой для сенсации бутафории (чем ужаснее расправа, тем сильнее интерес). И чем дольше продолжалось это шоу, тем больше оно доставляло радости жадно ловящим его свежие подробности. Тиражи газет и рейтинги телепередач росли. Затем всё это становилось сюжетами бестселлеров, которые поглощались любопытствующими тем в больших количествах, чем интенсивнее была предшествующая обработка населения с помощью масс-медиа. Так что для служебного роста и не было необходимости сильно напрягаться с раскрываемостью, а нужно было лишь научиться комментировать, переводя происшествия на язык падкой до мистических подробностей аудитории. И хотя в глубине души Вера считала частенько появляющуюся на телевизионных экранах колдунью Изабеллу Ненидзе заурядной шарлатанкой, всё же набрала её телефонный номер и пригласила поучаствовать в эксперименте. Всё это надо было сделать, пока не появился криминальный репортёр Кругов, не понаехали телевизионщики, среди которых особо активной была ведущая программы «Левитация, медитация, телепортация» Жанна Кульбит с бессменным её спутником, оператором Сергеем Всеглядовым с телекамерой на плече.
— Приступим! — сказала Вера, выхватывая световым пятном фонарика то сжатую в кулачок детскую ручку, то оскаленную в предсмертной улыбке головку с изрезанной бритвой щёчкой; и отъеденным ухом. Взглянув на эту пухленькую щёку, Вера сразу подумала, что либо маньяк копирует сообщения криминальных хроник об изувере с приклеенными к перчаткам лезвиями, который, проходясь по проспекту, уродует девушкам лица, либо в преступном клане неуловимых оборотней появился людоед с новыми садистическими наклонностями.
Вера не стала говорить Изабелле, что в момент, когда она нажала на кнопку фонарика, который вынула из кармана, где лежал томик Алистера Кроули с закладкой из шнурочка с ботиночка предыдущей жертвы на 93 странице, дожидались своего часа свечка и зажигалка, она увидела, как какое-то существо с всклокоченными волосами на голове бросилось наутёк в боковой ход. Существо даже повернуло в её сторону морду; в зубах монстра было зажато оторванное ухо ребенка.
— Ну что же! Давайте! — сказала Изабелла. Ей не очень-то хотелось ехать с этой честолюбивой бабёнкой: погадав перед отъездом на картах Ленорманн, Ненидзе не увидела в их раскладе ничего хорошего. Но лишний раз засветиться в телевизионном криминально-мистическом сюжете не мешало. После таких появлений на телеэкране клиент валил валом. Лучшей рекламы, к тому же бесплатной, нельзя было придумать. Собственно, ведь и Великий Копт устраивал все эти манипуляции с графином и предсказаниями для того, чтобы привлечь публику, думала Ненидзе, беря в руку башмачок девочки и уверенно кладя ладонь на голову Веры. Первое, что увидела экстрасенсша, была воровато принимающая деньги рука с золотым кольцом-печаткой на безымянном пальце. Одна только кисть её, синеватая и безжизненная, но в суетливой своей активности похожая на паука. Но взятки прокурорской работницы Изабеллу не интересовали. Плотнее сжав веки и концентрируя энергию на туфельке, экстрасенсша забыла и про трупную вонь, исходящую от не одни сутки провалявшегося в канализационной слякоти растерзанного трупика, и про то, что на картах так странно легли туз мечей и туз чаш, что прошлое поменялось местами с будущим. Чувствуя, как теплеет рука, и представляя, что пальцы её прорастают внутрь головы медиума, чтобы замкнуть бутон мозга Веры в нечто вроде оправы для кристалла, Ненидзе увидела туннель со слабым светом вдали. Откуда-то сбоку возникла картинногалерейская Екатерина II. Потом наплыли испещрённая тайнописью страница старинной книги, горящая свеча, зажатая всё в той же руке с золотой печаткой. Послышался эхом прокатывающийся далёкий волчий вой. И туннель вывел в замкнутое пространство. Вера говорила Ненидзе, что нехорошие сны и предчувствия, будто бы не девочек в колодцах, а её режут на каком-то алтаре, возникли у неё после поездок в Египет и Мексику. Для тех, кто желал пощекотать нервы, турагентствами устраивались экскурсии с мистериями в погребальных камерах, голографическим кино и прочими новинками техники. Так что, уже возвращаясь в Россию в самолёте, задолго до подлёта к Шереметьево, Вера грезила, что она летит домой то ли в золотом саркофаге, то ли на космическом агрегате, изображённом на одной из майяйских стел. Затем Веру стали мучить кошмары, в которых следовательшу то потрошили внутри пирамиды Хеопса и раскладывали её внутренности в кувшины, то резали, посвящая жертву Пернатому Змею Кетцалькоатлю.
Проходя через металлодетектор, она боялась, что зазвенит, потому что ей казалось: жертвенный нож майяйского жреца остался у неё внутри. Так она объясняла появляющиеся при переутомлении колющие боли в сердце. А сердце ей казалось шевелящим лапками скарабеем, потому что все её внутренности, как ей мерещилось, находились в кувшинах и среди других экспонатов хранились в обнесённом ажурным металлическим забором Каирском музее.
— Мы прибыли на место! — сказала экстрасенсша и, открыв глаза, вскрикнула от ужаса. Спрашивала же она Веру, не взяла ли она с собою каких-нибудь ритуальных предметов? Но та от неё скрыла, что взяла одну из книг Великого Зверя, являющую собою закамуфлированный под «Дневник наркомана» печально-знаменитый «Тайный кодекс оборотней», да к тому же ещё и открыла книгу на 93-й странице!
— Зачем вы это сделали?! — вскрикнула Ненидзе. — Великий Зверь является реинкарнацией Калиостро, а тот в свою очередь был воплощением магистра тамплиеров Жака де Мале! Они такого понатворили во временных коридорах, что чёрт ногу сломит! И теперь с нами может такое случиться, что мало не покажется! В следующее мгновение налетевшим через вход в грот ветром с треском выдрало из книги страницу, пятеро нарисованных на ней друидов, материализовавшись, вывалились наружу — и двинулись на женщин. В руках у каждого было по мечу и чаше с карт, по которым гадала экстрасенсша накануне.
— Где мы? — вскрикнула Вера, выронила книгу, свечку и зажигалку. Книга свалилась на девочку, свечка упала сверху. Метнулся столб пламени, и сквозь него женщины увидели монарший лик.
— Вы удостоились чести быть на приёме у самой императрицы! — донёсся до Веры голос телеведущей Жанны Кульбит (она-то и восседала на троне, пригрев в белых ручках скипетр и державу). — А эти мужики в балахонах с капюшонами, девочка эта расчленённая — антураж. Видите, это просто так звездообразно сложена мозаика на паркете, а поверх неё в медальоне аллегория — Аид похищает Прозерпину.
— Неужели мы уже снимаем сюжет? — присела в книксене Вера.
— Не знаю, о чём вы, голубушка! На дворе век Просвещения, а вы и вот эта девка-знахарка из ваших крепостных участвовали в гнусных оргиях проходимца Джузеппе Бальзамо, присвоившего себе титул графа Калиостро! Да и в имении графа Елгина какие непотребства творили! Сочинять гнусные поэмки, начитавшись которых дети дворовых звереют, растерзывая девочек! А эти эксперименты! Слыханное ли дело — получать гомункулусов путём запаривания спермы в конском навозе! И это в то время, когда мои друзья Вольтер и Дидро опровергают суеверия. Вы, матушка, будете строго наказаны и сосланы в Сибирь…
Не успела она этого договорить, как Вера уже ощущала голой спиной холодный камень жертвенного алтаря. Над ней были занесены мечи. К ней протягивались чаши. Чудовища с шакальими головами должны были испить её крови…
— Снято! — раздался голос, и Изабелла вырвала воображаемые когти из головы медиума, отдёрнув руку, как от горячего. Просыпаясь, она поняла, что это был не совсем медиумический транс, а нечто иное, что пришло в полусумеречном состоянии, причудливо комбинируя события вчерашнего дня после посещения «Городских слухов» и телевизионной студии, где её попросили прокомментировать очередной криминальный сюжет. Входя в студию, оборудованную в нечто вроде египетской ложи, она столкнулась со словно прошедшим сквозь неё чернорясным о. Святополком. Изабелла перевернулась на бок, почувствовав ногой присутствие мужа своего — Константина Эдуардовича Селенина (после регистрации каждый остался при своей фамилии) и даже не стала смотреть на залитый лунным светом циферблат часов. На вопрос: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» — у неё никогда не было определённого ответа. Время для неё как бы не существовало».
Ещё раз мигнуло. Охваченный голубоватым пламенем вагон нёсся по туннелю. Меня придавило к скамье. Вот-вот должен был состояться пробный переброс на Гелению. Почему-то первым в мире удостоился этой чести я. Уже брезжило вдали. Уже заложило уши. На экране шли кадры, дающие последние инструкции насчёт того, как быть при встрече с внеземным разумом.
«Не мог Зубов внести в уголовное дело то, что видел. Не мог он задокументировать эти факты. А факты говорили о том, что Вера Неупокоева, Изабелла Ненидзе, телеведущая Жанна Кульбит, манекенщица Хлудова и некоторые другие заметные в Центросибирске женщины представляют собою непостижимо единое, способное к перевоплощениям и перетеканиям из одного состояния в другое, целое. В глухие слухи о том, что где-то под каким-то из бассейнов, где собираются для занятий аквааэробикой, греются в саунах и плещутся в синей воде, находится фабрика биоманекенов, производящая двойников и активизирующаяся во время выборов, Зубов не верил. Но и феномены, происходящие в лесопосадках, объяснить не мог. И вот опять. Между тополями лесопосадки, на зелёненькой травке, лежала меняющая облики «изнасилованная».
— Ну что, будем брать образцы? — спросил эксперт. — Или ограничимся фотографированием, пока она перетекает из одного обличия в другое, чтоб вклеить в уголовное дело этот малоузнаваемый гибрид? И сделаем всё для того, чтобы спихнуть дело в «темняк»? А может, пора заявить в ФСБ? Вчера вон «Городские слухи» опять про приход НЛО сообщали.
— Не знаю я, Антон Палыч! — задумчиво произнёс Зубов, глядя на то, как у жертвы восстанавливаются вырезанные (или выгрызенные?) соски, как зарастают раны (или укусы) под венериным холмиком, как лицом она становится то вылитой телеведущей, то копией следователя прокуратуры, то манекенщицей, и размышлял о справедливости слухов о том, что, подобно тому, как Гитлер поставил на конвейер производство латексных женщин для солдат, в фабрике под бассейном настрополились производить перепрограммируемых офисных девочек, внешность которых копировалась с наиболее привлекательных персонажей местных телевизионных передач. Что, если псевдоизнасилованная (можно ли изнасиловать биоэлектронную куклу?) от сотрясений и физического воздействия начала давать сбои — и сейчас, «вспоминая» сразу всех введённых в её программу красавиц, показывает им этот конкурс красоты?
— Ну а что будем делать с образцами шерсти?
— Оставь их себе на память! Ты же убедился, что они идентичны тем волоскам, что я заботливо смахивал с пиджаков мэра Гузкина, губернатора Золотогоркина, банкира Дубова, депутата Крайнова и даже грёбаного борца за справедливость Николая Кругова! После того как я доложил о том, что эти волоски совпадают с образцами шерсти волков, койотов и шакалов, а на унитазах в мэрии и обладминистрации был обнаружен кал кровососущих летучих мышей, начальник приказал ограничиваться стандартными, традиционными для криминологии отчётами.
— А что, если это и в самом деле — сигналы инопланетян! И таким вот образом они пытаются вступить с нами в контакт? Все-таки ДНК в образцах спермы такое выдают, что просто мороз по коже!
— Да брось ты с этой генетической экспертизой! Всё это гадание на кофейной гуще! ДНК таракана, динозавра, последнего русского царя, а также и любой твари во Вселенной хоть и отличаются, но не настолько, чтобы это могло лечь в основу серьёзного уголовного дела. Ты вспомни клоунаду с перезахоронением останков царской семьи! Так что напиши стандартное описание — к чему нам эти заморочки со спермой техасского койота на ляжках среднесибирской равнины;! Тем более что она сейчас очухается — и наша проблема лишь в том, чтобы уговорить эту обалденно красивую деваху полежать немного в морге, откуда мы её потихонечку вынесем и похороним на Заельцовском кладбище, чтобы ночью откопать. А потом, как всегда, дадим ей поддельные документы на новое имя — и пусть отваливает на все четыре стороны. До следующей жертвы маньяка. Так что давай, прикрой Гюльчатай личико. Кажется, телевизионщики прутся…»
Глава 28. Чудесные похождения хроно-номада;
Ещё одной догмой гностиков являлось утверждение мира как ошибки в Абсолюте. По их мнению, рождение материального мира произошло в результате вторжения войска хаоса в мир света. Бог-отец может проявить себя только в особых сущностях — эонах, которые нередко составляют пары. Именно законченность эонов способна создать Божественную полноту — плерому, создающую идеальный Абсолют. Начало космогенезиса, вследствие которого образуется материальный мир, возможно лишь после возникновения гордыни у одного из эонов.
«Тайные общества, или кто правит миром», Лариса Бурлацкая
Когда однажды Анна Кондакова появилась на экране в новостийном выпуске рядом с Петрушей Елгиным, стало ясно, что, перешагнув ипостась великой княгини, она сразу доросла до степени императрицы. Дело в том, что Петя Елгин был двойником Николая Второго (это стало окончательно очевидным после того, как он снялся в клипе, рекламирующем пиво «Николаевское»), а в запечатлённой рядом с ним Ане узнавалась Аликс. Мало того: как-то, взявшись поливать кактусы рядом с компьютером Ани Кондаковой, я увидел на подоконнике нарисованных шариковой авторучкой паучков крошечных свастик с кончиками, направленными посолонь. Бывало, звоня по телефону, Княгиня отворачивалась к окну и, шепча в трубку, что-то бессознательно чертила на подоконнике. И этим «что-то» оказались символы реинкарнации;.
Выстреливая воплощениями и подобиями, подземка произвела на свет парочку Анна Кондакова — Петруша Елгин. Эта диада, несомненно, была отпочкованием Орбитальной Линзы, фокусировка которой, в зависимости от происходящего на Земле, выдавала такие спецэффекты. Двойники Аликс и Ники впервые появились в звавшемся прежде Новониколаевском Центросибирске из шаровидного плазмоида, вытекшего из зева метро. С закопанным под городом соленоидом происходило в последнее время что-то невероятное. Входя в этот синхрофазотрон воплощений, можно было наткнуться и на лысого Котовского в джинсах и турецкой курточке, и на остробородого Ильича, просящего подаяния в кепку, и на благородного Колчака, торгующего газетами вразнос.
Мне было известно, что Пётр Елгин принадлежал к славному племени хроно-номадов, был светолептом и Наблюдателем. В соответствии с Кодексом Наблюдателей мы не должны были встречаться друг с другом. Это было строго воспрещено из соображений конспирации. Кодекс Наблюдателей был принят в 1313 году после казни магистра тамплиеров Жака де Мале в Париже, и нарушение его было чревато даже большими неприятностями, чем столкновение с инквизицией в средние века. Всё элементарно: ты увлёкся своими делами, утратил всякую бдительность, а тут появляется Наблюдатель-фискал со своим пультиком, нажимает на кнопочку — и ты уже просто сгусток лучевой энергии, отправленный на околоземную орбиту, а то и куда подальше.
И всё-таки в наших пролётах по временным коридорам мы с Елгиным часто пересекались. То мы с ним встречались на средневековой площади (был ли это Париж, Милан или Майсен — не имеет значения), где возводился готический храм, плавили цветное стекло и свинец для витражей, а он выполнял роль чопорного распорядителя работ, производимых вольными каменщиками. То я натыкался на него в тишине библиотеки Сорбонны, уставленной шкафами из потемневшего ливанского кедра с хранящими мудрость веков фолиантами и манускриптами на полках. Узнав меня, он хмурил лоб и отходил в сторону: было время, когда Скиталец (так хроно-номады звали его между собой) не любил нарушать КН. Однажды, воплотившись во флорентийского негоцианта, я заказал портрет для своей молодой жены у Леонардо да Винчи и, явившись выкупать картину, застал Скитальца среди художников-учеников мастера. Во времена крестовых походов я видел моего спутника по блужданиям во времени спасающим старинные свитки из огня пылающей Константинопольской библиотеки. В другой раз (это было в Альгамбре, на том месте, где позже поставили ажурный дворец с анфиладами стройных колонн) он закутал в плащ плачущего ребенка и спас его от сарацинов, перенесясь вместе с младенцем в другое время. Этого ребёнка, позже наречённого именем Владимир, он подбросил в один из роддомов, где произошло несчастье — во время родов младенца удавила пуповина. Когда при императоре Марке Аврелии мне из-за моих чернилки, пергамента и гусиного пера довелось провести не лучшие часы в клетке рядом с рыкающими львами, он воплотился в сердобольного римлянина, принесшего мне в складках туники козий сыр и вино в глиняном кувшине. На берегу Непрядвы верхом на борзых скакунах мы с ним, облачённые в кольчуги, бились харалужными мечами с батыевыми темниками и псами-рыцарями из наёмников. И пока я видел, как посвечивает в свалке битвы его островерхий шлем с бунчуком на навершии, я был спокоен. Археологи напрасно ломали головы, зачем эти нефункциональные навершия-антенны? Ответ прост. Через них обеспечивалась постоянная связь с Орбитальной Линзой. Филологи тщетно ломали голову над теми местами «Слова о полку Игореве», где его герои рыщут по полю волками и летят соколами под облакы: посылаемые орбитальным облаком-плазмоидом сущности могли обретать самые разнообразные формы. Они без труда перетекали из клубящегося в грозовых тучах Перуна в птиц, рыб, животных, а из них — в людей. Эта способность перевоплощений была дарована от века, и русичи обладали ею ещё до пришествия наделённых тем же даром варягов. И только тогда, когда от Мадрида до Новогорода запылали костры и развернулась нешуточная борьба с угрожающими власти хроно-номадами, это племя стало понемногу исчезать, корчась в пламени инквизиторских костров и исходя воплями в пыточных. До того, как встретиться вновь, мы последний раз виделись с ним на выступающем в Сену полуострове в зловещих отблесках пламени кострища, на котором догорал обугленный труп Жака де Мале и наблюдали, как сверкающий эон великого магистра тамплиеров отлетает и втягивается Линзой.
Многим из светолептов пришлось вернуться в Линзу, иные были возвращены на Гелению. Но пришел благодатный XVII, а за ним и XVIII век. Туманный Альбион, женственный Париж, филистерский Берлин, призрачный, как холодный туман Финского залива, город Петра на Неве и гулливо-хлебосольная Москва стали настоящими караванными путями братьев-вольных каменщиков, а значит, и хроно-номадов. Розенкрейцеры, иониты, франкмасоны, мартинисты влекли в ложи всех, кто обладал тугим кошельком, магистрами были накоплены необходимые древние рукописи и магические приборы, с помощью которых можно было совершать путешествия во времени. В драпированных тяжёлыми шторами меблированных комнатах совершались магические ритуалы. Оттуда, собственно, как с вокзала, сев на электричку до станции Издревой, можно было запросто отправиться в прошлое или в будущее. То я заставал моего хроно-номада в компании с язвительным Вольтером, обсуждающим письмо русской императрицы, то мы с ним корпели над шрифтами набора магических книг в типографии Новикова. То, встретившись и нарушая КН, назначали следующую явку в час парада планет, чтобы поэкспериментировать в его лаборатории. В ту пору он появился при екатерининском дворе в обличии графа Елгина. Тогда-то и начались перипетии, в результате которых мы оказались в Сибири. Вначале я, а потом — путём, коим двигались в Берёзов; и Пелым опальные Меншиков и Миних — и он. Только нам было определено поселение ещё далее Берёзова, где Алексашку закидали камнями, и Пелыма, который зимами белым полымем накрывала пурга. Пытался же я убеждать Елгина в том, что не нужно трогать младенца Иоанна Антоновича в его колыбельке! Пробовал втолковать ему, что, помогая Екатерине свергнуть Петра III, мы вызовем целую цепь появления его двойников! Всё тщетно! Он встал на путь нарушения Кодекса. Я не мог не помогать ему ни тогда, когда перемещаясь в будущее, он появлялся то на Башне Иванова, где проводились мистерии влияния с попытками изменить течение фатума, то на баррикадах у Белого Дома, чтобы всунуть арматурину в гусеницу танка. После того же, как мы плечом к плечу стояли в каре на Сенатской, мы оказались в таком медвежьем углу;, как Томская губерния, а затем и Алтайские горы, куда мы бежали — он, улизнув из острога в обличии почившего старца, я — под видом его слуги-гувернёра Ганса Шребера.
Женские эоны начали беспорядочно блуждать по хроно-коридорам только со времён появления в Северной Пальмире Калиостро, когда, учредив ложу Египетского канона, Великий Копт ввёл в масонский обиход оргии с дамами. Скорее всего, тогда и претерпел обычное при неточной фокусировке магических приборов и неправильном чтении заклинаний расщепление эон Княгини (её истинное первоначальное имя сейчас установить невозможно — можно лишь предполагать, что этот эон принадлежал когда-либо какой-нибудь из жриц храма Весты или египетских цариц) — и она могла распасться на несколько сущностей. Я убеждён в том, что мне приходилось встречать её и в облике натурщицы в мастерской великого Леонардо, и в ипостаси шартрской ведьмы, которую мы со Странником, будучи бродячими вагантами и собутыльниками Франсуа Вийона, не смогли вырвать из рук ретивых доминиканцев.
Что касается новых и новейших времён, то в эту пору с воплощениями Елгина (возможно, по той же причине расщепления первичного эона) стало твориться что-то невероятное. Мало того, что он то и дело нарушал КН и я оказывался то под дулом его пистолета во время дуэли на заснеженной среднерусской равнине, то рисковал свалиться от его сабельного удара со скалы над стремниной Терека, то в присутствии почтенного офицерского собрания отступающей белой армии он предлагал мне игру в русскую рулетку — и нельзя было отказаться. Признаться, холодок дула на виске — не самое приятное ощущение, даже если знаешь, что твой падающий труп только видимость смерти, а ты, загодя прочитав мантру, уже переселился в другое тело в другом времени!
Последнее время я всё меньше узнавал моего благородного люциферианца. И не мудрено. После того, как из-за ошибки при проведении спиритического сеанса его сущности пришлось испытать на себе колоссальное воздействие стихальной катастрофы в подвале Ипатьевского дома и при очередных воплощениях он стал обретать черты Николая Второго, я то и дело ощущал себя страдающим несвёртыванием крови цесаревичем Алёшенькой, обхватившим его шею в тот самый момент, когда загремели выстрелы, подвал наполнился пороховым дымом, и пули роем свинцовых пчёл устремились на нас. Всё это мне казалось, как только в очередной раз я зависал у книжных лотков метрополитена, где теперь ещё появился и прилавок с «уценёнкой», и прекрасное историческое эссе стоило меньше, чем бутылка пива «Миллер». На этот раз я открыл книгу о Николае II и сразу обнаружил, что ухмыляющийся Юровский — вылитый Анчоусов, но только с бородой. Врач Боткин — Дунькин. Великая княжна Татьяна смотрела на меня глазками Киска, у Марии были такие же пухленькие щёчки, как у Курочки. Ольга была нежна и хороша собой, как бухгалтерша, а что до много раз воскресавшей Анастасии, то в ней я обнаружил прекрасные черты Галины Синицыной. Этот парад-алле двойников дополняло ужасающее сходство редакционной уборщицы с балериной Кшесинской. Конечно, все эти подобия были едва уловимы и, без сомнения, являлись результатом неожиданно сложившихся стёклышек в Калейдоскопе Мальчика, сгруппировавшись вокруг основного бесспорного сходства — Пётр Елгин был двойником последнего императора, а Анна Кондакова — императрицы. Что за сигнал подавала мне таким образом Линза (а это были её проделки!), не составляло труда догадаться: меня ожидает то же, что случилось в подвале Ипатьевского дома с императорской семьей в ночь с 16 на 17 июля 1920 года. Кал еси, гной еси. Быть расстрелянным, облитым кислотой, сожжённым и сброшенным в шахту даже в ритуально-аллегорическом смысле — дело не очень-то приятное!
Ох, и мотало же нас с Елгиным по временам! При Сталине нам с ним довелось и на передовой махорку делить в окопе, и жить в едва обогреваемом печуркой лагерном бараке с нарами вдоль бревенчатых стен, и валить лес в одной бригаде, угодив в заключение за то, что наслюнявили самокруток из портрета вождя. Подозреваю, что один из его блуждающих номадо-эонов воплотился и в того самого велосипедиста, которым заинтересовалась моя героическая подельница по диссидентскому подполью. При Брежневе нам довелось быть притороченными смирительными рубашками к койкам в Наблюдательной палате в психушке на Владимировской. В это место мы попадали периодически. Психиатрическая лечебница с её мрачными краснокирпичными стенами и готическими сводами, помнящими времена колчаковщины, была чем-то вроде зала ожидания перед путешествиями. Здесь можно было встретить многих. Когда с меня снимали смирительную рубашку, я, выходя на прогулку в длинный коридор, мог видеть и обритую «под ноль», отсутствующе вперившуюся в недосягаемую даль Княгиню, и что-то наборматывающего, кусающего заусеницы в желании вспомнить что-то Шуру Туркина, и имитирующего составленными в трубу ладонями не то телескоп Коперника, не то детский калейдоскоп Серёгу Таврова. Если вдруг кто-то начинал блажить, биться, пузырить белую пену поверх обмётанных жаром губ, тут как тут появлялись Главврач и дюжие санитары. Завязывались рукава смирительной рубашки. Всаживался укол. И несчастный фиксировался к койко-месту.
Последней нашей возможностью вернуться в благодатное прошлое оставались дни, названные поэтическими пятницами, в подвале бывшего здания крайкома в комнате, смежной с той, где потом была расположена экспозиция пыточных инструментов Средневековья, выставлена для обозрения восковая персона монаха — охотника за хроно-номадами и прочая зловещая бутафория, подаваемая в рекламе, как музей восковых персон и раритетов времён мрачной эпохи охоты на ведьм. На самом деле это было мерами, принятыми Наблюдателями-фискалами против наших пятниц, во время которых вызывались фрагменты эонов Иванова, Брюсова, Волошина, Мережковского и Гиппиус (а то как бы мы ещё могли проникнуть на их мистерийные сборища?) С помощью пригоршни земли с коктебельской могилы Максимилиана совершались ритуальные действия — и коридоры открывались. Для непосвящённых (стоило дать крошечное объявление на последней полосе «Городских слухов», как в каморку подвала бывшего Сибкрайкома набивалось всё войско славных рыцарей пера, до того штурмовавших неприступную крепость Анны Кондаковой) всё выглядело обычным вечером со чтением стихов по кругу. Но мы-то видели, как из стен выходили пять друидов в хламидах с опущенными на глаза капюшонами, как на алтарь возлегала Чистая и Непорочная, как вонзались ножи для того, чтобы по отворяющимся временным проходам мы могли уноситься в другие времена, будто на голову надет шлем виртуальной игры, дающей возможность нестись на вагонетке по туннелю, из стенок которого выскакивают скелеты и чудовища…
Много делов натворили произведённые нами с Петрушей нарушения КН. Покаяться бы, да поздно — уже не вернешь. Одной из бед стало расщепление эона Странника на искусствоведа Петра Елгина и учёного-историка и археолога Константина Эдуардовича Селянина. Да и мы с Петрушей, как выяснилось со временем, представляли собою какой-то двухэонный ион воплощений. Нас многие путали. Мы, собственно, и были двумя вариациями одной сущности. Так проявилось во внешнем мире расщепление. Оно-то и произвело некоторые нежелательные эффекты и хронологические передвижки, породившие феномены, посетившие Столицесибирск в 2000-2005 годах.
Кодекс Наблюдателей не разрешал многое. Но запечатлевать Наблюдателя в изображениях — прежде всего. И всё же искушение оставаться жить вечно на холсте, в камне, бронзе, музыкальном или литературном произведении было столь велико! И Елгин позировал, не считаясь с КН и деньгами, потому как золото шло к нему в руки само. Да он и не ленился добывать его, врываясь ли рыцарем в сарацинскую крепость, откуда его слуги уносили сундуки, битком набитые монетами и каменьями, врубаясь ли с людьми Писарро в перуанскую сельву в поисках Эльдорадо. Но следом появлялся Наблюдатель-фискал и производил зачистку. Так были скуплены и уничтожены пламенем полотно Веласкеса «Наставник инфантов», Рембрандта — «Странствующий во времени», разбита вдребезги скульптура Бенвенуто Челлини «Пятиликий». Стоило только кисти или резцу запечатлеть нарушителя, как появлялся человек в чёрном бархатном камзоле с набитым золотом кошельком и, сторговав великое творение, сжигал его или разбивал молотком. Этот же господин охотился и за рукописями, в которых содержались упоминания о посещениях лож сущностью Странник. В результате проведения поэтических пятниц рассыпавшаяся по временным коридорам бесчисленными блуждающими эонами, эта сущность в разные времена воплощалась в не дрогнувшего под пытками тамплиера Гильома де Назане, а позже — в графа-чернокнижника Елгина и его дальнего отпрыска, искусствоведа Петрушу. Человек в чёрном бархатном одеянии появлялся в антикварных лавках, скупал художественные ценности на аукционах, организовывал ограбления библиотек и музеев. (Пропажи полотна Айвазовского из Центросибирской картинной галереи и Куинджи — из Челябинского художественного музея связаны с тем, что в очертаниях волн, облаков, деревьев, мачты и бушприта выброшенного на мель судна узнавался Странник.) В результате подобных зачисток бесследно исчезли рукописи Густава Майринка «Ангел восточного окна» и «Явленный из кристалла» на немецком, был утрачены Роман Брэма Стокера «Высасывающий время» и поэма Перси Биши Шелли «Врывающийся в ложи» на английском. Этот же человек разъезжал по Центросибирску на святки в 2000 году на чёрном джипе с затемнёнными окнами, появлялся в галерее современного искусства и галерее «Чернофф», где скупал работы с запечатлённым на них Петрушей. Так безвозвратно канули полотно Данилы Меньшикова «Бессмертный идальго», Сергея Мосиенко — «Кентавр Хирон» и Александра Шурица — «Крылатый гондольер».
Петруша продолжал нарушать КН — и я знал: добром это не кончится. Для зачисток его изображений в телеэфире и на полосах газет уже не хватало усилий одного Наблюдателя-фискала, к тому же в любой момент он мог получить указание из Линзы (а то и с самой Гилении) нажать на кнопочку пульта. Мысли об этом стали появляться тогда, когда зачастил в Центросибирск из Москвы видный эзотерик — реинкарнация тобольского чудотворца с примесью сущности Сен-Жермена С.К. К тому же во время одного из подвальных бдений под видом стихотворения Игоря Плющилова было зачитано такое заклинание, что в восковых персон инквизиторского паноптикума за стеною стали воплощаться члены учёного совета музея, активизировались духи Эйхе и других пламенных сибкрайкомовцев, и Петруша был усажен на усеянный острыми шипами пыточный стул, во всем аналогичный нашему редакционному «электрическому стулу».
После того, как, отправляя меня в иные воплощения, неисправимый бретёр маркиз Гийом де Назане протыкал меня шпагой или всаживал в меня пулю из дуэльного пистолета системы Кохенрайтер, а особенно — после того, как он отверг художества Андрюхи Копейкина, я, бывало, подумывал: а может быть, пора уже слиться ему с плазмоидно-астральными массами, но, сообразив, сколь одинокими станут мои блуждания по хроно-лабиринтам без моего номада, я прощал ему все его благоглупости. Куда больше хвоста из Наблюдателей-фискалов меня волновало то, что и в пресс-кафе Галины Синицыной тоже то и дело устраивались вернисажи, и Петруша Елгин появлялся и там, чтобы засветиться в огнях софитов и блицев. Петрушу и Галину запечатлевали кино- и фотокамеры. И я тревожился, что в момент нажатия на кнопочку производящий зачистку Наблюдатель-фискал, подчищающий нежелательные воплощения Петруши, ненароком сотрёт и Галину. К тому же и Дима Шустров во время наших проходок по хроно-туннелям то и дело прятал под рясой келаря фотоаппарат (что было категорически запрещено, как и провоз диктофона, который я прихватывал, чтобы легче справляться с нагрузкой писаки, работающего сразу на нескольких хозяев). Дима устраивал свои, привлекавшие внимание бомонда, фотовернисажи в пресс-кафе. Произведя однажды фурор, эти фотовыставки привлекли внимание мистически настроенной общественности. Никто не мог понять, каким образом специализирующемуся на расчленёнке и трупах, заказанных на первой полосе, Диме Шустрову удаётся создавать эти фотоэтюды: прелат подносил крест для последнего целования стоящему на охапке хвороста еретику, русский витязь вонзал копьё в крестоносца, монах-иезуит вёл допрос чернокнижника. Всё бы ничего. Но самым потрясающим было то, что у всех этих персонажей были узнаваемые лица «випов» Центросибирска. Коллеги-фотографы поговаривали, что Шустров каким-то образом использует Интернет, фильмотеку, компьютерную графику, искусно монтируя всё это со снимками, сделанными на натуре. И только отец Святополк твердил: «Бесовские дела!»
Свидетельство о публикации №112042810111
из её воплощений ( Праксидике ) в жертву приносили головы,
то подтверждаю: Да! Читательские головы жертвуются, причём
добровольно..... И всё же -
Не всё так плохо в нашем свете, когда зачётной пятернёй
Одни себя клеймят в поэте, другие - творческий запой...
Но есть и те, кто, забывая про собственных отточий ряд,
От мега-метапроявлений сиреной чуть ли не вопят.
И застревают в Средокрестье, и в Персефоне, вспомнив Рим,
По Библии в гитарной мессе завет не выполнят. Один.
Так, с Новым Днём! С Рождённым Словом!
С предчувствием: - Всегда другой! - моим всегдашним "приговором",
Так, С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ, дорогой!
:)!
:)!
Вика Кир 13.04.2013 00:34 • Заявить о нарушении
Юрий Николаевич Горбачев 2 13.04.2013 13:15 Заявить о нарушении
