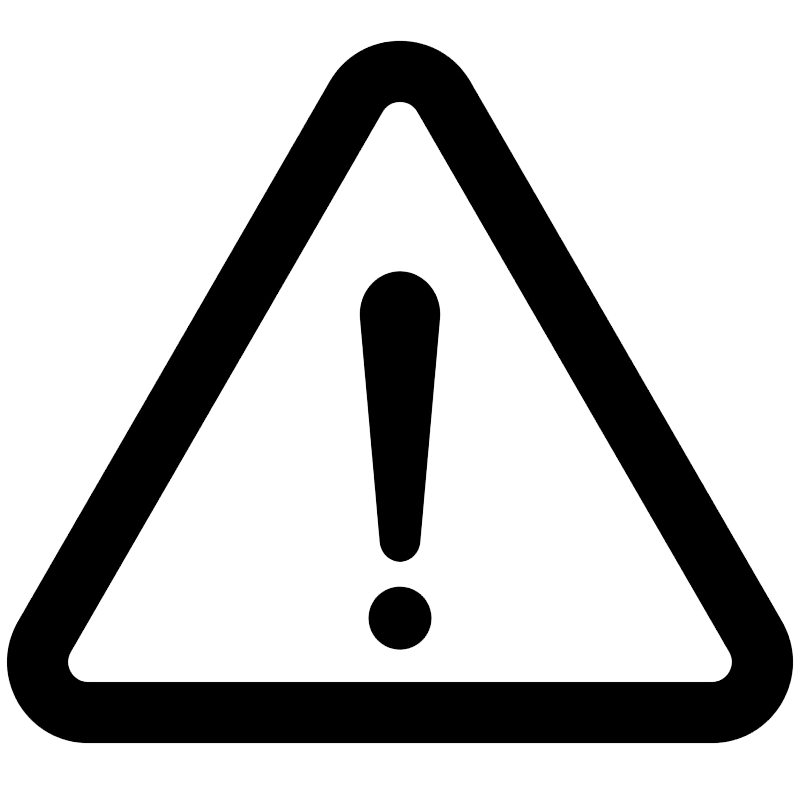
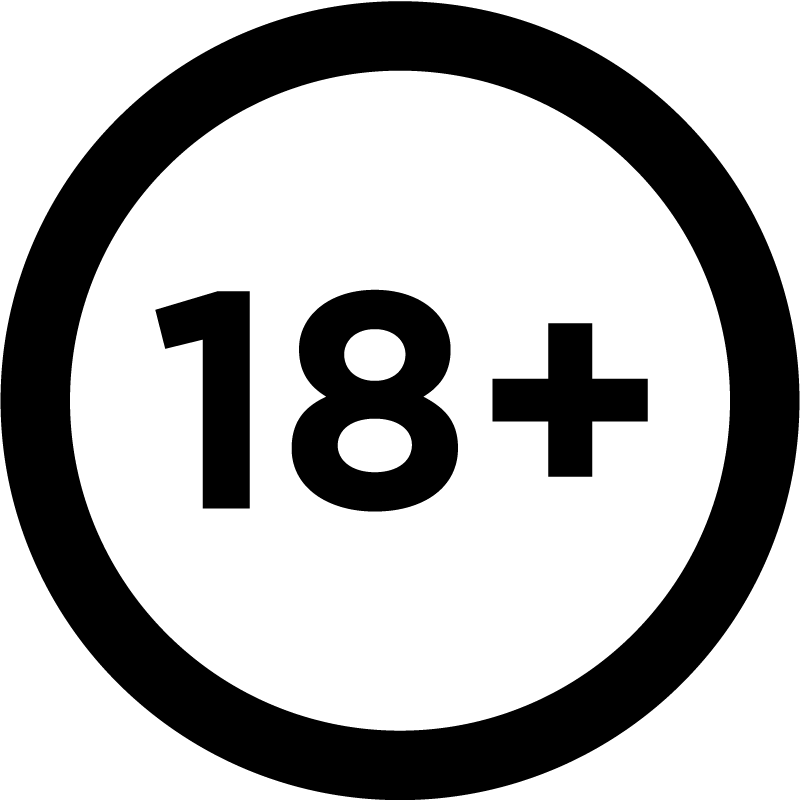 Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Солнцебык. Запрещенный шедевр Телегина
СОЛНЦЕБЫК
антироман
Часть первая
Пушкин - Хуюшкин
Гл. 1
Ключик, отворяющий ларец жизни
Он был приговорен к своему хую, приторочен к нему, как волчья голова к седлу ивановского опричника. Вся его жизнь была подчинена одному единственному, самому сильному и неискоренимому желанию: трахаться. Он хотел трахаться сегодня, хотел трахаться завтра, хотел трахаться вчера. Он с сожалением отпускал минуту, кусочек пирога под названием "время", если в эту минуту он не трахался. Его огромный *** постоянно топорщил непомерно узкие панталоны, вроде бабских современных лосин; в свете его прозвали "елданосцем". Бабы, видавшие его в неглиже, поражались волосатости елданосца, он казался им обезьяной и трахался так же дико и ненасытно, как животное.
Его звали Александр Сергеевич Пушкин. Он был великий поэт, но еще более - великий ебарь.
Да, он умел трахаться. Анна Петровна Керн, барышня из высшего света. Он давно истекал слюной при виде ее! Его член вздрагивал в панталонах, под уздечкой собиралась молофья. Он хотел эту суку! И он ее добился. На квартире Керна, ее тупоголового мужа. Они трахались несколько часов подряд. Член Пушкина содрогался раз за разом, извергая потоки молокни то на лицо Анны Петровны, то в рот, то на ее белые мягкие сиськи, то в ее широкую жопу.
-Сука ****ая, - рычал он в исступленье, оттягивая за волосы ее голову и слюнявя пальцами ее нижние губы.
-Обезьяна, - стонала она.
Он читал стихи, что-то про "чудное мгновенье", а между тем совал ей в рот свой толстенный ***. Усталая, Анна Петровна едва могла держать во рту эту тяжеленную штуковину, но ненасытный поэт принуждал ее. Он затрахал бы ее до смерти, если бы не воротился муж.
Не попрощавшись, обезьяна выпрыгнула в окно и огромными прыжками поскакала по заснеженной улице, на ходу напяливая панталоны.
Его *** знавал и мужскую жопу, и жопу козы, и просто дупло старого дерева. Он не гнушался ничем, от готов был трахнуть весь мир! Иногда он представлял себя великаном, который сношает землю. О, он бы залил молофей все ее пещеры и кратеры, он оплодотворил бы ее для новой жизни! Новая жизнь! Она не давала ему покоя! Сотворить жизнь из ничего, тем самым приблизиться к богу, - вот была его мечта. Потому и поэзия - ничто, буквы, сраные буквы складываются в мелодичные стихи, равных которым нет в целом мире. Потому и жена, затраханная до умопомрачения, рождающая детей каждый год жизни с обезьяной.
Впервые он трахнулся в восемь лет. Кухарка его отца, крепостная Палаша. Она засекла его, наблюдавшим за ней в бане.
-Барин, - вскрикнула она, испугавшись. - Чо это вы?
Ее тело было подобно свежей пашне - рыхлое, готовое принять в себя семя. Глаза Палаши повело вниз. Она увидела торчащий под панталончиками *** мальчика.
-Войди, - быстро сказала она и, схватив его за рубаху, увлекла за собой.
Мгновенно раздев Сашеньку, она припала горячим ртом к тонкому отростку с трогательными яичками, которому суждено было впоследствии прославить русскую литературу. Долго и нежно она сосала *** мальчика, а затем улеглась на пол, раздвинув ноги. Саша увидел второй артефакт (помимо хуя), завораживающий его до конца жизни и присутствующий с ним сакрально до последнего вздоха.
-****ы не видел? - засмеялась Палашка. - Пощупай. Это ****а.
Сашенька дрожащими руками ухватился за волосатый бугор, разделенный на две половины красноватой щелью. Он не хотел отпускать этот бугор, он был ему теперь дороже матери, отца, братьев, дороже всего на свете. Пиз - да! Он припал к ****е губами, он целовал ее, он, кажется, даже плакал.
-Ну-ка, малок, ляг-ка на меня, - позвала Палаша. - Вот так. Ну, за него-то не держись. Дай, я сама.
Подчиняясь жадным рукам кухарки, *** Сашеньки легко проник в красноватый бугор, в щели исчезли даже его яйца.
-Во, так, - охнула Палашка. - А теперь, Сашенька, ты подвигай жопой, подвигай. Не так! Сильнее!
Сашенька задвигал тощим задом. Он не понимал, что он делает, зачем это нужно кухарке. Но вдруг Палашка издала долгий стон, а потом вскрикнула. Что-то внутри ****ы начало сжимать Сашенькин ***, точно стремясь затащить мальчика внутрь кухарки. И тогда его мозг облился горячим, там, между ног, происходило что-то настолько приятное, что мальчик закричал, не в силах сдерживать в груди все возрастающую радость.
-Ну вот, - кухарка отодвинула его, перекатилась на живот, открыв взору Сашеньки огромную, розовую от пара, жопу.
Обессиленный, Сашенька упал на залитый мыльной водой пол. Ему было легко и покойно. Он посмотрел на свой ***. Хуй висел, как сломанная веточка. На кончике его Сашенька увидел две прозрачную капельку.
-Молофейка, - пояснила Параша, по-матерински смотрящая на него. - Из нее будут твои дети.
Сашенька дотронулся пальцем до капли, и она осталась на ногте. Где-то в ней, в этой капельке, Сашенькины дети. Где они там? Но детей не было, и Сашенька лизнул палец. Сладковато, похоже на конфету "петушок".
-Вкусно? - спросила Параша. - Я сама люблю молофейку. Ну к, Сашеньк, подь суда.
Он подошел. Кухарка снова припала к его хую, слизывая с него остатки сашенькиных детей. Сашенька смотрел на виднеющуюся жопу Параши.
- Э, да ты снова готов, - восхитилась баба. - Гусар. Давай-ка.
Она снова опрокинулась на пол, раскинув толстые ноги.
- Парашка, я хочу … туда, - робко сказал Сашенька.
-В жопу?
Кухарка рассмеялась.
-Я - то не шибко люблю в сраку, но Пантелей любит, - призналась она, поворачиваясь к Сашеньке необъятным своим тылом.
*** легко проник в жопу, вылез обратно. Запахло говном.
-Хоть бы посрала сперва, - проговорила Параша.
Но Сашенька не пускал ее, - ухватившись за мясо, он яростно вдалбливал *** в черную дыру кухарки. Запах дерьма, пота, мыла, пара, все смешалось для него в единую симфонию запаха - запаха жизни, задуманной богом. И снова между ног у него стало тепло, и, обессиленный, он упал на пол, не обращая внимания на кухарку, принявшуюся слизывать с его хуя свое дерьмо и его молофью, смотрел в потолок, абсолютно счастливый. С сегодняшнего дня перед мальчиком открылась новая жизнь, и старой жизни он больше не хотел.
Собственный *** завораживал Сашеньку. Он мог часами разглядывать его, теребить, называть ласковыми именами. Он считал его живым существом, нет, - он считал его богом. Хуй несет в себе ключик, отворяющий ларец жизни. Момент, когда в голове вдруг сверкнет мысль "Параша!" или "жопа!" или "****а" и хуй поднимается, - это волшебство, это чудо сродни чудесам Христовым! Сашенька дрочил, и молофья выстреливала в потолок, - жизни не терпелось выбраться наружу! Сашеньке казалось, что он овладел тайной жизни, единственный из людей, и он теперь сродни Христу.
Дочка кухарки Акулька, 13 лет от роду, отдалась Сашеньке, когда тому уже стукнуло десять. Она, так же, как ее мать, легла перед Сашенькой на пол в бане, раздвинув в стороны тощие, перепачканные в грязи и гусином дерьме, ноги.
-Только скорей, - прошептала она, - а то мамка убьет.
Сашенька вставил *** в бледную щелку, с пучком рыжеватых волос над ней, толкнул - сильно и жадно. Акулька вскрикнула, словно ее пырнули ножом, оттолкнула Сашеньку и вскочила на ноги. Из ее ****ы текло что-то красное. Кровь! Сашенька испугался, как если б в сочельник увидал черта.
-Что с тобой, Акулька?
-Ничего, - сказала Акулька, подтирая промежность старым рушником. - Больно-то как! Ты не дави так сильно, ладно?
Она вновь улеглась на пол, но Сашенькин *** беспомощно болтался и мальчик так и не смог заставить его подняться, как ни старался.
-Дай я попробую!
Акулька взяла беспомощный пестик в рот, покатала за щеками, затем полизала яйца горячим языком. Тщетно.
-Мамка дяде Ивану всегда так делает, - сообщила она. - И у него торчит, ты б видел. Не, Сашка, ты не дядя Иван.
Эти слова запали Сашеньке в душу, он стал с интересом приглядываться к конюху Ивану - какой - такой дядя Иван, какой у него ***, как он торчит?
Украв за обедом кусок лакричного пирога, Сашенька побежал к Акульке.
-Акулька.
-Ебли хочешь? - заговорщицки шепнула девочка.
-Нет, - отмахнулся Сашенька. - Вот пирог, Акулька. Я хочу... Хочу посмотреть, как конюх **** твою мамку.
Девочка, похоже, была разочарована, но пирог взяла.
-Приходи в людскую, как повечеряют - сказала она и побежала по двору, наступая босыми ногами в гусиное дерьмо.
Сразу после ужина Сашенька пошел в детскую, но спать не лег. Дождавшись, пока брат и сестра засопели, он выбрался из- под одеяла.
В людской было темно и удушливо пахло щами. Сверкнули глаза.
-Чего так долго? - недовольно спросила Акулька.
-Маменька не пущала, - соврал Сашенька.
-Пойдем. Кузнец с мамкой уже пошли на сеновал.
Мальчик и девочка спрятались в углублении между пахнущим чабрецом стогом и стойлом, где мычали быки.
На сеновале еще никого не было.
- Погодь, - шепнула Акулька. - Видать еще идут, милуются по дороге.
Наконец, зашуршало, затопотало. Послышался голос кузнеца - тяжелый, как молот, и голосок кухарки, - податливый, как плохая наковальня.
-Сегодня Григорию Кузину лошадь подковал, - говорил кузнец. - Такая скотина, нет бы поставил беленькой, гнида. Жила ****ая ****ь.
-А ты б ему по роже, - ласково вторила Палаша.
-Да я его, ****ь, молотом бы ****ул, - басил кузнец, а сам, между тем, скинул рубашку, портки и улегся на сено. Член его был небольшой, но толстый и безвольно лежал в иссиня-черной поросли внизу живота. - Я б его раскроил, как лещину, *****, когда б не братаны его, ебать их в под****ник, суки, совсем життя не дают.
Кухарка молча раздевалась, разоблачая огромные вислые сиськи, ****у, поросшую лесом, складки кожи на животе, подобные горам, что на географической карте мусью Лефанра.
*** кузнеца стал медленно увеличиваться - он становился все больше, все толще. Вот он достиг поросшего черным мехом пупка, переступил через пупок. Боже! Хуй кузнеца был просто огромный, больше, чем хуй Гнедого, когда весной ему привели соседскую кобылу. Наконец, этот елдак перестал расти, и медленно приподнялся над животом. Еще приподнялся, еще. Вздрогнул. Все - дальше подниматься некуда. Сашенька видел в книжке пизанскую башню, так это была она.
-А ты бы мужиков собрал, да вместе их и задрали б, - говорила Палаша, присаживаясь на ***. Сашеньке хотелось крикнуть: "Не надо, этот елдак порвет тебя на части!". Но, к изумлению его, хуй кузнеца полностью поместился в чреве кухарки и та задвигала жопой, то вдвигая, то выталкивая елдак из себя.
-Соберешь тут, - сквозь зубы рычал кузнец. - Трусы одни, бля, говно. Ходят под этими Кузиными, как овцы, те их и в рот, и в сраку. Семен - давай корову, кузнец - подкуй кобылу, Парамон - налови карпа.
-А что барин?
-А что барин? Барин сам по себе, мужики - сами по себе. Барину ему что? Тащи оброк, да будь молчок. Говно он, барин наш.
-Тихо ты, дурак.
-Да что тихо? Не так что ль? Я б ему, дураку этому, давно б шею свернул, когда б воля была.
-Какая воля, дурак?
-Не знамо какая, хоть какая.
Кухарка слезла с елдака и встала на четвереньки. Кузнец послюнил ей дыру и вставил.
-А что барыня? - елейно кухарка.
-А что барыня? ****ь. Я бы ее, суку, раком, вот как тебя, была б воля. Засадил бы, суке, так, что ****а бы трещала. Вчера подходит ко мне: "Иван, извольте лошадь оседлать". Как будто я - конюх. У, думаю, расфуфа ****ая, как бы воля, я б тебя оседлал. Три дни без перерыву бы трахал. Красивая, гнида.
-Я что, хуже?
-Молчи ты. В ротик бы барыне засадить... - мечтательно проговорил кузнец и вдруг вынул *** из жопы кухарки. Елдак задрожал, исторгая на кухарку прозрачную молофью. Кузнец исторгался долго, рыча, как загнанный зверь. Молофья летела во все стороны, - на сено, вниз, на землю, но больше всего - на жопу Палаши.
-Какая ж ты скотина, кузнец, - ласково проговорила кухарка и, повернувшись, принялась слизывать остатки молофьи с елдака Ивана, на глазах уменьшающегося в размере.
-Саша! - донеслось с улицы. - Сашенька!
Гл. 2
Христос оживил Лазаря…
Это звала няня.
Сашенька кубарем с сеновала. «Ох, стервец!» - перепугано вслед Палаша.
Через двор – к няне, Арине Родионовне.
-Нянечка, я тут!
-Где ты лазишь, Сашенька? Маменька проснутся, посадят на горох.
-Я на звезды смотрел, нянечка.
В это время с сеновала – покачиваясь от усталости – кузнец с кухаркой. У кухарки едва прикрыта тряпьем ****ень. Поодаль – с видом испуганным – Акулька.
Нянечка:
-Ну, на звезды, так на звезды. Пошли, Сашенька.
Сашенька засыпал, вспоминая, как ловко входил в Палашку и выходил из Палашки елдак кузнеца. Входил-выходил. Какой он огромный, толстый, - *** у кузнеца! Вот бы Сашеньке такой!
***. Х –у-й. Три буквы, как и в слове «Бог». От кого Сашенька впервые услыхал это короткое слово – хуй? От Семена, двенадцатилетнего сына дурака Олежки и малахольной девки Сметаны.
«Между ног у тебя ***, - говорит Семен, почесывая оспину на лице. – А у бабья между ног – ****а. Хуй надо засунуть в ****у и тогда будет хорошо»
«Хорошо?» - не понимает Сашенька, которому от роду еще шесть годочков.
«Да, - харкая на землю зеленым комком, говорит Семен. – Хорошо – просто ****ец. Да ты че, дрочить что ль не пробовал?»
«Нет» - признался Сашенька.
«Ну, смотри»
Семен скидывает портки и принимается мусолить свой ***. Сашенька пугается и убегает, а сейчас - во сне, сожалеет, что не увидел, как брызнула молофейка из хуя Семена.
Скоро он и сам научился дрочить, представляя почему-то голой - маменьку. Маменька не любила Сашеньку, наказывала за любую провинность, но она была красивая, красиво одевалась, и у нее была очень узкая талия. Сашенька не знал тогда, что маменька носила, как и все дворянки того времени, корсет. Когда Сашенька дрочил на маменьку, он представлял, как голая, с распущенными волосами, маменька садится у его изголовья и целует Сашеньку в лоб, и говорит, что любит его. Яйца Сашеньки сладко сводит и из *** вытекает на простыню большая прозрачная капля.
«Маменька, Сашка опять рукоблудит!» - кричит братец. Поднимается суматоха, прибегает маменька и сильно – по щекам Сашеньку! «Не греши! Не греши! Не греши!».
А через неделю Акулька в пруду утопла. Полезла купаться в грязную воду, да и захлебнулась. «Сом утопил», - сказал папенька, вышедши покурить на балкон.
Черная от горя Палашка шла, голосила, на руках держа Акульку. Народу собралось! «Ведьма виновата!» - крикнул кто-то. Ведьма – это бабка Семениха, дом ее покосившийся на краю улицы стоит. Мужики да бабы - на край улицы! Впереди – кузнец, страшный, рожа перекошена.
-Выходи, ****ая!
-Пошли к черту на ***!
Кузнец плечом дверь высадил. Выволокли ведьму из избы. Верещит старуха, отбрехивается. Не отбрешешься! Раздели ведьму. Смотрит Сашенька – противно ему. Сиськи болтаются, как пустые кули, ****а рыжим кустарником поросла. Кузнец размахнулся – и по роже Семениху, с ног сбил.
-Вставь ей, Ванек! – толпа орет.
Кузнец портки – долой. А сам – зырк на балкон, где папенька с маменькой стоят. *** болтался – болтался, да и встал. Опять Сашенька подивился, позавидовал – какой огромный да ладный. Кузнец ведьму ****, а сам на маменьку глядит. Маменька покраснела и ушла прочь с балкона, а папенька остался. Выеб кузнец ведьму, дал ей сапогом под дых. Захрипела старуха.
-На березку ее! – крикнул кто-то по-петушиному.
А во дворике как раз две березки стоят, Сашенька под ними очень гулять любил. Два дюжих молодца вскарабкались на березки и – хоп! – наклонили их. А тут уже у кого-то веревка в руках. Мигом прикрутили ведьму проклятую – правая нога – к одной березке, левая – к другой.
-Пущай!
Отпустили. Кровь – вниз, на людей. Купаются в ведьминой крови, радуются. Лобик утопленницы кровью намазали.
-Ничего Акулечка, - зашептала Палаша. – Не сошло с рук ведьмине проклятой.
А Семениху березки надвое разорвали – аккурат по ****е.
Акульку покамест в старом сарае положили. Сашенька несколько раз до похорон ходил смотреть на нее. Синяя стала Акулька, страшная. Глаза выпученные, а руки холодные. Умерла Акулька. А вот у Сашеньки *** теплый, живой и жизнь дает. Христос оживил Лазаря…
«А ну-ка, думает Сашенька, оживлю я Акульку».
Гадко было совать ему *** в синюю акулькину ****у. Но – ради святого дела – сунул. Холодом его охватило, могилой. Страшно Сашеньке, зубы колотятся, да он не отступает – **** мертвую Акульку. Закрыл глаза – представил маменьку, как её кузнец ебет. Интересно, у маменьки на ****е тоже волосы есть? И за щеку она елдак кузнеца так же, как Палашка, засовывать станет? Хуй Сашеньки согрелся и сладко задрожал.
Смотрит Сашенька на Акульку, а та лежит не шевелится, все такая же синяя и холодная, как была. Понял Сашенька – не возвращает *** старую жизнь, а для того только Богом дан человеку, чтоб хорошо ему делать, и новую жизнь давать.
***
Москва пушкинских времен – это город деревянный, отсталый, униженный. Царь Петр раком поставил Москву, в особенности ее бородатых бояр, и долго ёб, усмехаясь в черный голландский ус. Когда в 12 году, при Наполеоне, чиркнул огнивом партизан Ерема, то и запылала белокаменная.
А столица империи – это Петербург, о нем только разговоры. «А слыхали, в Пемтембургу – то фонари газовые по всем улицам поставили?».
-Поедешь в Петербург, в лицей, - сообщил papa двенадцатилетнему Alexzander’у, - черноволосому, низкорослому подростку, со скошенным по-обезьяньи лбом и едва заметным подбородком. Кроме явной уродливости Alexzandr’а бросалась в глаза, заставляя выделить его из толпы – и непомерно большая для его возраста грушеобразная шишка, вырисовывающаяся под панталонами.
Александр представил на мгновение каменные красоты столицы, ее дворцы, памятники и площади, но еще страстнее, - хотя и не так отчетливо, - петербургских красавиц, наперебой раздвигающих перед ним свои прелестные ножки. И залился счастливым смехом!
-Ах, спасибо, папа, - крикнул он по-французски. – Я так давно мечтаю о Петербурге.
-Но, дружочек мой, - растрогался papa. – Лицей-то расположен не в Петербурге, а в Царском Селе.
-Ах, это еще лучше, - закричал Александр, бросаясь на шею отцу. (Его живое воображение вдруг нарисовало картину – он **** саму царицу!)
-Но-но, Alexzander, - шутливо отбивался papa. – Этот содомит Лефанж привил тебе дурацкую привычку целовать в губы. Да еще с языком! Перестать!
Александр оставил отца в покое и со всех ног побежал вверх по лестнице, собирать свои немногочисленные пожитки. Прыгая через две ступени, он напевал: «Лицей! Я еду в лицей!».
Г. 3
Стоны нарастали…
Сопроводить Alexzander’а в лицей вызвался дядя Baziley. Одутловатая, красная физиономия Василия Львовича с обожженными ноздрями, синюшными тонкими губами выдавала завзятого кокаиниста и яростного поклонника вагины. Собственно, дядя Baziley так загорелся идеей «отвезти племяша в Пемтембург», не в последнюю очередь от яростного желания посетить одно знакомое местечко в Козихинском переулке, где в окне второго этажа денно и нощно горит красная лампадка… О, столичные ****и! Вы не чета московским гетерам, не умеющим как следует обиходить мужское хозяйство! Петербурженка впивается в *** так отчаянно, точно от капли молофьи, канувшей ей в рот, зависит ее жизнь.
Ехали долго, в тряском тарантасе. Alexzander чувствовал себя скверно, часто перегибался через дверцу кареты и долго, мучительно блевал. Через несколько лет у него выработается великолепный иммунитет на русскую дорожную тряску, подобную морской качке, однако сейчас Саша был вынужден исторгать из себя съеденный «на дорожку» пирог со щучьей икрой. Дядя Baziley был недоволен состоянием племянника, обзывал его «бабой» и «тряпкой». Alexzander отмалчивался, думая про себя: «Зато я лучший стихотворец, чем ты… И *** у меня будет больше, чем у тебя».
Проехав Бологое, решили остановиться на ночлег. Заспанный станционный смотритель, поняв, что перед ним не «енерал», вел себя нагло, втридорога запросил за овес, кровать предложил одну на двоих; Семена – кучера и вовсе определил на конюшню.
Дядя Baziley долго визгливо кричал на смотрителя, грозился карами земными и небесными, но, не проняв того ни на йоту, повалился на кровать – как был, в дорожном камзоле и сапогах, и, отвернувшись к стенке, захрапел. Саша примостился рядом. Смотритель погасил лампаду и полез на печь.
-Не спишь, Ефросья?
-Чего тебе?
Заспанный бабий голос звучал недовольно.
Alexzander жадно прислушался к начавшейся на печи возне. За возней послышались негромкие стоны – грубый мужской и тонкий – женский. Мозг Саши облился горячим и он сунул руку в панталоны.
Стоны нарастали. Alexzander яростно тер рукой головку красного богатырька.
Баба по-собачьи взвизгнула.
Все стихло, только слышался храп дяди Bazileя. Саша вынул мокрую руку из панталон.
Дядя Baziley вдруг перестал храпеть:
-В Пемтембургу, племянничек, пойдешь со мной. Нехер понапрасну разбазаривать семя.
В Пемтембургу было прохладно. Прохладно и … каменно. Еще здесь было желто. Почти все дома окрашены в канареечный цвет.
Тарантас протарахтел по мостовой, въехал на набережную Саша жадно глазел на непонятную столичную жизнь. Мерили трохтуары длинноногие щеголи, словно букеты цветов двигались красавицы, зазывали покупателей торговки, ваньки на тощих кобыленках ждали седоков – кипела жизнь! Все здесь было нарядней и праздничней в сравнении с Москвой. Даже вороны на колокольнях каркали веселее.
-Семен, давай на Мойку, - высунувшись из коляски, коротко крикнул Василий Львович.
-Какую к ***м Мойку, - пробормотал сквозь зубы конюх. – Ебу я, где Мойка. Тпррру!
Он остановил коляску в переулке рядом с телегой, на козлах которой дремал ванька.
-Слышь, отец, - обратился к извозчику Семен. – Как проехать на Мойку?
Ванька зевнул, протер глаза.
-Откудава? – спросил он первым делом.
-С Москвы. Так как?
-Вот чичас прямо, потом свярнешь, там будя Палицейски мост, а за ним уж Мойка.
-Сворачивать-то налево или направо?
-Ась?
-Налево или направо?
-Туда, ****ь, - озлобился ванька, махнув рукой налево. – Дубина московская.
-Спасибо, отец, - засмеялся Семен и ожег коренную кнутом.
4
Aiguiser votre khui
Грязную «трешку» (так сказали бы далекие потомки Alexzandera) снял для дяди Bazileyа с племянником Александр Иванович Тургенев, тучный столичный шеголь, которому бы играть Пьера Безухова, когда б в то время придумали синематограф. В отличии от беспокойного искателя правды Безухова (в коем, впрочем, больше авторского толстовства, нежели подлинной характерности), Тургенев плотно стоял на пути порока, нежился в объятиях всевозможных элен, без зазрения совести запуская толстый палец в их благоухающие вагины.
Дядя Baziley с утра и до самого вечера 8 августа 1811 года писал стишки (которые Alexzander считал безнадежной дрянью). Когда старик - слуга зажег свечи, приехал Тургенев.
-Basile Leonovich, ; ce jour servir la muse? - весело спросил он у склоненной спины дяди Baziley.
-Aff;tage de la plume, M. Tourgueniev, aiguis; stylo. - оглянувшись, пробасил дядя Baziley.
Молодой человек прошелся по комнате.
-Tenez, mon cher Basil. Il est temps. Sophia Astafevna, je crois, est maintenant bien aiguiser votre khui.
-Vous croyez?
-Je suis s;r. J'ai entendu dans une institution, un ;ne nouvelle. Ils disent tellement mignon!
-Il s'agit d'une grande! - дядя Baziley отбросил в сторону перо и поднялся. Под панталонами у него топорщился мужчина.
Тургенев захихикал.
-Mais, ma ch;re, il est impossible pour nous de prendre Alexander. Il semble que le gar;on s'est r;veill; un homme. Tout ; l'heure qu'il se masturbait, couch; avec moi au lit.
Александр Иванович оскалил гнилые зубы.
-Pourquoi, mon cher. Je pense que M. Alexander ;tait d;j; temps de manger la pizda.
-Эй, дражайший, - перейдя на русский обратился к слуге дядя Baziley. – Позови-ка барчука.
-Позови-позови, - бурча под нос, старик поплелся из комнат. – Он, небось, дрыхнет, из пушки не добудишься.
Василий Львович повернулся к молодому развратнику.
-Pussy - chatte, - сказал он недовольно. – Vous n';tes pas fatigu;, mon gar;on, le trou d'une femme? Est-il temps d'essayer quelque chose de nouveau?
-Qu'est-ce-, par exemple? – крысиные глазки Тургенева заблестели.
-Eh bien, disons que aimait tant d'Achille.
-Je pense que tu veux dire un trou dans le Patrocle zhopa? – невинно хлопая ресницами, поинтересовался мусье Тургенев.
-Vous ;tes perspicace, mon ami. Parfois, j'ai peur de vous. Vous - le diable vrai dans les affaires de la d;bauche.
-Oh, l; o; je suis ; vous, – Александр Иванович ласково потрепал дядю Baziley по отвисшей щеке.
Вошел Alexzander, полностью одетый, глаза поблескивают.
-Ох, стервец, - по-русски воскликнул дядя Baziley.- Да ты уж, верно, догадался, змей, куда мы едем?
-Не догадался. Куда, дядя?
-Врешь, врешь, стервец, - дядя Baziley засмеялся. – Ты прекрасно знаешь, куда только можно поехать с Александром Ивановичем.
-Обижаете, Василий Львович, - елейным голоском отозвался Тургенев.
-Не обижайся, батенька. Это compliment. С тем же Иван Дмитричем я посещал такие дома, где от скуки дохнут мыши.
Слуга стал помогать Василию Львовичу переодеваться. Он стащил с него шелковую, желтую подмышками, рубаху, панталоны. Тело дяди Baziley было мерзко своей уродливой дряхлостью. Сиськи с неестественно- розовыми, обросшими седоватой шерстью сосками, свисали подобно бабьим, под огромным животом болталась крошечная мотня с синеватой головкой и облезлыми яйцами. Дряблые мышцы ног и рук напоминали рождественский студень. Самым же противным было то, что дядя Baziley вонял. Вонял, как воняла мертвая Акулька. Чувствуя подступающую ко рту тошноту, Alexzander поспешно вышел из комнаты.
Ехали довольно долго, в красивой и удобной карете Александра Ивановича.
«Когда-нибудь и у меня будет такая же карета, и я буду богаче Тургенева, а может… может, и богаче царя» - думал Alexzander.
На третьем этаже некрасивого особняка, уютно расположившегося в извилистом переулке, горела красная лампа. Дядя Baziley, мусье Тургенев и Alexzander стали подниматься по липкой от блевотины вонючей лестнице. Саша искренне недоумевал – что такого хорошего они ищут в этом гадком месте. По лестнице вниз сбежали два хлыща во фраках, один из них, пробегая мимо, хлопнул Сашу по плечу: «Желаю повеселиться, малец».
Тургенев подергал свисающий над черной дверью шнурок. Где-то в глубине послышался нежный голосок колокольчика. Как колокольчик был голосок и у отворившей им девушки, одетой в красиво приталенное платье, в котором (так показалось Alexzander’у нестыдно и на бал придти).
-Прошу вас, господа, – сказала она по-французски.
5
Отворяя ****у, истекающую соками
Следуя за девушкой по коридору, увешенному шуршащей драпировкой, они вошли в красиво обставленную гостиную a-la Volter
Три прекрасно одетые, с элегантными прическами девушки поднялись им навстречу, сделали реверанс.
-О, мусье Тургенев! Мусье Пушкин.
Толстая, похожая на беременную жабу, дама, которую Alexzander принял было за софу, поспешила к ним.
-О, свет очей моих, Софья Астафьевна, - Тургенев припал губами к распухшей, точно водою наполненной, руке. – Как поживаете, моя дорогая?
-И не спрашивайте, ma ch;re, и не спрашивайте.
-Что ж, так плохо? – хитро улыбнулся Тургенев.
-Хуже некуда, - вздохнула дама.
-А вот по вашим ручкам, - Тургенев коснулся губами массивного перстня на пальце Софьи Астафьевны. – и не скажешь.
-Ну что вы, - дама поспешила выдернуть руку и передала ее дяде Baziley. Дядя Baziley поцеловал руку, улыбаясь, как Будда.
-И, я вижу, с вами… Какой милый мальчик.
Alexzander ткнулся носом в протянутую руку. Рука эта почему-то пахла квашеной капустой.
-Присаживайтесь, господа.
Софья Астафьевна указала на свободные кресла.
-А мальчику мы предложим стульчик. Ведь он не обидится.
Дама потрепала щеку Alexzandera.
-Федька.
Курчавый парнишка лет восемнадцати вбежал в гостиную.
-Принеси стул.
Пока Федька бегал за стулом, Alexzander успел хорошо рассмотреть девушек. Одна из них, блондинка с розовыми губками и чудесно распахнутыми глазками, была настоящей красавицей. Еще две (включая ту девушку, что встретила их у дверей), были симпатичные: улыбчивые, с выражением неги на лицах. Четвертая девушка была уродиной: выпирающий подбородок, крючковатый нос, мышиного цвета глаза, почти нету ресниц. Зато у нее была огромная грудь, заманчиво розовеющая под вырезом платья.
-Софья Астафьевна, - нетерпеливо заговорил Тургенев. – Познакомьте же нас скорее с вашей новой воспитанницей.
Блондинка поднялась и сделала реверанс.
-Элеонора, - представила ее Софья Астафьевна. – Только третий день на моем воспитании.
-Элеонора, - повторил, истекая слюной, дядя Baziley.
Alexzander’у отчего-то захотелось подойти, и ударить дядю Baziley по изменившейся от похоти физиономии.
-Выпьем, господа, - сказала Софья Астафьевна.
Грудастая девушка подняла поднос и обнесла гостей бокалами с чем-то зеленым, как глаз кошки. Дядя Baziley не упустил, конечно, возможности ущипнуть ее за широкую жопу.
-Ах, Наташка, ****а нараспашку.
Все засмеялись.
-Обожаю ночью пить абсент, - потягивая из бокала, сообщил Тургенев. – Крепко ударяет по шарам, и земля замедляет свой бег и бог представляется тараканом, коего я – земной прыщ, могу прихлопнуть своею вонючей тапочкою.
Alexzander глотнул из бокала. Тьфу! Какая мерзкая горечь! И бог все такой же огромный и всеобъемлющий, как раньше.
-Глотни побольше, - посоветовал дядя Baziley.
Alexzander зажмурился и осушил бокал. Горечь бросилась ему в голову, вызвав боль и тошноту, но затем… Затем он увидел себя – огромного и непоколебимого, как крымский утес. На голове у него, завиваясь в кольца, росли рога, в которых ослепительно сверкало солнце. Саша бросил взгляд вниз, на свой ***, и увидел огромную красноголовую палицу, поддерживающую небесный свод подобно Атланту. И тогда к нему приблизилась женщина ослепительной красоты. От женщины этой исходили флюиды порочности, вечной порочности, словно она перетрахалась со всеми живыми существами на Земле.
-Я Земля, – сказала она. – Возьми меня.
И она опрокинулась на спину, отворяя ****у, истекающую соками. И, превратившись в красного быка, Саша вошел в нее…
-Эге, да мусью Alexzander опять за старое, - услышал он голос дяди Baziley.
Alexzander выдернул руку из панталон. ***, готовый уже извергнуть молофью, топорщил панталоны. Бросив взгляд на смеющихся девушек, Саша покраснел.
«Опустись, опустись, пожалуйста», - взмолился он, обращаясь к своему хую.
-Раз уж даже Alexzander готов к соитию, - сказал Тургенев, – полагаю, пора начинать. Как думаете, Софья Астафьевна?
-Как угодно господам. Элеонора, познакомь господ с собой.
Элеонора, словно лебедь, выплыла в центр гостиной. Она явно смущалась: краска заливала ее прекрасное личико. Дотронувшись до шнуровки на плече, девушка дернула веревочку. Платье, шурша, упало на пол.
*** Alexzander’a дрогнул, едва не выплеснув все запасы молофьи.
Люстра освещала Элеонору, свет мягко обнимал это великолепнейшее тело. Крепкие небольшие груди упрямо топорщились; под розоватым пупком на треугольной, заросшей белесой травкой лужайке цвела ослепительно-красная роза. Девушка повернулась. Пологие мягкие плечи перетекали в изящные, скованные белыми перчатками, руки; изгиб ее спины был безупречен, а попка… Попку можно было определить только одним словом – «божественная». Стройные, ровные ножки дополняли сладостную картину.
-Безупречна, - прошептал дядя Baziley. – Афродита…
6
Да избави нас от лукавага
-Начнем же с Божьей помощью, - сказал дядя Baziley, поднимаясь. – Помоги мне, Наташка.
Грудастая Наташка помогла дяде Baziley снять панталоны и батистовую рубаху. Alexzander отвернулся было, чтобы второй раз за день не смотреть на мерзкое тело Василия Львовича.
-Не поднимается, окаянный, - с отчаянием в голосе проговорил дядя Baziley.
Alexzander повернул голову и увидел, что Наташа взяла в рот синюшную мотню господина Пушкина, а руками ласкает морщинистые яйца дяди.
Дядя Baziley пыхтел, багровея, материл мать, отца и Господа Бога, однако *** его не желал подниматься.
-Уйди, - зло вскрикнул Василий Львович, отталкивая Наташку. – Ты, как тебя, Элеонора!
Но и розовый ротик Элеоноры не помог беспомощному хую дяди Baziley.
-Может, травки принесть, Василий Львович? – подала голос Софья Астафьевна.
Дядя Baziley покорно наклонил голову.
-Не травка вам нужна, Василий Львович, - подал голос мусью Тургенев.
-А что же, Александр Иванович?
- Le Patrocle zhopa.
-Вы - бес, дорогой Александр Иванович, - засмеялся Василий Львович, теребя мотню жирными пальцами. – Бес, каких свет не видывал.
Александр Иванович кивком головы подозвал Элеонору. Alexzander жадно следил, как девушка помогала мусье Тургеневу раздеваться. Когда она присела, ее ****а раскрылась, маня к себе Сашенькин ***.
Телом Александр Иванович был похож на дядю Baziley, только кожа на нем не свисала уродливыми складками.
Сашенькины глаза остановились на *** мусью Тургенева. Ого! Муде огромные, отвисшие, а сам хуй величиной с пастилку.
-Знаете ли, что я подумал? - обратился к Василию Львовичу Тургенев.
-Дак откуда ж мне знать, - отозвался дядя Baziley, ковыряясь пальцем в ****е одной из девушек.
-Я подумал, что лишить девства сей сладкий цветок, - Александр Иванович высунул перламутровый язык и лизнул щеку Элеоноры, – мы позволим нашему jeune eleve ? Не так ли?
Василий Львович посмотрел на Сашеньку так, словно только что вспомнил о его существовании.
-Гм. Я не против. А мы посмотрим.
Александр Иванович что-то шепнул на ушко Элеоноры и подтолкнул ее к креслу Сашеньки. Сердце мальчика замерло, потом забилось, опять замерло. Господи, помоги мне! Слава отцу и сыну и святагу духу, от отца исхадящага, живатварящага…
Элеонора улыбнулась Сашеньке, присела перед ним на корточки. Глядя на нее вблизи, Сашенька понял, что она еще моложе, чем показалась вначале. Немногим старше Акульки.
Глаголящага пророки…
Девушка стянула с мальчика панталоны. *** Сашеньки торчал, как солдат на часах у Петергофской заставы.
Богородице, дево, радуйся!
Элеонора дотронулась пальчиком до *** Сашеньки, и этого оказалось довольно. Хуй выстрелил молофейкой, в яйцах мальчика происходило такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Он заплакал от радости, слыша откуда-то со стороны чей-то смех, и голоса.
-Ну, чего же ты? – прошептала Элеонора, и жаркие губы припали к губам Саши, ловкий язычок проник ему в рот. Он обхватил горячее тело, как бедный прохожий, попавший в ураган, цепляется за попавшееся дерево. Элеонора и сама дрожала. Сашенька уткнулся лицом в небольшие упругие сиськи, стал лизать их, покусывать. Девушка застонала.
И не введи нас во искушение.
Попкой почувствовав, что *** Сашеньки снова готов к соитию, Элеонора слезла с мальчика и легла на пол, раскинув ноги. Девственная ****а, лучшее из Господних созданий, явилась пред ним во всей красе.
Он увидел приоткрытые губки, задорно торчащий язычок и саму невинность – розовую пленку с малюсенькой дырочкой, чрез которую сочилась прозрачная влага. Образ Акульки мелькнул на мгновение перед Alexzanderом и тут же угас.
Сашенька поднялся с кресла и лег на Элеонору. Руки девушки нащупали *** и направили в лоно. Как горячо! Элеонора вскрикнула. Саша задвигал жопой, целуя соленое от слез лицо девушки. Она извивалась под ним, стонала, покрикивала, но Саша продолжал ****ь ее, до тех пор, пока муде не свела болезненная радость, и хуй не выплеснул в нутро Элеоноры молофью. Тогда, обессиленный, мальчик соскользнул на пол. Взглянул на свой хуй – тот был красен от крови, но это уже не испугало Сашеньку, как тогда, с Акулькой.
Элеонора поднялась с пола, согнувшись от боли. По ее ногам струилась кровь.
Да избави нас от лукавага.
-Можно мне в комнаты, Софья Астафьевна?
-Иди, - отозвалась жаба. – И радуйся, что твой первый *** был, что стручок горошка.
Элеонора удалилась под смех.
Саша поднялся.
Ныне и присна и во вяки вяков.
-Доволен, Alexzander?
Сашенька кивнул.
-Ну, и я доволен. Смотри-ка, - дядя Baziley указал влажным пальцем на свой елдак. *** Василия Львовича торчал – несколько косо, но торчал!
-Все благодаря твоим exercices с Элеонорой, - вставил Александр Иванович, чьи муди перекатывала во рту Наталья. – Что ни говори, а невинность в царстве порока весьма souleve . О-ооо, ****ский потрох!
Наташа отстранилась, раскрывши розовый роток, и мусью Тургенев, помогая себе рукой, слил в рот девушки семя, дарованное ему Господом. Наташа сглотнула.
-****ский потрох, - повторил Александр Иванович. – До чего хорошо.
Василий Львович ухватил за руку Alexzanderа, наблюдающего за тем, как две девушки стали пытаться вернуть елдак мусью Тургенева к жизни.
-Подь-ка сюда, племяш.
От распаренного тела Василия Львовича воняло трупами и молофьей. Смертью и жизнью.
-Понравилось тебе?
Саша покраснел, кивнул.
-Как ты ей вставил-то гусара, - засмеялся дядя Baziley, поглаживая жесткие кучерявые волосы племянника, - Я думал, преставится девка.
-Что вы делаете, дядя?
Рука господина Пушкина прошлась по жопе Сашеньки, пощупала муде.
-Проверяю, насколько ты уже стал мужчиной, - заговорщицки шепнул дядя Baziley и вдруг, притянув к себе племянника, впился губами в его губы. Саша забился в медвежьих объятьях, да куда там!
Alexzander задохнулся бы и помер, если б Василий Львович вовремя не разомкнул свой чудовищный поцелуй. Впрочем, разомкнув его, старый пердун тут же всосал в беззубый рот Сашин елдак. Саша что есть силы колотил дядю Baziley по голове и плечам, кусал его. Напрасно. Все еще сильные руки содомита перевернули Alexzandera на живот. Нечто горячее и влажное коснулось Сашенькиной жопы. Мальчик закричал, брыкнул пяткой, угодив в мягкое. Василий Львович ругнул Господа и принялся читать «Благодарность Фелице»:
Предшественница дня златого,
Весенняя утрення заря,
Когда из понта голубого
Ведет к нам звездного царя.
При слове «царя» жопа Сашеньки, до того пустая, наполнилась чем-то, причиняющим такую лютую боль, что мальчик вскрикнул и потерял сознание.
7
Горит свечка, потом погаснет
Золотошкуры й бык выскочил на берег моря и встал на дыбы, как аравийский конь. На водной глади – золотая дорожка, ведущая прямиком к алеющему по краям золотому же волоокому диску. Нет, не диск это, а голая человеческая самка. Грудастая баба, вроде кухарки Параши. Стоящая раком баба.
Бык заржал (совсем, как лошадь). Под брюхом у него началось движение. Движение это завершилось тем, что поблескивающая головка исполинского уда коснулась песка. Бык ринулся к далекой ****е по золотой ровной дорожке и, настигнув ея, вонзил *** в истекающее соками лоно. Небо почернело, грянул гром.
-О-о-о!
-Очнулся, малой?
Добродушный голос дяди Baziley окончательно привел Сашеньку в чувства. Он сел. Мосье Тургенев и Василий Львович смотрели на него. Коляску потряхивало на рытвинах.
-Очнулись, дражайший? – осклабился Александр Иванович.
-Что со мной … - проговорил Сашенька, взглянул на широкое лицо дяди. – Что вы со мной сделали?
-Милостисдарь, - строгим голосом ответствовал дядя Baziley. – Вопрос не в том, что мы с вами сделали, а в том, что вы с собой сделали. Вы, мой милый племяш, дернули-с столько абсента, что потеряли сознание и провели в таком состоянии весь вечер.
-Правда? – Сашенька взглянул на Тургенева.
Александр Иванович кивнул и отвернулся, приказал ваньке поторапливаться.
-Да, мой милый, - Василий Львович почесал скованную панталонами промежность. – Вам так и не удалось отведать сладкой ****ы Элеоноры.
-Боже, до чего сладкой, - причмокнул губами мосье Тургенев. – Так бы и еб ее всю жизнь без перерыва на сральню и пожральню.
Солидные господа расхохотались. А вот Сашеньке было совсем не до смеха. Что с ним случилось в богоугодном заведении похожей на жабу госпожи? Еб ли он девственную ****у Элеоноры, а затем… А затем, еб ли его самого в жопу дядя Baziley?
Сашенька заерзал на сидении и чуть не вскрикнул от боли.
Коляска, между тем, остановилась.
-Вот вы и дома, - сообщил Александр Иванович.
Дядя Baziley выкорчевал тучное тело из коляски.
-Живее, Alexzander.
Превозмогая загадочную боль в сраке, Сашенька вылез из коляски.
-Куда вы теперь, Александр Иванович?
-Полагаю, на квартиру, Василий Львович. Хотя… - Тургенев задумался. – Впрочем, прощайте. Пшел!
Ванька щелкнул кнутом, и коляска споро покатила по мостовой в сторону Васильевской стрелки.
-****овать поехал, шельмец, - пробормотал дядя Baziley, провожая коляску завистливым взглядом.
На улице было темно и холодно. Мимо прошел дикого вида детина, блестко зыркнувший на дядю и племянника из-под нависших бровей.
-У, сатир, - бросил ему вслед Василий Львович. – Пошли, Alexzander, здесь не ровен час – зарежут.
Обедали молча. Василий Львович, видно, притомился, часто моргал, раз даже всхрапнул, сжимая желтыми зубами куриную ногу.
-Кирюшка, помоги, - наконец, пропыхтел он, отваливаясь от стола.
Слуга повел дядю Baziley в комнаты.
Alexzander ковырял грешневую кашу, глядя на ползающих по скатерти тараканов. Одного, зазевавшегося, даже убил ложкой.
Вернулся Кирюшка, улегшись на лавку, принялся вычесывать бороду корчеобразной пятерней. Зевнул. Отвернулся к стене. Тут же захрапел.
Сашенька смотрел на дрожащий огонек свечи. Горит свечка, потом погаснет. И человек живет, потом умирает. Бывает долго горит свечка, а бывает – дунет ветерок, она и погаснет.
Положив ложку, мальчик встал из-за стола. Подошел к окошку. Во всем огромном Пемтембургу была тьмущая ночь. Но вдруг сверкнул далекий огонек.
-Свечка, - пробормотал Саша.
А ну как, Элеонора подошла к окну с подсвечником, чтобы он, Сашенька, мог увидеть? А может, это бесы, которыми нянька пугала в сочельник? Или мертвый фонарщик, про которого рассказывал Гришка Свиное Рыло?
Сашеньке стало страшно, он кинулся в свою комнату, бросился в постель и накрылся с головой одеялом.
8
Утром с постели трудно вставать. Зябко потому что. Да надо. Сегодня дядя Baziley повезет Сашеньку устраивать в Лицей. Лицей!
Сашенька аж зажмурился от счастья. Лицей! Лицей! Лицей! Лицей лицей лицей лицей лицейлицейлицейлицейлицейлицей! Вспомнил Сашенька, как papa про Лицей рассказывал, про братство, про дружбу, да про верность до конца дней своих Отечеству нашему России-матери, коя вечно стоять будет и не колыхнется, пока есть в ней ее цвет и сила – дворянство. Слеза прокатилась по щеке мальчика. Захотелось ему тут же служить матери-России верой и правдой. Представил он мать-Россию. Сильные ляжки голые, сиськи необъятные, ****а волосатая. Копошатся на теле дебелом, плодородном людишки, есть ростять, да детей ростять. И никому, кроме Императора, самодержца Всероссийского не позволено Мать-Россию ****ь... Представил Сашенька, как царь-батюшка ебет Россию. Горячо стало у Сашеньки между ног, брызнула молофейка.
-Пора, Александр Сергеевич, - Кирюха заглянул в комнату. Щами запахло да портками немытыми.
Сашенька взбрыкнул, отбросил одеяло, вскочил. Кирюха помог барчуку надеть панталоны да рубаху. За яйца шутливо пощупал.
-Есть уже кой-чаво, - осклабился.
-Иди на ***, дурак, - засмеялся Сашенька, ударил сапогом Кирюху по склоненному рылу. Кровь из ноздрей пошла у Кирюхи, засмеялся Кирюха, порываясь руку барчуку поцеловать.
-Пошел, пошел, - Сашенька размахнулся было вдругоряд сапогом, да передумал. Споро надел сапоги. Притопнул каблуками. Лицей!
Дядя Baziley завтракал. Увидел Сашеньку, рыгнул, ковырнул пальцем в зубах, достал кусочек мяса, опять в рот сунул.
-Садись, Alexzander, гуся потчевать, - сказал приветливо.
Сашенька уселся к столу, Кирюха положил ему на тарелку большую гусиную ляжку, да мозгового горошка зачерпнул горсть, насыпал.
Жесткое мясо гусятина, зубы в нем застревают. Чьи это зубы? Сашенька вынул из ляжки три зуба, бросил на тарелку, зазвенели они.
Дядя Baziley за щеку ухватился.
-Вот же ж ****ь переебская, - покачал головой. – Пытался куснуть, да зубы потерял. А ты ешь, ешь, Alexzander.
Сашенька погрыз ляжку, горошку поклевал – сытый.
-Ну-с, с Богом.
Дядя Baziley поднялся из-за стола, бзднул продолжительно.
-Пошли.
Коляска уже ждала.
Василий Львович дал по шее дрыхнущему ваньке. Ванька встрепенулся, наддал лошадям. И замелькали дома, заборы, деревья, мосты, разноцветные барышни, напомаженные господа, люди, и прочая и прочая. Чуден ты, Пемтембург, ранним утречком. Прохладен, как светский хлыщ, соблазняющий юную дуреху. Слова лишнего не скажешь, движения лишнего не сделаешь, а вот смотри ж ты, уже соблазнил дуреху, обрюхатил, да и укатил на Кавказ в картишки дуться да ****ь мохнато****ых черкешенок. Дуреху родители - на ярманку невест, где ее прихватит в дополнение к чистопородной каурке старый полковник с провалившимся носом, будет ее поколачивать да попрекать сынком – таким же, как ты, задумчивым малахольным байроном. Ах, Пемтембург!
Остановилась коляска у кирпичного трехэтажного дома, с балкончиками, которые поддерживали голые атланты. Красиво как!
Вошли. Батюшки-светы. Ковры да золото, золото да ковры. Картины, гардины, кадушки с растениями, статуи. Присутственное место. Главное Управление Его Императорского Величества Лицеями. Жмутся к стеночкам, ослепленные роскошеством, просители, серенькие, несчастные.
Дядя Baziley и тот струхнул – в Москве такого шику не видывал. Жмется к стеночке Василий Львович, брюшко втянул, подбородок слюной умаслил, и, кажись, сам не рад уже, что вызвался проводить Alexzandera. Сашенька вслед за дядей вдохнул робости, витающей в воздухе. К стеночке, к стеночке.
-К стеночке, не толпитесь, - прикрикнул пробегающий по коридору чиновник зазевавшемуся дворянчику, ведущему за руку тощего прыщавого юношу. Дворянчик отпрянул и – к стеночке. Тощий юноша очутился неподалеку от Сашеньки. Нос длинный, прямой, уши торчком, грудь узкая, бледный, как смерть.
«На Кольку-вороненка похож»- подумал Сашенька.
-Прошение подавать? – между тем, поинтересовался прыщавый, брызнув на Сашеньку слюной.
-Угу.
-Я тоже, - прыщавый шмыгнул носом, перенеся в рот комок соплей, огляделся, собираясь харкнуть, да опомнился. Пожевал добро, проглотил.
-Кюхельбекер, Вильгельм Карлович, - представился.
Сашенька пожал протянутую руку.
-Пушкин, Александр Сергеевич.
-Пойдемте, Alexzander, - нетерпеливо бросил Василий Львович и засеменил по коридору. Сашенька – следом.
Василий Львович заглянул в один из кабинетов:
-Здравия-с желаем-с, привел недоросля-с по вопросу прошений-с.
-Ждать, - был ответ.
Ждали у дверей долго – дядя Bazileу уселся на стул, а вот Сашеньке пришлось стоять – ноги заболели, спина, пить захотелось.
Вошли, наконец. Сашенька увидал похожего на птицу господина при золотых эполетах. Господи Боже, это же Царь!
-Мы к Ефрему Ефремовичу-с, - доложил Василий Львович.
-Ефрема Ефремовича нет, - коротко и с некоторой злобой отозвался господин в эполетах. – Я за него. Карл Аристархович.
Дядя Baziley замялся.
-Вот, Карл Аристархович, изволите видеть, племянника привел-с, так сказать. На обучение-с для службы Отечеству.
-Кто таков?
-Пушкин-с.
-Дальше.
-Александр Сергеевич.
-Экой черномазый.
-Да-с, - Василий Львович захихикал. – Правы, Карл Аристархович. Мальчишка – потомок Ганнибала, Абрама Петровича, Арапа Петра Великого.
Карл Аристархович кивнул клювом.
-Знаю, знаю.
Помолчал, ковыряя длинным ногтем плешь. Василий Львович грузно дышал.
-Фамилия-то известная, - наконец, подал голос птицеобразный.
-Известная, известная, - радостно подхватил дядя Baziley.
-Известная, - выдохнул, сам с собой соглашаясь, Карл Аристархович и понизил голос. – Вот только не видать вам Лицея.
-Как так? – вознегодовал Василий Львович.
-А вот так. Места-то раскуплены. Кое-кто деревеньку целую заложил, лишь бы сына на государево обучение устроить.
Сашенька заплакал.
-****ь, - вырвалось у Василия Львовича, и в испуге он прикрыл рот ладонью.
-Вот именно, - согласился Карл Аристархович. – Место в Лицее тепленькое, как ****ь, каждый норовит поиметь его.
Карл Аристархович с жалостью взглянул на плачущего Сашеньку.
-Разве что…
-Да? – подался вперед Василий Львович. – Говорите, не томите.
-Разве что я вам уступлю место, предназначенное для моего сынка.
-Как благородно, как возвышенно! – воскликнул дядя Baziley, вздымая руки небу.
-Но за это…
Василий Львович и Сашенька замерли.
-За это я хочу, чтобы вы выпороли меня, - покраснев, как вареный рак, признался Карл Аристархович и достал из-под стола плеть, усиленную свинцовыми вставками.
Свидетельство о публикации №112012808807
