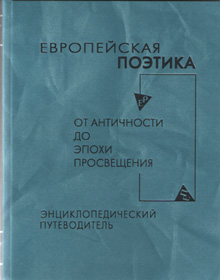Теория эпиграммы в немецких поэтиках Нового времен
Немецкая эпиграмма эпохи барокко восходит к трем основным источникам – древнегреческой антологической эпиграмме, сатирической эпиграмме римской поэзии и неолатинской эпиграмме эпохи Возрождения. Жанр литературной эпиграммы Нового времени существовал вначале в неолатинском варианте и в традиционной сатирической разновидности, и лишь впоследствии, перейдя из ученой словесности гуманистов в национальные литературы, он претерпел и характерные изменения.
Немецкие теоретики литературы XVII–XVIII вв. придали эпиграмме статус универсального поэтического жанра, обладающего своими неповторимыми особенностями, и предложили ряд дефиниций последнего. Так, Иоганн Готлиб Мейстер (†1699), ректор гимназии св. Николая в Лейпциге, в поэтике «Unvorgreiffliche Gedancken Von Teutschen Epigrammatibus» (1698) определяет: «Эпиграмма есть сжатое изречение, в котором ясно и кратко сообщается о каком-либо лице, деянии или предмете» [Meister: 1698, 73]. Ученый-языковед, член «Плодоносящего общества» Юстус Георг Шоттель (1612–1676) в трактате «Teutsche Vers- oder Reim-Kunst» (1656) охарактеризовал эпиграмму как «остроумное стихотворение, устремленное к своей кульминации и увенчанное замечательным, метким, неожиданным изречением» [Schottel: 1656, 989–991]. Выдающийся немецкий просветитель Готхольд Эфраим Лессинг (1729–1781) в статье «Zerstreute Anmerkungen ueber das Epigramm und einige der vornehmsten Epigrammatisten» (1771) назвал эпиграмму «стихотворением, в котором, сообразно свойству собственно надписи, наше внимание и любопытство возбуждаются каким-либо отдельным предметом и длятся до тех пор, пока не будут более или менее удовлетворены» [Lessing: 1771, 103]. В отличие от Никола Буало (1636–1711), понимавшего эпиграмму всего лишь как рифмованную остроту (“L’epigramme... n’est souvent qu’un bon mot de deux rimes ornes“), авторы немецких поэтик подчеркивают серьезный характер данного лирического жанра. Так, основатель нюрнбергского «Пегницкого пастушеского ордена» Георг Филипп Харсдёрфер (1607–1658) в известном сочинении «Поэтическая воронка» («Poetischer Trichter», 1648) называет эпиграмму «язвительным стихотворением, бичующим порок без всякого стеснения» [Harsdoerffer: 1648, 99]. Самуэль Шельвиг в работе «Entwurff der Lehrmaeszigen Anweisung zur Teutschen Ticht-Kunst» (1671) говорит: «В эпиграмме мы в немногих словах заключаем глубокое содержание» [Schelwig: 1671, 120].
Фундаментальное жанровое определение эпиграммы в эпоху барокко было дано Мартином Опицем (1597–1639), главой Первой силезской школы, прозванным современниками «немецким Горацием, Гомером, Вергилием и Пиндаром», в его «Книге о немецком стихосложении» («Buch von der Deutschen Poeterey», 1624) – первой поэтике на немецком языке, опирающейся на «De arte poetica» Горация, а также на ренессансные поэтики «Poetices libri septem» (1561) Юлия Цезаря Скалигера (1484–1558) и «Abrege de l’art poetique» (1565) Пьера де Ронсара (1524–1585). Характеризуя эпиграмму в обоих ее аспектах – формальном и содержательном, Опиц рекомендует для данного рода поэзии тематику антологического характера и отводит язвительно-обличительные эпиграммы на конкретных лиц: «Эпиграмму я потому причисляю к сатире, что сатира – это длинная эпиграмма, а эпиграмма – короткая сатира: ибо краткость – ее главное свойство, а остроумие, так сказать, ее душа и образ; оно особенно проявляется в заключении, которое должно быть каждый раз иным, нежели мы ожидаем: в этом, прежде всего, и состоит остроумие. Но, хотя в эпиграмме возможны любые предметы и выражения, все же дела Венеры, надписи на могилах и зданиях, похвалы знатным господам и дамам, забавные шутки и все, что ни заблагорассудится, в ней более оправданны, чем издевательские насмешки над наружностью и выведение на свет пороков других людей» [Opitz: 1624/1955, 20]. Ставя знак равенства между сатирой и эпиграммой, Опиц распространяет на последнюю и свое определение сатиры как жанра, данное им в той же главе V его труда: «К сатире принадлежат два предмета: учение о добрых нравах и благопристойном поведении, а также учтивые речи и шутки. Но важнейшее в ней и словно бы душа ее – это непреклонное обличение порока и увещевание к добродетели» [Ibidem]. Таким образом, Опиц декларирует нравственно-дидактическое направление сатиры в целом и эпиграмматики в частности.
Исчерпывающее формальное определение эпиграммы дано в «Поэтике» Скалигера: «Эпиграмма... есть короткое стихотворение, в котором [либо] просто сообщается о предмете, лице или событии, либо из посылки нечто выводится» („Epigramma igitur est poema breue cum simplici cuiuspiam rei, vel personae, vel facti indicatione: aut ex propositis aliquid deducens“) [Scaliger: 1594, 430]. Данное определение, исходящее из логического характера эпиграммы, указывает на свойственную последней двухчастную структуру propositio – conclusio («посылка – заключение» – лат.). В теоретических разработках немецких и зарубежных поэтик XVII–XVIII вв. структурные элементы эпиграммы имеют различные наименования, в зависимости от их характера и функции, которую они выполняют в стихотворении. Например, в трактате французского иезуита Франсуа Вавассёра «Francisci Vavassoris de epigrammate liber et Epigrammatum libri tres» (1669), оказавшем известное влияние на немецких теоретиков, говорится об expositio et clausula («изображение – заключение» – лат.) [Pechel: 1909, 13]. В поэтике Мейстера встречаются обозначения antecedens – consequens («посылка – заключение» – лат.), thesis – hypothesis («положение – обоснование» – греч.), narratio – acumen («изложение – острота» – лат.), protasis – apodosis («возвышение – снижение» – греч.) [Meister: 1698, 87–89, 130–131]. Магнус Даниэль Омейс (1646–1708), профессор поэтики в Альтдорфе и член «Пегницкого ордена» под именем «Дамон», в сочинении «Gruendliche Anleitung zur Teutschen accuraten Reim- und Dicht-Kunst» (1704) называет следующие две части эпиграммы: „(1) Propositione sive Narratione; (2) Acumine“ («Посылка или изложение; остр;та» – лат.) [Omeis: 1704, 183]. В других источниках того времени используются также термины praesumptio(n) – epiphonema («ожидание – разъяснение» – лат., греч.). В век Просвещения Лессинг – один из ведущих теоретиков данного жанра – использовал аналогичные обозначения частей эпиграмматической структуры: „Erwartung“ («ожидание») – „Aufschluss“ («разъяснение») [Lessing: 1771, 110]. Другой известный исследователь, Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803), в работе «Anmerkungen ueber die Anthologie der Griechen, besonders ueber das griechische Epigramm» (1785) употребляет термины „Darstellung (Exposition) – Befriedigung“ («изображение – удовлетворение» – нем.) [Herder: 1888, 341].
В ряде случаев, вместо стандартных propositio – conclusio и их вариаций, в эпиграмме имеет место структура thesis – antithesis («положение – противоположение» – греч.) [Meister: 1698, 87–89]. Возникающий при этом логический двучлен сближает эпиграмму с разновидностью неполного силлогизма – энтимемой. Согласно замечанию ученого-полигистора и гуманиста Даниэля Георга Морхофа (1639–1691) в его поэтике «Unterricht von der Teutschen Sprache und Poesie» (1682), «circumscriptum [сжатость. – лат.] эпиграммы подобна энтимеме» [Morhof: 1682/1969, 752–754]. Тенденция барочных теоретиков рассматривать эпиграмму как силлогизм, в котором первый стих (двустишие) – большая посылка, а второй – малая, восходит к трактату Эммануэле Тезауро (1591–1675) «Подзорная труба Аристотеля» («Il Cannocchiale Aristotelico», 1655). Диада «тезис – антитезис» коррелирует с аристотелевской «Риторикой», в которой говорится: «Что же касается формы и стиля, то успехом пользуются те энтимемы, в которых употребляются противоположения» [Аристотель: 2000, 128].
Наряду с двухчастностью, эпиграмме, по определению Скалигера, «присущи два достоинства: краткость и остроумие. В краткости состоит ее свойство. В остроумии – душа и образ» („Epigrammatis duae virtutes peculiares: breuitas & argutia... Breuitas proprium quiddam est. Argutia, anima, ac quasi forma“) [Scaliger: 1594, 431]. Опиц повторяет почти дословно: «…краткость – ее главное свойство, а остроумие, так сказать, ее душа и образ» („...die kuertze ist seine eigenschafft/ vnd die spitzfindigkeit gleichsam seine seele vnd gestallt“) [Opitz: 1624/1955, 20]. Другие исследователи высказываются в том же русле: например, Винцентий Галлуc в поэтике «De Epigrammate, Oda, et Elegia» (1624) именует эпиграмму «коротким остроумным стихотворением» (“Epigramma est carmen argutum, & breue”) [Gallus: 1624, 10]. Он же вводит, как нормативное свойство эпиграммы, понятие «ясности» (claritas) [Ibidem]. В свою очередь, Мейстер интерпретирует данное свойство как «ясная краткость» („deutliche Kuertze“) [Meister: 1698, 73].
Отдельные немецкие теоретики дают в своих трудах дефиницию категории краткости, ставя последнюю в зависимость от необходимости. Так, по замечанию Морхофа, «краткость состоит не в немногословности, но в исключении ненужного» [Morhof: 1682/1969, 752–754]. Согласно схожему суждению Омейса, «не столь существенно, как представляется некоторым, ограничивать ее [эпиграмму. – М.Н.] двумя или четырьмя стихами, – довольно, если в словах и изречениях не будет того, без чего можно обойтись» [Omeis: 1704, 183]. Но, хотя краткость была безусловно признанным атрибутом эпиграммы, тем не менее, для немецких эпиграмм эпохи барокко было характерно стремление к разрастанию до весьма значительных размеров. Это отчасти объясняется традицией, восходящей к античности, – например, длинными эпиграммами у Марциала – всеобщего кумира немецких эпиграмматистов, или отсутствием четкой границы между эпиграммой и элегией у поэтов греческой антологии, – отчасти же тем, что определенная формальная норма эпиграммы в XVII в. еще не была выработана. Вопрос о формальных рамках эпиграммы восходит к дискуссии в немецких поэтиках второй половины XVII – первой трети XVIII в. о границах данного жанра, бывшей, в свою очередь, продолжением аналогичной дискуссии во французских поэтиках середины XVI в. В частности, Зигмунд фон Биркен (1626–1681), автор трактата «Teutsche Rede-bind und Dicht-Kunst/ oder Kurze Anweisung zur Teutschen Poesy» (1679), видел воплощение эпиграмматического идеала в двустишии [Birken: 1679, 103]; Бальтазар Киндерманн (1629–1706) в сочинении «Der Deutsche Poёt» (1664) [Kindermann: 1664, 257] и Мейстер [Meister: 1698, 73] объявляли необходимым объем от двух до шести стихов; Эберхард Графе («Lehr-maessige Anweisung/ Zu der Teutschen Verss- und Ticht-Kunst», 1702) считал октаву находящейся все еще в пределах нормы [Grafe: 1702, 65], а Филандер фон дер Линде (Иоганн Буркхард Менке, 1674–1732) в поэтике «Unterredung von der Deutschen Poesie» (1727) настаивал на объеме в 24 строки, как все еще отвечающем требованиям жанра [Linde: 1727, 270].
Позднебарочные авторы говорят о способности эпиграммы далеко выходить за рамки, обусловленные теорией, как о явлении, типичном для немецкой эпиграмматики этого периода. Например, Морхоф в сочинении «Commentatio de disciplina argutiarum» (1693) отмечает: «Краткость не является чем-то непреложным: ибо хотя и считается прямо необходимым, чтобы эпиграмма ограничивалась одним или двумя двустишиями, но иногда она способна простираться до 40 или 50 стихов, – словом, все зависит от сжатости изложения» („Brevitas indefinita est: neque enim simpliciter necessarium est, et uno vel altero disticho terminetur epigramma, sed potest interdum ad 40. vel 50. versus extendi, praeprimis tale est, quod circumscriptum dicimus“) [Morhof: 1693, 202]. Тенденция к расширению стихового пространства эпиграммы находила свое обоснование в типично барочной хиастической формуле „Epigramma est brevis Satyra; Satyra est longum Epigramma“ («Эпиграмма есть короткая сатира; сатира есть длинная эпиграмма». – лат.). Она же фигурирует в начале дефиниции Опица: „…die Satyra ein lang Epigramma/ vnd das Epigramma eine kurtze Satyra ist...“ [Opitz: 1624/1955, 20] Данная формула восходит к программной эпиграмме повсеместно знаменитого в ту эпоху английского неолатинского поэта Джона Оуэна (1564–1622) „Epigramma. Satyra“ (II, 181):
Nil aliud Satyrae qvam sunt Epigrammata longa;
Est praeter Satyram nil Epigramma breve,
Nil Satyrae, si non sapiant Epigrammata, pingunt:
Ni Satyram sapiat, nil Epigramma juvat. [Owen: 1628, 57]
(Было бы верно сатиру назвать эпиграммою длинной;
Краткой сатирой должны мы эпиграмму считать.
Кто в эпиграммах не смыслит, сатиру писать не возьмётся, –
И эпиграммы того, кто недруг сатир, не смешат.)
(Перевод наш. – М.Н.)
Античный термин еpigramma не был единственным обозначением этого рода лирики, но имел в немецкой поэзии XVII в. целый ряд синонимов, таких, как Vberschrift, Beischrift, Aufschrift, Denkspruch, Sinn-Spruch, Sinn-Gedicht, Schluss-Gedicht, – а также ряд более поздних, относящихся большей частью к концу столетия, наименований: Sinn-Reim, Sinn-Schrift, Sinn-Rede. Большинство названных терминов указывает на интеллектуальное содержание этого жанра лирики. Из них закрепилось и дошло до наших дней только наименование Sinngedicht (букв.: «умное стихотворение»). Данный термин, находящийся в очевидной семантической связи с понятиями, обозначающими афоризм и нравоучительное высказывание – Denkspruch и Sinnspruch, впервые был использован в качестве жанрового наименования в собрании стихотворений «Salomons von Golaw Deutscher Sinn-Getichte Drey Tausend» (1654) силезского поэта, герцогского советника в Бриге Фридриха фон Логау (1605–1655) – наиболее выдающегося из немецких эпиграмматистов той эпохи. Последний заимствовал его из поэтики «Hoch-deutscher Helikon» (1649) Филиппа фон Цезена (1619–1689) – «Дон Кихота немецкого языка», изобретателя многочисленных неологизмов, нередко вызывавших смех у современников. Цезен применил этот термин специально для обозначения коротких пуансированных стихотворений: „Nuhn kommen wier wieder zu unsern Kling-gedichten. Dabei fellet zu erinnern for/ dass sie aus dreierlei ahrten der Sin-gedichte… gleichsam zusammen-gesetzt sind…“ («Теперь обратимся опять к нашим звоноримам. Притом необходимо напомнить, что они некоторым образом состоят из трех видов мыслестихов…») [Zesen: 1649, Siij]. По свидетельству Лессинга, наименование Sinngedicht, введенное Логау в немецкую поэзию, утвердилось в ней настолько, что вытеснило впоследствии другой распространенный термин – кальку Vberschrift блестящего эпиграмматиста XVIII в., дипломата на датской службе Кристиана Вернике (1661–1725) [Lessing: 1771, 95]. Это дало последнему повод для следующего замечания: «Я сочиняю эпиграммы, или, выражаясь по-немецки, надписи, которые должны быть исполнены мысли более всех остальных поэтических произведений, так что иные немцы охотнее именуют их „умными стихами“, – как если бы все прочее написано было чурбанами без ума и разумения» [Wernicke: 1697, 465].
Немецкая эпиграмма XVII в., в силу исконной специфики этого рода лирики, нередко выступала в традиции стихотворений «на случай» (casual-carmina), повсеместно распространенной в литературе того времени; однако в действительности ее жанровые рамки были значительно шире. Вследствие своего экспансивного характера эпиграмма ассимилировала большинство бытовавших в поэзии XVII в. лирических форм, как литературных (эпиталамы, эпитафии, эмблемы, сентенции, эхостихи, сонеты, мадригалы, пасторали, фацетии, басни, сатиры, элегии, гимны, эпистолы, оды), так и фольклорных (приамели, заговоры, загадки, шванки, шпрухи, рифмованные пословицы и др.). В этом стремлении максимально освоить весь диапазон импортированных и автохтонных поэтических жанров состоит одно из свойств немецкой эпиграмматики данного периода.
Основанием для причисления ряда поэтических жанров к эпиграмме явилась двухчастная структура последних. Так, Омэйс предписывает двухчастное эпиграмматическое строение сонету, в котором «первые восемь строк выполняют роль повышения, или protasis, а последние шесть – снижения, или apodosis» [Omeis: 1704, 112]. Виттенбергский профессор поэтики Август Бухнер (1591–1661) в трактате «Anleitung zur deutschen Poeterey» (1638) прямо объявляет сонет «разновидностью эпиграммы» [Buchner: 1638/1966, 175]. Для поэзии немецкого барокко типичными являются сборники в виде смеси сонетов и эпиграмм, – например, издание Георга Мартина «Deutsche Epigrammata Vnd Sonette Oder Kling-Gedichte» (1654) и др. Характерно в этом отношении также приложение из десяти сонетов, помещенное в книге эпиграмм францисканского священника, поэта мистического направления Ангелуса Силезиуса (Иоганнес Шефлер, 1624–1677) «Cherubinischer Wandersmann» (1675) [Silesius: 1675/1999, 404–415]. По причине двухчастного строения к эпиграммам был причислен и другой ренессансный поэтический жанр – мадригал. Впервые на формальное родство мадригала и эпиграммы было указано в трактате Каспара Циглера (1621–1690) «Von den Madrigalen» (1653): «Начальные стихи [мадригала. – М.Н.] представляют собой более или менее определенную propositio… [которая] завершается выведенной из всего предыдущего conclusio» [Ziegler: 1685, 6]. Эпиграммой считалась также басня из-за наличия в ней так называемого «периода нагнетания» (Spannungsperiode), завершающегося «разрешением» (Schluss). Вследствие той же двухчастной структуры с «периодом нагнетания» (дискурсивным изложением) и «разрешением», имеющим характер синтеза, в разряд эпиграмм был отнесен и старинный немецкий приамель – фольклорный жанр «перечисления с заключением» (Beispielreihung mit Schlusspointe), почти забытый к XVII в. и вновь воскрешенный в творчестве Фридриха фон Логау.
По своему содержательному характеру немецкие эпиграммы подразделялись на духовные, философские, нравообличительные, галантные, любовные, застольные, посвятительные и т.д., некоторым образом повторяя тематическое разнообразие греческих эпиграмм антологической традиции. Барочные теоретики литературы наделяли эпиграмму всеобъемлющим содержательным диапазоном: уже Опиц, хотя и с оговорками, констатирует: «…в эпиграмме возможны любые предметы и выражения…» („...das Epigramma aller sachen vnnd woerter faehig ist“) [Opitz: 1624/1955, 20]. В свою очередь, Иоганн Коттуниус подчеркивает: «Предметом же эпиграмм… является все на свете» (“Materia autem epigrammatis… sunt res omnes”) [Cottunius: 1632, 32]. Оба суждения восходят к Скалигеру, который писал: «Эпиграмм же существует столько видов, сколько предметов [для них]» (“Epigrammatum autem genera tot sunt, quot rerum”) [Scaliger: 1594, 431]. Универсализм эпиграммы свидетельствует о сверхродовом характере данного жанра, – так, по мнению Коттуниуса, эпиграмма соединяет в себе свойства всех основных родов литературы: «Эпиграммы по праву соотносимы со всеми… родами поэзии: ибо они… близки к эпосу, или к лирике… сродни трагедии… Иные, наконец, отсылают к комедии» (“Epigrammata rit; in omnibus […] poematum generibus collocantur: etenim illa… spectant ad Epopeiam, vel ad Lyricam […] propria sunt Tragoediae […] Postremo, alia epigramma ad Comoediam reducuntur”) [Cottunius: 1632, 27–29].
Один из первых опытов научной классификации эпиграмм в Новое время имел место в «Поэтике» Скалигера, в которой определены три типа: (1) genus apologeticum – сюжетные и обличительные эпиграммы; (2) genus suasorium – лирические и галантные эпиграммы („Amatoria“); (3) genus laudis et vituperationis – «эпитафии и элегии» [Scaliger: 1594, 431–432]. В XVII–XVIII вв. попытки классификации эпиграмм, как по характеру содержания, так и по формальным признакам, встречаются в различных сочинениях, от поэтики Винцентия Галла (1624) до трудов по эпиграмматике Гердера (1785). При всем разнообразии немецких эпиграмм преобладающими среди них являлись два типа: сатирический и гномический. Гномические эпиграммы (от греч. „gnome“ – «изречение, сентенция») занимали основное место в жанровой картине немецкой эпиграмматики XVII в.; в содержательном отношении они представляли собой прямое выражение дидактической тенденции, свойственной литературе той эпохи. Но, несмотря на безусловное количественное преимущество этих эпиграмм в указанный период, устойчивой тенденцией немецких поэтик, следовавших в русле теории Опица, было полное их игнорирование. Только к концу века, в трактате Морхофа «Commentatio de disciplina argutiarum» (1693), этот род эпиграмм (Epigrammata Gnomica) получил, наконец, официальное признание [Morhof: 1693, 197]. Главным эпиграмматическим типом в XVII в. считался сатирический, что было следствием традиционной ориентации барочных поэтик на творчество Марциала. Однако немецкая сатирическая эпиграмма имеет принципиально иной характер, нежели эпиграммы римского сатирика, поскольку в ее основе лежит задача исправления нравов, которой у Марциала нет. В этом отношении она не только является воплощением в жизнь теории Опица, но и сближается с национальной немецкой традицией обличительной сатиры XV–XVI вв., которая, как правило, была морализирующей.
БИБЛИОГРАФИЯ
I. Научные и литературные источники
1. Аристотель. Риторика. Поэтика. М., 2000.
2. Ангелус Силезиус. Херувимский странник (Остроумные речения и вирши). СПб., 1999.
3. Birken, Sigmund von. Teutsche Rede-bind vnd Dicht-Kunst/ oder Kurze Anweisung zur Teutschen Poesy... Nuernberg 1679.
4. Boileau Despreaux, Nicolas. L’Art Poetique // Oeuvres Completes. Paris 1809. T. I.
5. Buchner, Augustus. Anleitung zur deutschen Poeterey (1638). Hg. von Marian Szyrocki. Tuebingen 1966.
6. Cottunius, Io(annes). De conficiendo epigrammate liber vnus. Bononsis 1632.
7. Gallus, Vincentius. De Epigrammate, Oda, et Elegia Opusculum. Mediolanum o.J. [1624].
8. Grafe, Eberhard. Lehr-maessige Anweisung/ Zu der Teutschen Verss- und Ticht-Kunst. 1702.
9. Harsdoerffer, Georg Philipp. Poetischer Trichter. Die deutsche Dicht- und Reimkunst ohne Behuf der lateinischen Sprache in VI. Stunden einzugiessen. Nuernberg 1648.
10. Herder, Johann Gottfried. Anmerkungen ueber die Anthologie der Griechen, besonders ueber das griechische Epigramm // Saemmtliche Werke. Hg. von Bernhard Suphan. Band 15. Berlin 1888. S. 205–221. 337–392.
11. Kindermann, Balthasar. Der Deutsche Poёt. Wittenberg 1664.
12. Lessing, Gotthold Ephraim. Zerstreute Anmerkungen ueber das Epigramm und einige der vornehmsten Epigrammatisten // Gotthold Ephraim Lessings Saemmtliche Schriften. Bd. 1. Berlin 1771. S. 93–170.
13. Linde, Filander v. d. Unterredung von der Deutschen Poesie // Vermischte Gedichte. 2. Aufl. Leipzig 1727.
14. Meister, Johann Gottlieb. Unvorgreiffliche Gedancken Von Teutschen Epigrammatibus, Jn deutlichen Regeln und annehmlichen Exempeln. Leipzig 1698.
15. Morhof, Daniel Georg. Commentatio de disciplina argutiarum. o.O. 1693.
16. Morhof, Daniel Georg. Unterricht von der Teutschen Sprache und Poesie/ deren Ursprung, Fortgang und Lehrsaetzen. Luebeck & Leipzig 1682. Hrsg. von Henning Boetius. Bad Homburg v. d. H. 1969.
17. Omeis, Magnus Daniel. Gruendliche Anleitung zur Teutschen accuraten Reim- und Dicht-Kunst. Nuernberg 1704.
18. Opitz, Martin. Buch von der deutschen Poeterey. Abdruck der ersten Ausgabe (1624). Halle (Saale) 1955.
19. Owen, John. Epigrammatum Joannis Oweni... Wratislaviae 1628.
20. Scaliger, Julius Caesar. Poetices libri septem. [Geneve] M.D.XCIV [1594].
21. Schelwig, Samuel. Entwurff der Lehrmaeszigen Anweisung zur Teutschen Ticht-Kunst. Wittenberg 1671.
22. Schottelius, Justus Georg. Iusti-Georgii Schottelii Teutsche Vers- oder Reim Kunst. Franckfurt a.M. 1656.
23. Wernicke, Christian. Uberschrifte Oder Epigrammata. Amsterdam 1697.
24. Zesen, Philipp von. Filip Zesens… Hoch-deutscher Helikon/ oder Grund-richtige anleitung zur hoch-deutschen Dicht- vnd Reim-kunst. Wittenberg 1649.
25. Ziegler, Kaspar. Von den Madrigalen. Wittenberg 1685.
II. Теоретическая литература
1. Althaus, Thomas und Seelbach, Sabine (Hgg.). Salomo in Schlesien. Beitraege zum 400. Geburtstag Friedrich von Logaus (1605–2005). Amsterdam, New York 2006.
2. Angress, Ruth. The Early German Epigram: A Study in Baroque Poetry. Lexington 1971.
3. Dietze, Walter. Abriss einer Geschichte des deutschen Epigramms // Dietze, Walter. Erbe und Gegenwart: Aufsaetze zur vergleichenden Literaturwissenschaft. Berlin und Weimar 1972. S. 247–391.
4. Erb, Therese. Die Pointe in der Dichtung von Barock und Aufklaerung. Bonn 1929.
5. Hess, Peter. Epigramm. Stuttgart 1989.
6. Kurz, Josef. Die Epigrammatik im 17. Jahrhundert am Beispiel der Sinngedichte Friedrich von Logaus. Stuttgart 1981.
7. Levy, Richard. Martial und die deutsche Epigrammatik des siebzehnten Jahrhunderts (Diss.). Heidelberg, Stuttgart 1903.
8. Lindqvist, Axel. Die Motive und Tendenzen des deutschen Epigramms in 17. Jahrhundert // Pfohl, Gerhard (Hg.). Das Epigramm: Zur Geschichte einer inschriftlichen und litterarischen Gattung. Darmstadt 1969. S. 287–351.
9. Meid, Volker. Barocklyrik. Stuttgart 1986.
10. Pechel, Rudolf. Geschichte der Theorie des Epigramms von Scaliger bis zu Wernicke // Christian Wernickes Epigramme. Hrsg. und eingeleitet von Rudolf Pechel. Berlin 1909. S. 3–23.
11. Preisendanz, Wolfgang. Die Spruchform in der Lyrik des alten Goethe und ihre Vorgeschichte seit Opitz. (Diss.). Heidelberg 1950.
12. Urban, Erich. Owenus und die deutschen Epigrammatiker des XVII. Jahrhunderts. Berlin 1900.
13. Vossler, Karl. Das deutsche Madrigal: Geschichte seiner Entwickelung bis in die Mitte des XVIII. Jahrhunderts. Weimar 1898.
14. Weisz, Jutta. Das deutsche Epigramm des 17. Jahrhunderts. Stuttgart 1979.
Свидетельство о публикации №109112906453