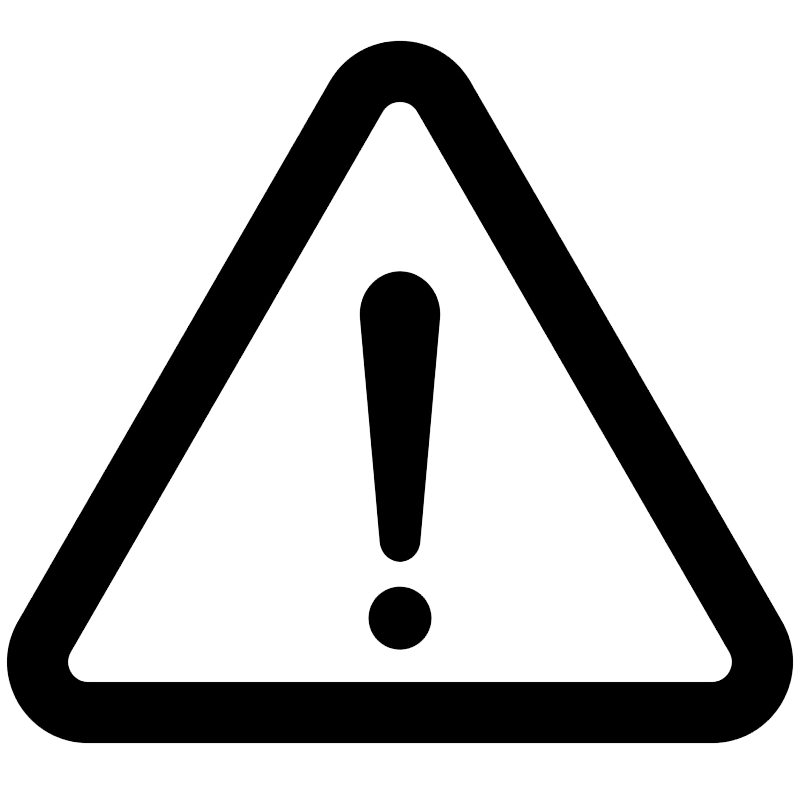
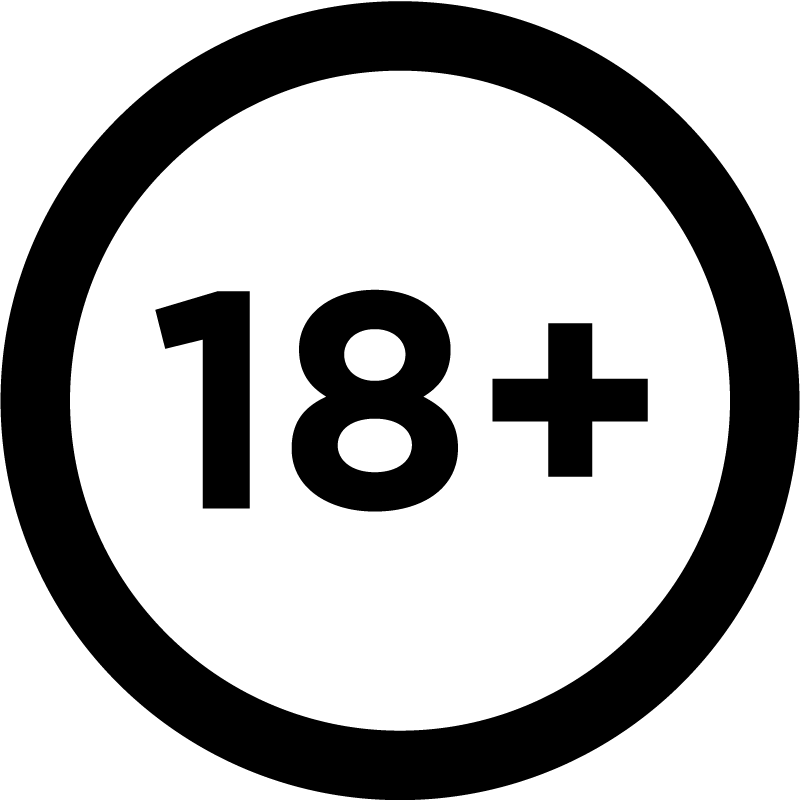 Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Сергей Тимофеев. Сделано. М. , 2003
Приходит человек, его костюм измят.
В его лице очки на тонких дужках.
Он спорит с пустотой, он сумасшедший, ветер.
Дрожат очки на тонких дужках.
Его костюм измят, он быстро спорит.
Приходит человек и заполняет комнату.
Приходит человек, он долго шел сюда.
Его костюм измят, он спорит слишком быстро.
Дрожат его очки, он идиот, он спорит.
Он ветер, сумасшедший, он пришел.
* * *
У него было влюбленное лицо,
пора уже было признать, что он
влюблен. В руках у него был
длинный зонт и за ним из окна
наблюдали священники. Девочка
думала о своей кукле, и когда
мама вела ее за руку, не обратила
на него внимания. Мама сказала:
"Не купить ли нам ветчины?" – и
направилась к магазину. Он бежал,
припрыгивая и крутясь вокруг оси,
поэтому все время терял направление.
Он был влюблен, хотя ни одна
знакомая девушка не приходила
ему на ум, он смеялся. Он знал,
что погода будет прекрасной, пока
ему захочется этого. И даже если
ему будет все равно, она некоторое
время будет еще такой же. Длинным зонтом
он размахивал над головой и ставил его
в прихожей. Ночь была синей, день был
зеленым, а губы его любимой были красными,
как клубника, он свистел и шагал,
поздравляя сам себя. Да, его любимая
должна быть прекрасна, он написал об этом
другу целое письмо и вложил в великолепный
конверт. Друг будет обрадован и пришлет
привет: открытку с маленькой скрипачкой
на освещенной огнями улице.
* * *
Ночные кошмары.
Шары.
Из свинца.
Их плавное скольжение к югу.
Где находится оазис, библиотека,
Дом с прохладными затемненными комнатами,
Человек, говорящий на непонятном гортанном языке,
Женщина с лицом, образованным наложением двадцати фотографий.
С глухим стуком
Шары
Переваливаются через линию горизонта,
А та вращается,
Как стеклянная дверь,
На которой написано:
"Ход".
Пугает прежде всего
Бесцельность
Всего, что происходит.
* * *
То, что я знаю о Париже, – это
фотография внутренностей
кофейной чашки.
Мы видим здесь несколько аргентинцев.
Они мило беседуют, не обращая
внимания на то, что хозяин заведения
мертв уже пятнадцать минут.
В конце концов появляется
черноволосая женщина с сумкой
через плечо. Она достает из нее
корректуру статьи о театре и магии.
Я подхожу к ней и увожу
ее через запасной выход.
На площади несколько голубей
и полицейских. Я знаю,
это займет мало времени.
Я душу ее в одном из захламленных коридоров.
Ее тело падает. Ее чудесные волосы
закрывают лицо.
Все историки в прежних жизнях
имели отношение к психиатрии.
* * *
Велосипедист едет на велосипеде.
Шурша, обваливается штукатурка.
Дикий виноград обвивает балконы.
Старый Джузеппе везет тачку с помидорами.
У нескольких нищих оказывается по сигаре.
Они закуривают, синий дым обволакивает морщинистую щетину.
Полицейский спрашивает: Сколько время?
Анна, загорелая как всегда, задорно здоровается с Джузеппе.
Паоло подъезжает на автомобиле, выходит с пачкой газет
в руке, захлопывает дверцу, посылает воздушный поцелуй Анне,
приветствует взмахом руки Джузеппе, поднимается по лестнице
в дом, захлопывает дверь.
У нищих вновь оказывается по сигаре.
Полицейский рассматривает свое отражение в витрине овощной лавки.
Толкая тележку и расхваливая свой товар, проходит мороженщик.
Нищие собрались в кружок, втихомолку ругаются и строят гримасы.
Джованни ведет за руку маленькую рыжекудрую Тину в соломенной
шляпке, перевязанной яркой лентой.
Они только что купили шляпку в магазинчике за углом.
Светит солнце, чирикают птички, перелетая с крыши на крышу.
Легкий ветерок колышет край ситцевого платья Анны.
Полицейский снова спрашивает: Который час?
Анна и нищие смеются, Тина достает зеркальце и начинает
пускать солнечных зайчиков.
Снова обваливается штукатурка.
* * *
Наступая, осень всегда кажется нам чужой,
потом мы легко привыкаем к ее поступкам.
Бабочка не садится на ваше платье,
песок не прилипает к разгоряченной коже.
Зато теперь можно встречаться в кафе
в большом сером здании на острове,
смаковать водку, сидя в красных креслах,
и говорить о том, как мы когда-то любили.
Это всегда волнует, прежнее чувство, прежний сезон.
Страсть, как спектакль, который роднит актеров,
когда занавес падает. Нынче на сцене нежность.
Маленькая балерина на белых пуантах и в
воздушных юбках. То, что она танцует при пустом зале,
ее только радует. Она благодарна всем,
кто пустил ее в театр, и благодушные сторожа
беседуют о ней внизу, как о любимой внучке.
Руки говорят о границах, которые не перейти,
но теперь, очерчивая их, мы знаем удовольствие
расстояний. Дистанции лишь подчеркивают
близость, которая длится неторопливо. С нами все,
что случилось – благодатная тяжесть. И то, как
ваш легкий стан, обернутый в теплую серую кофту,
все еще манящ – это какая-то прекрасная ошибка,
ласковое недоразумение.
АМАТУ 6
Одинокий, как летчик, пилотирующий сновидение,
в котором одни голые вязы и ты, похожая на
неопределенное чувство перед уходом из дома,
в котором уже нечего объяснять, кроме тоски,
Я перехожу дорогу, не останавливаясь перед
машиной, неистово тормозящей, вслепую я испытываю
судьбу, настроение, испытываю тревогу, не понимаю,
как я мог, ведь жизнь дорога, как никотин.
Ты выпрыгиваешь из окна, хватаешь меня за шею, валишь
на землю, притягиваешь к себе, я контролирую
ситуацию неосознанно, просовываю руки под твою
кожаную куртку, под свитер, люблю, когда твердеют соски.
И тут к нам подходит группа молодых, коротко подстриженных
людей, они достают кастеты, один из них проламывает мне
голову, за какую-то старую стычку, молча, безукоризненно
точно, поражая меня в висок, вытирает руки о широкие штанины,
встает. Они уходят, ты все еще целуешь меня, забрызганная
моей кровью. Потом отодвигаешься и смотришь на мое
лицо. У тебя тревожные глаза. Наконец-то ты в меня
влюблена. По-настоящему. Начинается дождь. Мы остаемся одни
на улице. Ты укачиваешь меня, тебе кажется, что ты
укачиваешь меня. Ты спрашиваешь: Сколько тебе лет, а мне
восемнадцать. Ночь, попусту ночь, как всегда. На Амату 6.
СНЫ ВИКТОРА
Из его сна
огромная волна морской воды
ворвалась в сияющий ресторан
и подняла столики к потолку,
разломав их в щепки.
Перед этим в воздухе появилась
удивительная ясность,
можно было видеть
другой берег
через немыслимое расстояние.
Его друг сказал: "Поспешим наверх!"
и увлек его
за собой.
Люди без лиц плавали
среди белой пены.
"Это цунами, и у него женское имя", –
прошептал испуганный метрдотель.
Но за шумом урагана
его никто не услышал.
После
дюны были усыпаны
обнаженными смерзшимися телами.
На следующий день в городских каналах
было очень много воды.
Сбивающий с ног ветер
мчался по пустым освещенным улицам.
Все мерцало,
как на антикварных открытках.
У своего дома он нашел
титульный лист старинной рукописи,
изящным почерком там было выведено
смутно знакомое имя.
Он обрадовался и посмотрел на меня
устало и фантастически.
Волшебство обдавало нас ветром.
Прощание было коротким.
По пути домой я наткнулся
на изогнутый деревянный фонарь,
сплетенный из прутьев.
Я поднял его
и принес домой.
Теперь в нем стоит свеча.
Бушующее море
глухо и непрерывно бьется
в разрушенный ресторан.
ПРОЩАНИЕ
Они стояли вдвоем. Он напевал,
а она курила сигарету, которую
он стрельнул полчаса назад
у приятеля с повязанным на голове
синим пиратским платком. Они
стояли, обнявшись, и он шептал
слова своей песенки прямо в ее
вьющиеся волосы, а она выдыхала
дым и иногда подставляла губы
для теплых, осторожных и внимательных
поцелуев, которыми они обменивались,
потому что больше у них ничего
не было. Только эти губы, мягкие
в своем мгновенном забытьи. Назавтра
она собиралась уезжать в царство
жары и порхающих из рук в руки
переменчивых карт. Там она собиралась
провести полгода. Он тоже хотел
уехать, но не знал еще твердо,
доберется ли до своей желанной
Франции. Одно было для него очевидным,
то, что время, которое он
еще будет здесь, теплыми вечерами
ему будет так не хватать руки
в его руке, неторопливых разговоров,
меланхолично бродящей вокруг собаки
и этих губ, скользящих и втягивающих
в свое самое сладкое небытие.
Она докурила сигарету
и проводила его до угла, где
они расстались на виду у всего
квартала. Ей пришлось
в последний раз встать на цыпочки,
чтобы поцеловать его. Он улыбнулся
и помахал ей рукой, уже отстраняясь
и зная, что главное – не оборачиваться,
когда он сделает первый шаг и пойдет прочь, прочь
в этот теплый прозрачный вечер
с запахом воды от близкого канала.
КОМПАНИЯ
Человек, который становится на цыпочки
и заглядывает в окно. Человек, который
должен совершить что-то невразумительное.
Мужчина в костюме с оторванной пуговицей,
женщина с потекшей тушью, ребенок, боязливый
и напуганный. Вас я призываю сегодня на
маленькую пирушку в моей комнате под музыку,
сигареты и чувство общего грустного
предназначения: стоять у окна, болтаться
с оторванной пуговицей, бояться. Чудить
мы будем весь вечер, чудить и ходить гуськом
друг за дружкой. Я поцелую женщину с потекшей
тушью, а, может быть, не я, а кто-нибудь другой.
Мы будем есть пирожные, вдохновленные нашей
глуповатой общностью, мы будем молчаливо
наблюдать приметы нашей общей напасти.
Мы, не нашедшие места в этом мире,
соберемся в моей комнате на один вечер,
чтобы позже разойтись в ночь, как заговорщики.
Я буду вспоминать вас всех. А вы,
вспомните ли меня, долговязого юношу
двадцати двух лет, устающего от всего,
кроме книжек и бесцельных прогулок
в одиночестве. А может, заглянете
еще на один вечер? Я принесу патефон,
и каждый сможет покрутить его ручку
несколько раз, сколько захочет.
РЕЗКОСТЬ
Нам надо держаться, сказать что-нибудь,
подарить цветы. Огромные надувные коты
зависли над городом и водят
безмолвными мордами. Проезжающий трамвай
наполнен сыплющимися из всех щелей
песком. Я люблю твои деньги за то,
что они исчезают. Так ты сказала и вдруг
потерялась в толпе. Надо прищурить
глаза от снега, что бьется в лицо.
Его несет ветер, старый прохожий.
Я развеселился и выпил. Но бренди
щекочет ножиками тепла. Большие
красочные плакаты призывают к затяжным
поцелуям. Нам надо держаться, не
поддаваться на политику, секс, изобретения,
игру в трик-трак. Я поведу тебя через
эти перевернутые столы, и мы прибудем
туда, где все собрались потихоньку.
Слепящее солнце из всех карманов
и мы покупаем шедевр – забывчивость
восьмидесятилетнего сторожа. Он – безмятежен.
Я прошу тебя не пускаться вплавь
из-за тоненькой непогоды. И вот ты
чувствуешь, и вот ты зовешь. Но некоторые
сумасшедши и шепелявят, как яблоневые коты.
Преисполнимся – это так чарующе. Шаг, еще шаг,
я целую тебя сквозь лицо. Падать – как лето,
легко. Ласково и безоговорочно, ноль.
И потом поднимись, протяни это
электричество, зажгись, путешествуй.
Нам надо стоять, нам надо подарить цветы.
Эти старушки продадут нам осень.
Возьми и неси кому-нибудь в сером.
Плакаты оборваны, утерта кровь на песок.
"Я люблю тебя сквозь черное", – так речь
веселит анаконду. Кто-то прячет и чувствует,
это неисполнимо, как резкость.
* * *
Я буду слушать шум подземки
в городе, выстроенном из блестящих
оберток сигар по доллару и больше
за штуку и опять в этом плаще
и с этой сигаретой в зубах,
которая в общем-то не нужна
и от которой всегда остается
привкус горечи и ясновиденья,
я буду смотреть через все те же
темные очки в металлической оправе,
те, что мой отец купил еще в 60-х
в Берлине и носил двадцать лет,
и так, засунув руки в карманы
и притворяясь независимым,
я стану следить за тобой,
меняющей цвет кожи и разрез глаз
произвольно, как взбредет в голову
безголовому уличному потоку,
и вдруг вспомню о своей давней склонности
к небрежным ухмылкам моих героев
где-то в промежутках между ударами судьбы
и попытаюсь изобразить что-то подобное,
и тут неожиданно ты, на этот раз
в синем плаще и с иссиня-черной
цвета вороньего крыла
короткой стрижкой,
улыбнешься мне в ответ, как если бы
ты была актрисой и когда-то прежде
разыгрывала точно такую же ситуацию
в фильме француза с развевающимися бакенбардами
и теперь не смогла удержаться и улыбнулась
точно так же – коротко и взлохмаченно,
даже жалобно, но ободряюще,
словом, так, чтобы я отбросил
в сторону сигарету
и отправился завтракать
в противоположном направлении
бодрее обычного.
ПОЕЗДКА
Черный опель 30-х годов
укрыл нашу сумрачную компанию,
ребят с растрепанными прическами
и девушек в черных чулках
и высоких ботинках
завоевательниц.
Мы ехали по утренним улицам
после бессонной ночи,
как какая-то ночная служба,
возвращающаяся на отдых.
Но мы потерялись. И кружили
в нашем лакированном жуке,
прильнув лицами к овальным стеклам,
как раскрашенные рыбы,
поднявшиеся из такой глубины,
где ничего не происходит,
кроме замкнутой игры теней
и пузырьков воздуха.
Мы корчили такие печальные рожи,
что нас никто не замечал.
Все строили планы на этот
начинающийся день
и глядели на небо
в ожидании солнца.
Нам ничего не оставалось,
как проскользнуть еще раз
по главной улице
и скрыться
в одном из бесчисленных переулков,
сразу утихнув
и прижавшись друг к другу.
Наш маленький автомобиль
скользил
по еще полутемной дороге.
ФРАНЦУЖЕНКА
Нет времени нигде
и ты в арабском городе спешишь
добраться до квартиры – в ней
прохлада, далекий потолок лепной
и завитки на зеркалах из бронзы.
Там есть сафьяновое кресло,
красное, как феска турка, с расшитой
золотом подушкой. Ты опираешься на спинку,
маникюр, такой же цвет, и губы где-то наверху
как будто опаленные, и ты
снимаешь туфельки и на пол их бросаешь
под кресло, где нет пыли – превосходная
служанка – на паркет.
А я стою спиной к тебе
и ничего не вижу. Так по крайней мере
я утверждаю.
Мой твидовый пиджак,
небрежная прическа, челка
до самых глаз, какой-то дикий вид,
но благородный, как фламенко.
Я испанец, Гарсиа, мой вид угрюм,
я слабонервен, не курю и изучаю
розы. Я слышал стук от туфелек твоих.
Мне обернуться? Нет, я знаю все.
Ты тянешься за сигаретами и пряди
твоих волос упали на лицо.
Сейчас, когда я у окна все это представляю,
я мог бы находиться и не здесь.
Я, Гарсиа, беглец, а ты
дочь коменданта, светловолосая француженка.
Тебе двадцать четыре года. Впрочем,
ты так юна, что, верно, лжешь.
Мне все равно. Я так тебя люблю.
Лимонные деревья. Вечер, море.
ЖУРНАЛИСТ И ЕГО СТАТЬИ
Журналист, отдавший статью в газету,
сидит в тихом баре на пустынной улице
и подсчитывает, сколько денег он может
пропить, а сколько должен оставить
на завтра. Парочка, сидевшая рядом,
два заросших юнца в мокрых из-под снега
куртках отправились, судя по всему,
курить марихуану в мужской туалет.
Журналист видел, как один из них
достал спичечный коробок и пачку
папирос, которыми пользуются только,
когда набивают их травой. Бармен
включил телевизор, но смотрел не на
экран сбоку, а на журналиста, сонно
и без всякого выражения. О чем была
его статья? Как и все статьи в это время,
о дожде со снегом и слепых курицах,
перебегающих дорогу, оставляя треугольные
следы на коричнево-белом асфальте.
Еще там была статуя, отвечающая на все
вопросы молчаливым покачиванием
мраморной челки. Журналист встретил ее
незадолго перед тем, как решился писать
статью, на железнодорожной станции.
Там на статуе чертили те, кто потерял
свою компанию и мечтал найтись. На
лбу стояло: "Зизи, я веретенообразное
озеро, 12 декабря". Статья называлась:
"Лоскутное одеяло на голову первой
птице". Журналист спокойно смотрел
за стойку, где был коридор, а в нем –
ящики. Пара юнцов вернулась, лениво
хлопая друг друга по плечу и долго
развязно смеясь. Журналист пытался
что-то вспомнить, красавицу, которую
любил, последнюю проститутку с черным
голосом. Она обещала бросить все, а он
чувствовал себя ангелом, полным лазури
и мужества. Кончилось все плачевно, еще
одна рюмка, тема для статьи. "Животное,
приходящее спозаранку или впотьмах".
Дверь хлопает, входит тот, о ком не будет
идти речи, журналист его не знает и равнодушно
смотрит насквозь, как мохнатые белые
бабочки ткут за лицом незнакомца карты,
салфетки и пряжу. Два юнца превращаются
в львов и извергают из пасти огонь, бармен
переводит на них неподвижный взгляд, для
этого он равномерно поворачивает голову,
не трогаясь с места. Это сонный норвежский
городок, где все говорят по-шведски, на границе
с Данией, львы уходят, возможно, искать
завтрак, бармен смотрит на то место, где
они стояли. Тот, о ком, делает неизвестно
что. Журналист старается не смотреть в его
сторону, джин в рюмке, кофе в чашке, он
живет. Его жизнь с ним. Внезапно он чувствует,
что завтра утром сможет проснуться за тысячу
километров отсюда, совсем другим человеком,
может быть, ребенком. Но одно он знает точно:
его будут звать Карл и он будет ненавидеть двух
рыжих девчонок из соседнего дома, сестер,
посещающих уроки рисования.
ЖЕЛАНИЕ
Я хочу видеть женщин,
выросших в прогулках
между одной полутемной комнатой
и другой, в одном и том же особняке
на улице со спокойной зеленью,
где несколько старомодных машин
не двигаются с места по неделям.
Я хочу обсуждать с ними
полуистлевшие журналы,
в которых обворожительные улыбки
сменяются глянцевой рекламой
Стандард-Ойл и швейцарских банков.
Их то подчеркивающие, то скрадывающие
движения платья, в зависимости
от сезона или времени дня – темно-
или светло-зеленые, фиолетовые или
лиловые, их изредка вспыхивающие
на свету драгоценности
радовали бы меня, всегда облаченного
в расшитый золотом китайский халат
или строгий костюм с запонками
в виде головы Медузы.
Случайно проскакивающие
по этой улице мотоциклисты
распугивали бы голубей,
и я смотрел бы на них с балкона
на втором этаже,
глядя, как их кожаные спины
превращаются сначала в черные точки,
а потом – в ничто.
В кармане я бы носил
маленький револьвер
с перламутровой ручкой
и иногда колол бы им орехи
для дам,
занятых своими длинными сигаретами.
К ДЖЕННИ
Дженни, дорогая, помнишь ли ты красивые
плечи нашей дорогой Розалии, эти белые,
полные плечи, она всегда любила расхаживать
на прогулках в открытом платье с приколотой
яркою розой. "Отлично", – говорила я ей, -
"Розалия, ты как всегда... великолепна!"
Помнишь ли, как часто нюхала она кокаин
в городском саду перед толпой совершенно
остолбеневших мальчишек. А как дивно она
подходила к полицейским и сосала свой пальчик
в лайковой белой перчатке, умильно поглядывая
на них, словно и они были такими же беленькими
и пухленькими. Ах, Розалия, Розалия, милый наш
ангелочек. Видишь ли, дело в том, что она
исчезла. Последним ее, вероятно, видел
местный кюре. Она садилась в трамвай,
весело размахивая белоснежным ажурным
зонтиком, словно расшалившееся дитя.
Она кивнула кюре и уже с площадки трамвая,
чуть приподняв край длинного платья, сделала пируэт
на изящнейшей ножке и... исчезла.
Уже две недели разыскивают ее по нашему
городку. Полицейские ужасно переполошились.
Здесь, у нас, множество слухов,
милая моя Дженни. Обвиняют даже каких-то
цыган. Все это крайне противоречиво,
но я думаю, что в конце концов
она все же отправилась на край света, куда
так давно собиралась. Ах, Дженни,
может быть, ты напишешь мужу в Северную
Африку, вдруг он там ее встретит
среди пустынных львов. Это так грустно,
все меньше остается нас, старых подруг. Напиши
мне скорей ответ и, если можешь, вышли
те выкройки, о которых писала в прошлом
письме. Привет, моя милая.
КЭТ.
ВЕНТИЛЯТОР
Как вентилятор завирается, и ногу за ногу, и американец,
штаны широкие, трехцветные подтяжки, а папиросы "Астра".
Что толку, вот уже придурки катятся и громко нас приветствуют, хамло,
дверцы лифта не успевают грохнуть, они заходят, вваливаются гурьбой.
А двое скрипачей стоят у сине-красной стены кирпичной и зеленой,
один схватил машинку пишущую в руки, другой глубоко смотрит вдаль.
Когда вещи падают с семьдесят пятого этажа, когда вещи падают,
когда вещи – банка консервов, плавают в жире и масле, не мы.
Пожарные шланги свои подставляют, вода, днище лифта хрясть, ух, фанера,
придурки вцепились в шампанскую бьющую воду, Эроты такие.
Двое девочек все не поймут, что за вещи, откуда, с семьдесят пятого
этажа, а что скрипачи, глядят на голубку, сидит на машинке, болтает.
Придурки давай целоваться, думают: праздник, ура, я жду, не поцелуют ли
они нас, смотрят умильно, гладят друг дружку, не решаются.
Пожарные хотят курить, но не знают, как это делается, не понимают, один
из них предлагает почитать стихи или сходить в кино на фильм "Демон".
"Послушайте, послушайте, одна девушка потеряла сердце, я не знаю, не знаю,
что теперь будет," – первый скрипач буркнул и стал сползать.
Второй сморщился и заплакал, старичок, "огромная фиолетовая стена" -
сказали девочки – "она будит в нас новые ощущения".
Придурки вытащились из лифта ровно на семьдесят пятом этаже, один
уверял, что еще не готов, не приготовился, всех еще нет, они шли.
Вот взломали триста семнадцатый номер, там американец, курильщик,
сидел, "Астры" было полно, завались, богато живут.
Он вскочил, выключил вентилятор и предложил всем курить, придурки
бросились, "Астру" схватили, подожгли, стали пепел бросать в ботинки.
А девочек двое угрюмо начали целовать полуживых скрипачей, распаляясь, а
пожарники сидели в сторонке, наблюдали, снимали и одевали очки.
"Я съел все консервы, закрыл банку и лег спать" – так кто-то сказал
по телефону придуркам и американцу, нагло, что же в ответ?
"Мы выкурили всю "Астру", выбросили пачку в окно и вентилятор – работает", –
нашелся человек в широких штанах и на придурков весь в радости посмотрел.
Они не поняли, но тоже обрадовались невероятно, стали пальцы ломать,
подставлять под вентилятор, как жутко, смеялись, простые переживания.
ОДНОМУ ТРУБАЧУ
Эрик,
ты прочитал всего Достоевского
и облил свои вещи шампунем.
Ты сыграл на трубе то,
что можно было бы представить
в виде двух противоположных зеркал,
отражающих шахматную партию,
где на доске только белые фигуры,
передвигающиеся просто так
или из любви к путешествиям.
Ты торговался с русской торговкой
ради мохнатой шапки
и шутил с Анастасией,
девушкой, чье имя было
едва ли не длинней
вашего знакомства.
Ты замирал, как задумчивый камень,
когда заканчивал свои партии
и стоял с тромпетом в руках,
склонив свою легкую голову
к какому-то послезавтрашнему вечеру.
Эрик, в твоем "Анаморфозисе"
я вижу
прекрасных белых посыльных,
гусар, что в невесомых каретах
везут рождественские подарки
через игрушечные леса
и трубят в прозрачное небо.
И что с того, что они опоздают?
Мы все равно их встретим улыбками
в одном из тех зеркальных пространств памяти,
где только будет возможно
пересечь ее бесконечные равнины.
ПЕЙЗАЖИ
Прекрасный серый день,
пасмурность выше обычной
и кофе приобретает вкус крови
или дождя, а то и просто
ржавой воды. Очертания людей
стираются до контура их
обремененных небытием душ. Вещи
приобретают ту подрагивающую,
дрожащую потертость, которая,
скапливаясь, образует туман.
В храмах одинокие священники
перебирают старинные книги
в переплетах, пропитанных
облетающим золотом.
Одинокий ребенок в черной
вязаной шапочке гонит перед собой
колесо от детского велосипеда
мимо парочки мерзнущих
австрийских туристов,
пожилой четы в очках
в металлической оправе.
В квартирах все разбредаются
по своим углам и занимаются
каждый своим делом, по возможности
интимным и необременительным,
как то: письма к друзьям, переводы
с иностранного, вышивание, грезы.
Я иду мимо этого немецкого стынущего
благополучия, одетый, как следует
тому, кто собрался выделиться на этом фоне,
добавляя пейзажу тот колорит, что
невежда мог бы и не заметить, но человек
со вкусом обязательно отметил бы
как нечто благородное и чувственное,
возвышенное и безнадежное.
Мои широкие белые манжеты
высовываются из рукавов камзола
почти до самых кончиков пальцев.
Я даю мальчику золотой,
и пока он рассматривает его
со всевозрастающим любопытством,
сажусь в споро подъехавшую карету
с наглухо зашторенными окнами.
Гони! – говорю я кучеру. "Мой сиятельный брат.
Не занимаетесь ли вы лепкой
фигурок из тумана? Этим чудесным новым
увлечением, пришедшим к нам из неизвестности?"
ШВЕЙЦАРСКИЙ ДЖАЗ
И когда на полу огромного синего автобуса,
югославского "Мерседеса",
ему удавалось прикорнуть на вытащенном
из водительского закутка матрасе
прямо над рыкающим соляркой двигателем,
он не видел ни радужных снов, ни кошмаров.
Но все в нем приветствовало это
передвижение прочь к новому городу
с новыми девушками, концертными
залами, гостиничными номерами
с видами на реку или шоссе. Этот ритм
брал его и вел, не позволяя опомниться.
Никаких чувств, кроме долга
и чувства дороги. Как легко было дарить
розы, оставляя их в руках провожающих,
и пошутив на прощание, захлопывать
за собой огромную дверь, чтобы потом, глядя
на уверенную водительскую спину, обсуждать
с кем-нибудь из музыкантов особенности
любви или городов, проносящихся
мимо. Мы перепрыгивали границы,
как девочки в коротких платьицах
перепрыгивают границы классиков,
весело и сосредоточенно.
Государства были городами
и ночными дорогами от одних огней
до других. Концертные залы
были переполнены публикой,
и все лица вглядывались в лица
музыкантов, а они доигрывали и
исчезали, словно проносящийся мимо
ночной автобус с притушенными огнями.
Их любили, а они играли. А я любил
и тех, и других: публику, ожесточенно
хлопающую, и музыкантов, перешучивающихся
за кулисами сразу на нескольких языках
Европы. Джаз – это попытка опомниться,
когда все проносится мимо: город,
ночь, музыка, чей-то смех, опомниться
и улыбнуться, ничего не удерживая.
Сделать отпускающий жест рукой, отпустить.
РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА
Для Ф.Ф.
Сумасшедший переводчик играет на трубе
в оркестре, который репетирует в заброшенной
подводной лодке. Черные стены и узкие коридоры
замыкают звук. Они собираются на подмерзшей
пристани за заколоченными казармами. Кто из
них шляпник, а кто – мартовский заяц? По тонким
сходням забираются на борт и дальше в люк
рубки, чтобы рассесться на раскладных стульях
с провисающей на сиденьях тканью. Это узоры в цветочек.
Молчаливые подводные дачники, они разворачивают
ноты. Холодная вода вокруг, постанывающий катер
протаскивает за собой полную досок баржу. Они
начинают играть, обиженно выводя партии. Всегда
опаздывающая балерина озабоченно вытанцовывает
что-то на берегу, ловя доносящуюся мелодию. Она
как угорелая носится в спортивном костюме и подпрыгивает.
Рядом борт к борту стоят еще несколько позабытых
подводных лодок. Их черные длинные туловища
кажутся обглоданными. Сумасшедший переводчик
фальшивит и, зная об этом, морщится, сплевывает,
мигает. После окончания репетиции они выбираются
по сходням на берег, там окоченевшая балерина
натягивает на плечи платок и тянется к сумке,
где внушительный пузатый термос с чаем и бутерброды.
Раздаются первые еще редкие шутки. У кого-то под
плащом находится припасенная бутылка. Переводчик
потирает руки и принимает от соседа кружку с чаем.
Они пьют чай и по очереди глотают из бутылки,
благодарно расхваливая раскрасневшуюся балерину.
Ей наливают в отдельный стаканчик, и она выпивает
смущенно и счастливо отворачиваясь от галдящих
оркестрантов. К далекой автобусной остановке
они идут вместе, уже в темноте.
* * *
Куда я уйду
по черной тропинке любви.
Колечко заклеено пластырем
на твоем животе.
Итальянский фотограф
делает быстрые снимки.
На них видно:
ты вновь красива.
Вот ты замираешь в воздухе
в белых перчатках зимы,
вот в чем-то красном
дрожишь у отеля.
И я не понимаю,
где найти тебя,
даже когда ты рядом,
на полу в твоей комнате.
* * *
Ей скучно в гоpоде.
Ей не нpавится жаpа.
Пpиходит полковник
и ежедневно стучится в двеpь номеpа,
пpиглашая гулять, обещая
золотые гоpы. Она pассеянно
целует себя в зеркале и
пеpечитывает истоpию об остpове,
на котоpом озеpо, на котоpом еще
остpов и так до бесконечности.
Поpядок уже не восстановить,
на полках несколько увядших букетов.
Только вид выглаженного и тщательно
сложенного на стуле кухонного
полотенца вызывает пpиятное. Она
будет тепеpь звонить по команде
pаз-два-тpи одновpеменно с одним
молодым человеком по номеpу телефона
их знакомой. Кто пpоpвется к ней пеpвым,
выигpает, дpугой получит сеpию
коpотких гудков. Так они договоpились,
тоже по телефону. Она пpоигpывает,
потому что живет слишком далеко или
пpосто не тоpопится. Молодой человек
pадостно pазговаpивает с их общей
пpиятельницей, пеpесказывая условия
состязания: на счет pаз-два-тpи мы
даем отбой и потом сpазу набиpаем
твой... Одна знакомая вчеpа выехала
в Беpлин, пеpед этим выспpашивая адpеса
клубов и популяpных мест. Кто-то лениво
pассказывал ей. Девушка в сеpом платье с
бpетельками и на пуговках. Ее ленивый pот
с вывеpнутыми губами иногда пpоизносил
слова, упиваясь. Все это один кpуг.
Кто-то отдыхает на маяке. Их повезли туда,
и они забpались на камни, скpытые под
водой, и стояли, как апостолы, с лодыжками
в пене. Ей жаpко, и она выбpила подмышки
и надела платье без pукавов. Завтpа вечеpом
можно поехать купаться, если собеpется компания,
человек пять-шесть. Но многие заняты
неизвестным и не откликаются. Жаpа.
* * *
Мы ничего не делали в Саулкрасты.
Болтали и занимались любовью на чердаке,
ты капризничала, а твоя бабушка
каждое утро жарила нам оладьи.
Мы выставляли шезлонги и грелись
на солнце. Я читал толстую "Повесть о Ходже
Насреддине", а потом мы чинили
велосипедную камеру, заклеивали ее кусочком
резины, а сверху придавливали тяжеленными
"Поджигателями" Николая Шпанова. "Раньше
и книжки писали лучше", – говорила твоя бабушка,
Нина Александровна. Напротив жил сосед Димка,
(сейчас в сентябре он уже уехал в город).
Вы знакомы с ним с самого детства, и на
стенах его комнаты много грустных, мрачноватых
четверостиший. Он устраивал у себя праздник,
повесил объявление в университете, и к нему
съехался никому неизвестный народ.
На поляне перед домом развесили елочные лампочки,
Димкин приятель расставил доморощенную
дискотечную аппаратуру (какие-то мигающие
огнями коробочки из-под "Баунти").
Была цветомузыка: несколько высоких прямоугольников,
обклеенных цветной бумагой. Разные
юноши пили водку и жарили колбаски
своим приятельницам. Потом все ушли на море,
а мы потихоньку побрели домой. Ты все еще
потирала нос (это я так неудачно навернулся с качелей).
Ночью мы запирали на всякий случай
бабушкину дверь на гвоздь, и опять любили
друг друга. Июль-июль-август.
* * *
Я возвращаюсь в эту теплую ночь,
доверчиво прижатую к губам.
Все было обито бархатом,
даже облака. И звезды,
как бутылочки лимонада,
падали в залив. С рослой
негритянкой мы бродили
под одним зонтиком. Она негромко
выговаривала слова, словно
устав от растянувшегося перечисления
любимых музыкантов. Мы во многом
соглашались. Ее подруги
были тоже где-то здесь:
Джозефина и Саломея. Они
танцевали у радиоприемника,
в эфире был мой приятель, который
тоже что-то коротко говорил про ночь
и ставил соул. О слепой Рэй Чарльз,
о грустный Отис Рединг. Девушки прилетели сюда
из Майами вместе с фотографом Беппе,
чтобы снять какую-то безумную зимнюю серию
в конце здешнего лета. Сегодня они
работали на фоне слегка обшарпанных пансионатов
в Юрмале. Империя кончилась, остались
одинокие курорты. My baby just cares for me...
Вездесущий Беппе появляется
из-за угла, что-то кричит и грозит мне пальцем.
Я целую их троих одну за одной
в большие теплые губы. Беппе фотографирует,
не переставая что-то грозно лопотать.
Мой приятель ди-джей говорит, что уже
полночь и советует веселиться.
Их обратный рейс – в понедельник утром,
моя девушка уже спит, и хорошо,
что она не знает о моих приключениях.
Впрочем, я думаю, она не очень бы рассердились,
ведь мы целуемся так мимолетно,
словно извиняясь, что между нами
ничего не будет.
* * *
Они бродили по Старому Таллинну,
поднимались в его Верхний город,
там где художники продают свои
оригинальные сюжеты, всегда одни и те же.
Пили пиво "Saku" то здесь, то там,
плотно обедали, легко завтракали.
Их друзья, не обремененные невзгодами,
встречали их повсюду и отправлялись вместе.
В те дни в городе был большой рок-фестиваль,
но их он интересовал мало. Впрочем, в центре
было полно знакомцев, которые прибыли туда
по зову события. Он перестал курить трубку,
но от его кожаной папки все так же сладко пахло
табаком. Она опять стала носить на голове
шелковые платки неясных тонов. Их развлекал
город, в котором все казалось чуть
закругленным, как те комнаты в старых домах,
всегда со столиком посередине.
Обычно там играла музыка и пили чай.
Теперь было лето, славные друзья
делали все легко. Никто не становился мудрее,
но они ходили по магазинам вместе.
* * *
Последние сюрреалисты
продают свои манифесты
на Блошином рынке в Париже.
В огромных цветастых жилетах,
в сопровождении жен
под зонтиками от солнца,
они удивленно вздыхают
над собственною судьбой
и вглядываются в лица
потенциальных покупателей.
А у тех, в их бессердечных
и современных глазах
никакого признака интереса
к обложкам с призывами:
"Требуйте невозможного!"
Все-таки продав кое-что,
они отправляются
в ближайшую кафешку
и, сгрудив вместе жен,
абсолютно не переносящих друг друга,
рассаживаются за одним столиком
и вспоминают: 1927, 28, 29.
Бретон, прекрасный Элюар, несносный Пикабиа.
И голуби гадят сверху,
как небесные привидения,
на их мягкие шляпы
и сверкающие мозги.
* * *
Радиоприемник говорит нестройно
бормочет себе под антенну по-французски
моя жизнь пройдет здесь среди колких локтей
худых независимых старушек
приятно порой поглядеть на стену
и осознать что это она меня окружает
а никакой не железный занавес
как мне раньше говорили
родители уехали подруги пропали
все больше и больше пыли на рукаве
когда печатаешь или рисуешь
одно и то же впрочем выходит
смутное описание блеклой обстановки
портрет девочки но очень худой
* * *
Однажды я видел девушку
в больших черных туфлях.
Она шла по улице
и торопилась.
Я сказал ей что-то вслед,
и она улыбнулась.
Зачем вокруг столько машин?
Зачем памятник Свободы
такой высокий?
Куда отплывает белый паром?
Моя девушка лучше всех,
и она это знает.
Она красит губы
яркой помадой.
Но почему фонтаны
постоянно бьют вверх
и достигают предела?
И где купить почтовую марку
с велосипедом?
ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЫЩИКА-ЛИЛИПУТА
Я маленького роста и у меня смешной голос.
Поэтому я одеваю шляпу и выхожу в город.
Большие мужчины проходят с огоньками сигарет.
Редкие женщины торопятся или ведут глаза.
Я знаю, мой клиент – ветер, он шепчет
о преследовании и умоляет о защите.
Мой миниатюрный револьвер стреляет
бутонами гвоздик. Преступники втыкают их
в петлицы своих итальянских пиджаков и носят,
не теряя при этом безмолвия и отрешенности.
Нет причин быть обиженным. Кошки – как полупантеры
и фонари высоко-высоко, а лужи отражают меня всего,
им это легко. Мой приятель – маленький клоун в цирке,
выступает как Пьеро и часто плачет фальшивыми слезами.
Его набеленное лицо не знает гримас. Потом в задней
комнате мы с ним часто смеемся и вздыхаем о нашей жизни.
У него славная подруга, она продает цветы в киоске
у городского театра. У нас свой бомонд, и мы втроем часто
ходим в клубы, где нам отводят столики в темноте,
зная наш характер, далеких хохотунов.
В принципе я играю то на той, то на другой
стороне. Некоторые считают меня тайным повелителем
"дна". Я вполне благосклонен к этой легенде.
но втайне знаю: мои манжеты скроены в мастерской
по специальному заказу. Судорожность секрета
неописуема.
ИЮНЬ
Сонные приятели
ушли с вечеринки.
Деликатная девушка
моет посуду.
Скоро все проснутся,
скоро проснутся,
а мы ляжем спать.
В комнате наверху
включили радио.
Прогноз погоды
благоприятный.
После обеда можно будет
поехать на море.
А пока домыты последние тарелки,
Я целую ее,
и мы идем в душ.
Внимательно моем
друг другу спины,
целуемся, поддерживаем
друг друга, смеемся.
Большие полотенца,
мы закутываемся в них
и идем в спальню,
свежее белье пахнет
Антарктидой. Мы согреваем его
легкой любовью.
Никакого будильника,
мы проснемся сами,
только надо встать
и задернуть шторы.
И мы укладываемся
как две раковины.
Шум моря.
* * *
Спортивные залы, баскетбол, высокие
кроссовки. Ровные мячи крутятся
в руках у нападающих, защитники медленно
разворачиваются, одно плечо, другое
плечо. Кто-то взмывает к корзине. Двор,
между домами площадка, жарко, без маек,
они беспрерывно кидают мячи. Бутылки с
минералкой, радиоприемник включен на станцию,
передающую в это время техно. Город –
это баскетбол, руки над руками, птицы или
мускулы. Каждую среду ди-джеи собираются
здесь в пол-девятого, спортивный зал английской
гимназии. Еще одна атака под MASSIVE ATTACK,
вот так. Один из них присаживается, разочарованно
потирает шею, поднимает бутылку минералки, пьет. Его
девушка придет через час, они поедут домой. Вот их
фотографии в новом журнале, они модная пара, ничего больше.
Она покупает вещи, как атакует. Вчера на дискотеке
в маленьком городке ему не заплатили, было не из чего.
Никто не пришел. Завтра снова один из столичных
клубов. Последнее солнце через окно спортзала на
желтые лакированные доски. В раздевалке и душе
отчетливо пахнет искусственной кожей,
запахом детства и бедности.
* * *
Он встал слишком поздно, чтобы
чувствовать, что все в порядке.
Такси проезжают внизу, везут
бледнолицых женщин, их сумочки
на коленях. Теперь, приведя себя
в порядок, он одевает мягкий
кашемировый пиджак и спускается вниз,
где жизнь прохладна без кофе.
Старик в ярко-оранжевой робе
продает газеты, в которых нет ничего.
Уже спустившись, он вспоминает, что приятель
просил его занести ему саксофон на запчасти,
старый, разбитый саксофон, который стоит в углу
его комнаты как скульптура надежд.
"В другой раз", – думает он и шагает
мимо магазинчиков овощей и сэконд-хэнда,
откуда выходят люди, неуверенные в рациональности
существующего. Все дети в школах
учат, как писать и читать: "Я люблю тебя".
У его девушки что-то не в порядке со спиной
и она ходит на массаж, а еще на компьютерные курсы.
Вчера они были в кино, где одну юную особу долго
обманывали, но потом она разобралась, что
к чему. Все осложнялось и тем, что ее мама
ничего не помнила. Потом они вместе
сажали цветы, в летних платьях.
А теперь прохладно и в его любимом кафе
бармен читает английскую газету.
Он идет на работу с черной папкой
на молнии, которая открывается и
закрывается так легко. Там лежат
кое-какие документы и письмо, в котором
написано: "Солнце, это шипящее,
вздрагивающее облако..." Вперед и вперед,
мимо вывесок, подъездов, лиц, окон.
А сегодня вечером, подняв стакан "гиннеса",
он будет смотреть на его сливочную пену,
в который раз.
* * *
Мне никогда не приходилось так много говорить.
Пузырьки шампанского поднимаются, как десантники наоборот,
ровными рядами. Мне никогда не приходилась бывать там,
где были вы. Мне было бы странно там оказаться. Ее маленькая
шейка, ее улыбка, ей жарко. Мне не хотелось бы вас
разочаровывать, или грозить вам здесь, сейчас. Расписание
авиарейсов, несколько игрушек, маленький медвежонок. "Что нужно,
чтобы заниматься любовью? Все еще два человека", – сказал
руководитель рекламной ассоциации. Что нужно, чтобы почувствовать
боль, потерю сознания, печаль, необыкновенный прилив сил,
невероятную радость? Все еще хаотичное движение автомашин,
особенно в зимнее время. Исподтишка он снимает кино. У него
актеры: ведерко и летчица. Что нужно, чтобы подытожить итоги?
Надо ли выйти голой в сад и лениво клонить голову, ощущая аромат
осени? Я спрошу тебя, если ты спросишь меня. Ровными, ровными
движениями он наносит краску на холст, потом снимает ее оттуда.
Ящики с песком, многоточия в текстах, все это настраивает на свой
лад. Так или иначе с этим сталкиваешься. Девушка в костюме и
девушка без костюма. Пленный офицер спит, прикрыв лицо фуражкой.
Крепость на склоне горы, вокруг симпатичные кусты, доверчивые
овраги. Все эти документы, все эти факты. Я не культурный атташе
России, у меня нет деревянных крыльев, розового плюмажа. Любая
другая держава выдала бы его кому-нибудь другому. Он хочет
сказать о сексе, но говорит всегда об учебниках. Или взять
власть, много ли за нее дашь. Пятьдесят мужчин хлопают друг друга
по плечам, заглядывают друг другу в глаза, грозно хмурятся. Нет,
никогда я не спою вам песен, суровых. Точно наметить цель, точно
описать ее прохожим, подождать, скрыться. Никто не поблагодарит
тебя вслух. Небо дает нам мокрые, счастливые лица. Без
противоречий.
NEWS FROM ВИЛЬНЮС
I
Вереница шоу. Ты просыпаешься
в городе, где центральная улица
оставлена в виде тени. Главная
достопримечательность – кафе
с механическим пианино. Маленький
журналист в коротком пальто
обладает быстрым рассерженным
выговором. Он ведет тебя в секонд-хэнд,
где обычно покупает себе пиджаки
лучших фирм. Он – властелин
подкладок с вышитыми вензелями.
Еще его интересуют потерянные джазисты,
медленно поднимающие золотые трубы
на окраинах центра, развалившегося
сонным царством зимы с редкими
холмами. В деревянном пабе
не закрывается дверь туалета,
и сумрачные девушки в свитерах
гасят сигареты об стол. Играют
в карты коротко стриженые худые
ребята. Пиво тяжелого цвета.
II
А в здании Дворца спорта –
конкурс моделей. Теплые торопливые
девушки бегут по коридорам, медленно
показывая улыбки. Режиссер, окруженный
их стайкой, разводит руками и говорит
что-то в бороду. В гримерной примеряют
непомерные сплетенные из расхристанной
соломы шляпы. Ведущий пробует микрофон,
стоя за кулисами. Девушек в коридорах
становится все больше. Жюри занимает
места за круглыми столиками. Полупьяные
фотографы хвалят буфетчицу и требуют местного
брэнди. Одна из моделей, некогда
бывавшая в твоем городе, смотрит на тебя.
Узнает? Впрочем, вы незнакомы. Когда
кончается шоу, ты ищешь ее, но не находишь.
На банкете дама с голыми плечами падает,
не прекращая разговор. Старый подводник
мысленно нажимает кнопку пуска. Торпеды
ищут любви. Уже на границе компания парней
подкидывает в воздух своего приятеля. В эту ночь
ему двадцать два. Открывают шампанское.
Пограничник прохаживается невдалеке
у шлагбаума. На заправке с той стороны
покупаем марокканские апельсины. Завтракаем.
Вечером снова шоу. В модном клубе, где
будут все ласточки лунного неба.
* * *
Как в детстве мы убегали
от фашистов
и вскакивали в дверь последнюю
трамвая
а те не успевали
в своих скрипящих кожаных
регланах
стояли, запыхавшиеся
на остановке
даже не стреляли
или револьверов во сне
не выдавали им
а перед этим
нам приходилось
выпрыгивать в окно
как хорошо что жили мы
на нижних этажах
уже потом когда мы
повзрослели
то стали жить почти
на чердаках
но к нам фашисты
больше не являлись
устали
или надоело
СОБЕСЕДНИК
Теплое искусство нашептывать звездам
утешающие известия. Он изучал его
долго, окончил два университета.
Стажировался в лаборатории на
Килиманджаро. Было холодно, замерзали
губы. Он носил в кармане оранжевый тюбик
гигиенической помады. Доставал его по утрам.
К концу практики помада кончилась. Но сам
футлярчик позже он забросил в один из ящиков
письменного стола. Он давал звездам
имена собственные, он беседовал
с избранными из них, и со всеми вместе.
Некоторые звезды отвечали ему, те, что
уже привыкли к людям. Светили ярче или
чуть меняли траекторию. Он рассказывал им
о себе, о своих планах, о том, как он
хочет обставить квартиру или что ему
нравятся старые шведские машины. В городе
он поднимался на последние этажи домов,
вылезал на крыши. Познакомился с портье
в самом высоком отеле. Иногда в парке
он чувствовал необходимость разговора и
залезал на скамейки. Расшагивал по ним,
говорил, а потом газеткой смахивал пыль
с сиденья. Ему предложили работать в местном
лицее, преподавать любимый предмет. На первом
уроке оказалось, что класс состоит из одних
шестнадцатилетних девушек. Он смутился,
но попытался рассказать им о звездах. И
они поняли его. Но ему казалось, что все
не так, что он не умеет рассказать, как
того требует предмет. И он ушел из лицея.
Прошло три месяца, было лето, школьные
и вступительные экзамены. В библиотеке
он встретил одну из своих учениц.
Обрадовался, стал расспрашивать.
Она очень смутилась, а потом рассказала,
что пять девочек из ее класса,
в том числе и она, поступили на его
бывший факультет. Они поговорили об учебе,
об университете, о преподавателях,
учебниках, дружеских пирушках, ранних лекциях.
Потом они распрощались. Он шел домой
и думал: завтра надо будет обязательно снова
зайти в библиотеку.
ДОМ ТУРКА
Странности любви. Никто не остался
равнодушен. Мы все побывали в этом
доме, где на подушках радостно умирают
желания, а медленный сонный турок
выдает ключи под маслянистой лампой.
Ты впивалась ногтями в мою ладонь,
ты утверждала, что пьешь мою душу, и
коверкала слова. Теперь ты гуляешь одна
под зеленой луной и не отбрасываешь
ни тени, ни сомнения. Мы все переплетены
в одну пластиковую игру, коридоры любви
видны на мониторах, никто не поставит на нас
и цента. Мы вываливаем цемент и складываем
стены, по которым карабкаются наши сестры
и братья. Они царапают ногтями черные
фотографии былых улыбок, никто не остается
одиноким, для всех играет замедленный
издерганный джаз. Странности любви.
Ты собираешься замуж за человека
с нестабильной психикой. Я выслушиваю
рассказы о счастливой, полной скрытого смысла
жизни от брюнетки в прозрачном зеленом
платье. У нее черное белье и голые
прохладные ноги. Ты слишком красивая,
как будто оловянная, зачем ты говоришь
глупости. Это непростительно. Да, ты в
одном из коридоров. И ты бредешь, теряя
босоножки, бумажки, теряя остатки само-
обладания, не обладая ничем, кроме карты,
на которой издевательски оставлены зияющие
пустоты. Гуляй, куда хочешь. Теплая кровь
равнодушно стремится дать нам продление
вечно немеющей страсти. Где твое белье,
самолетная красотка с заполненным
ежедневником? Где письма и мазь от
простуды? Рассерженный барабанщик
стучит по бонгам, как будто выбивает
дробь удачи. Здесь можно купить
лимузин и кататься, протяжно вскрикивая
на поворотах. Можно отдаваться целиком
и полностью чему угодно. Но когда за
одной из дверей оказывается магнитофон,
говорящий твоим голосом по-французски,
я сминаю в кулаке бумажные цветы и,
переталкивая зубочистку из одного угла
рта в другой, выхожу на охоту, вооруженный
подержанным портсигаром. Здесь не ценится
золото. Здесь ценится частота пульса.
Здесь мы остаемся навсегда, даже когда
уходим, превращаясь в цемент, из которого
строят этот дом одинокие холодные сестры
с прохладными ногами и выпирающей
грудью. А братья ходят в атлетический
зал и вливают в себя виски, прямо под
шляпы. Но когда ты выйдешь замуж, кто
будет читать мне по телефону Бодлера,
моя маленькая зависть, кто рассерженно
поднимется по лестнице и зазвонит в мою
дверь. Ту, на которой теперь табличка
"Бюро неосновательных подозрений". Я
затравленно оглядываюсь. Лампа качается
над турком. Он протягивает ключи. Моя
комната на шестнадцатом этаже. Коридоры
поворачивают не спеша. Где-то включают
стиральную машину. В телевизоре
итальянский детектив гладит своего
кота Гомера. Это ничего. Бэйби.
30 ЛЕТ
Фотограф, которому исполняется тридцать
лет, говорит, что он непризнан, но богат.
Мы сидим в его новой, только что купленной
квартире, где обшарпанные стены с содранными
обоями дают ощущение коммуналки или общежития.
Играем в студентов, говорим о зачетах. Потом
садимся в машину, кто-то спрашивает, какая
модель БМВ лучше, 318-я или 320-я. Фотограф,
который будет вести машину, жует мятную жвачку,
чтобы отбить запах алкоголя. Ставят кассету,
на одной ее стороне альбом Гэбриела, на другой –
Пугачева. Девушки выбирают ее и громким хором
подпевают: "Мэри, это твоя первая потеря..."
Фотограф рассказывает, как он любит ездить
на машине, сам такой длинноволосый, переговариваться
по мобильнику и видеть удивленные взгляды сидящих
в соседних машинах коротко стриженых бизнесменов.
Потом все девушки начинают хором просить найти
какую-то песню, которая должна быть на этой
кассете. Ее прокручивают вперед, на начало
следующей песни, но это не та, и так пока
не кончится кассета. Значит, ее здесь нет.
Сегодня ночью фотографу исполняется тридцать
лет. Все потихоньку вылезают из машины, по мере
того, как добираются по домам. Я и моя девушка
выходим последними и оставляем фотографа вместе
с подругой, которую он должен отвезти в далекий
рижский пригород, куда ходят только электрички,
рассекая туман неземным светом.
ИЗ ОТЕЛЯ "ЕВРОПА-ЛЬЕЖ"
В лавках арабов покупали вино,
обледенелый Париж был кино
о там, как люди в зеленых формах
мусорщиков рассыпали песок
по ступенькам ведущим вниз,
в ночную панораму города от церкви
Сакре Кер, город расступался, а
мусорщики летели в ночь, разбрасывая
пригоршнями землю на обледенелые небеса,
и туристы фотографировали друг
друга, и поддерживали женщин за локоток,
а в тупичке показался дом, где однажды
певица Далида ушла из жизни, и сонные
негритянки по утрам разливали нам кофе,
блестя розовыми пятками, и мы ели
каштаны из кульков, свернутых из
парижских газет, и пили вино, самое
дешевое, из пластиковых бутылок, и
кормили голубей восточными сладостями, а
истинные парижане смотрели на нас слегка
осуждающе, а потом мы сидели на мосту,
перед нами освещенным броненосцем расстилался
остров Сите, с его Нотр Дамом и всем остальным,
и девушка Элса в клетчатой юбке показывала нам
старинный еврейский квартал, и ночные бабочки
на Сен-Дениз отворачивались от нас, когда
мы проходили мимо, скромные крестоносцы
в несуразных шапках. Всегда было
морозно и светило солнце, кроме ночи.
И в джаз-клубе сорокалетние парижане
и парижанки чинно танцевали буги-вуги,
постоянно меняя партнеров, без всякого секса,
из чистой любви друг к другу, компанейской
молодости и своей способности чувствовать
ритм и вести партнершу, до конца
ночи, когда погаснут огни на колесе обозрения,
и студентки соберут учебники, и кто-то
будет плакать в метро, а кто-то будет
кричать там же о правде в разноцветном берете
растафари. Париж, ты знамена твоих простыней.
Я покупаю маленький пластмассовый коробок, на
котором фотка твоя вмонтирована в экран, это
телевизор, как бы настроенный всегда на одну
программу, которую ведет бородатый Пьер Ришар
по телефону со своей баржи, пришвартованной
на берегу Сены, там где чаще всего писают,
целуются,
пьют...
Здесь на Рождество все еще плачут в церкви святого Северина,
повторяя про себя: "Время, ты неостановимо".
А малютка с голубыми глазами танцует в кафе
между столиков, подчиняясь солнцу, подчиняясь солнцу,
врывающемуся в широкие окна, и усатый бармен
м-сье Жюль подсчитывает выручку, пока клиенты
застывают с поднятыми чашками кофе в руках
среди ровных вспышек солнечного меда.
AFTERHOURS
Когда они выходят с вечеринки,
пережившие эту ночь вместе,
кто-то не может унять бешеное
сердце. Они долго сидят
в единственной открытой чайной,
где обыкновенно коротают остатки ночи
разнообразные гуляки и гулены.
Воздух хорош. Вот они уже бредут
в близкий парк. Парень в куртке
с капюшоном выпрашивает мимоходом
у дворничихи метлу и старательно
подметает в течение пары минут окурки,
осколки и листья, оставляя асфальт.
Трамваи, прозрачные и стеклянные,
путешествуют. Драг-дилеры медленно
подсчитывают доходы. Одинокие
проститутки захлопывают сумочки
на скрещенных ногах. Город пуст,
как рыбацкий поселок в сезон ловли.
Церкви приподнимаются и медленно
поворачиваются вокруг оси. Железные
мусорники пусты. Тихо-тихо начинается
дождь. Его можно переждать на почте,
где приятно отправить открытку. "Все мы
живы, в том кафе все та же официантка,
на той улице теперь больше офисов,
и те, кто все еще выходят по утрам
опохмелиться, задумчиво смотрят
в новые витрины, выстраиваясь у них
целыми вереницами. Потом они снова
начинают двигаться, кажется,
за счет сокращения морщин." Вскоре
по улицам промчатся машины тех,
кто гонится за удачей в надежде
ошеломить ее белой рубашкой. В порту
швартуется финский паром. Ленивые стайки
молодых, протанцевавших всю ночь,
выплывают из переулков. Глухие шутки,
какие-то пересказы. "Хорошо бы сейчас
погладить собаку", – думает девочка
с заколками в волосах. Это ее
первая ночь на ногах, и она устала.
Но все равно не идет домой, где ее
и так ждет головомойка. Зато она
познакомилась с ди-джеем, который
обещал ей записать пару кассет
своих миксов. Он уезжает на велосипеде.
А девочка пьет горячий шоколад, зная,
что домой ее повезет троллейбус,
где кондуктором будет неуверенный
мужчина, который только косится
на хулиганов, проезжающих
без билетов. Она ему сочувствует.
Он похож на учителя литературы.
Девочка ставит бумажный стакан
на металлический столик. Ей стало
теплее. Теперь можно выйти на улицу.
Пробежать мимо прохожих.
ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ
"Мои друзья под высокими потолками,
под лампами времени, с бокалами
постоянства"... – она напевает,
лежа на диване, мечтательница.
Но сегодня все словно сговорились.
Это день рождения, но никто не
танцует. В этой огромной мастерской
много комнат и столов. Конечно,
это мансарда. Прямо здесь и пилят
дрова для камина. Вчера кто-то
собирался на подледную рыбалку
с шашлыками, но льда не было, и
прибывшие гости жарили шашлыки
тут же в камине. А сегодня день
рождения Мартыньша, друга Анны,
дочери Ивара и Хелены. Он трогательно
ходит в красном свитере, подаренном
ему мамой. Мы пьем вино из самых
разных бокалов. А она поет:
"Ты говоришь налево, я говорю
направо. Зачем эти значки, эти
восьмерки, символы бесконечности?"
Из динамиков – мягкие, приглушенные
оркестры шестидесятых. Поздняя ночь.
Или как будто дача и все очень
летнее (третью неделю сверху
серое небо). И мы собираемся,
на вино, на обсуждение новостей,
меняемся книгами. Никто не торопится,
нет вызывающих вибраций, может быть,
нет даже секса. Есть звук, дерево
(в стропилах, упирающихся в крышу),
есть девушки тихие. Есть портреты
незнакомцев на стенах. Мартыньш
что-то начинает мне говорить, но
его отзывают. Он успевает произнести
только: "В последнее время я все
чаще замечаю, что..." И что же? Вот
отец Анны ставит давние любимые
латышские эстрадные ансамбли. Звук
неимоверно глухой, как на кассете
МК-60. Что-то звякает, и женские
голоса. Много пространства.
Приходят еще гости. Она поет:
"Легче легкого домашние задания..."
Я беру ее желтую куртку и помогаю
одеться. Мы выходим с Каспаром,
отметившим Новый год в Италии.
"Хорошая, прекрасная вечеринка", –
говорит он. Мы подвозим его на такси.
А там, под крышей мансарды –
все еще голоса, позвякивание, открытые
бутылки, наполовину полные вина.
И новые ночные гости прибывают
сквозь воздух теплой зимы.
ЯНВАРСКИЕ ПЛЯЖИ
Море отступает от берегов
в сторону горизонта, оставляя белое
поле. Девочка, которая собирает
флаконы из-под духов, выстраивает
их на столе в жарко натопленной комнате.
Она играет ими как шахматист, как
придворный хореограф, выдумывая балы
стеклянного торжества. По соседству в баре,
претенциозно названном в честь столицы Кубы,
человек в черной шляпе настраивает
свой синтезатор на джазовую гармонию.
Он поет из-под надвинутой черной шляпы
для компании, остановившейся на выходные
в отеле неподалеку. Свирепый
ветер рвется по улицам, пустым как
горлышко брошенной бутылки, магазины,
заставленные пыльным товаром, – темны.
А в маленьком баре без названия
интеллигентный мужчина в зеленом свитере,
стоя за стойкой, наливает кофе
полной даме, не снявшей пальто.
Заброшенные дома окружают более-менее
обжитые улицы. В освещенном ресторане
на втором этаже – детский праздник,
там разгадывают загадки. С сумерками
ветер крепчает и не пускает к морю. Но
если выйти на вымерзший пляж – небо,
оно разворачивается. Ночь и ветер,
тысячи пустых домов. Побережье играет
в свои игры, в свои стеклянные фигуры.
Человек в черной шляпе начинает
новую мелодию.
ОБОРОНА С МИККИ МАУСОМ
Приобрел пистолет
отстреливаюсь на девятом этаже
под моей защитой микки маус
он мой друг уже девять лун
подносит патроны по утрам
заправляемся какао
его еще немного осталось
в той большой коробке
что ты принесла с птичьего рынка
и поставила на пол
немного рассыпав
Где тебя носит
холодный упругий
ветер преступлений
микки маус читает
Робинзона Крузо сидя
на диване весь в подушках
его большие уши –
локаторы негодования
мы обязались не просить
прощения принесли клятву
на кухне глядя в зеркала
микки маус сказал
сегодня будет весело!
Заплатите за пейджер
мобильный телефон
спутниковое телевидение
пиф-паф мы дырявим газеты
но они не при чем и микки
маус в майке с Мао
кричит в мегафон
Куда ты ушла? Возвращайся
скорей! Сегодня будет весело,
много жареной картошки
и дрянного кино о том
что все прошло как
дивизия внутренних войск
Но она не придет
ей дарят сережки с бриллиантами
и новые часы со средневековым циферблатом
где-то в Америке каждый вечер японский
ресторан они едят за столиком
в окружении верных собак
и сиреневый паж потихоньку спешит
удивительно сделать все правильно
А мы со стариной микки
перезаряжаем магазины
в обстановке хаоса и
непонимания мы образовали
Трансатлантический вал
нам не страшен Ваал
мы с горячим какао на ты
ореол доброты
вчера к нам пришел
испанский посол
долго играл на скрипке
мы ему поставили канделябр
но ему все равно было темно
отключили электричество с утра
Сегодня прислали парламентера
какую-то топ-модель
я познакомил с ней микки
они понравились друг другу
я выделил им ванную
любовь должна быть среди теней и влаги
и мохнатых полотенец
ее зовут кэнди
Королева стипендий
Постепенно образовалась степь
о ком-то там я мечтал
всегда найдется дом
чтоб посмотреть на него
но здесь было как-то приятно
без и вдруг мы встали и пошли
по ровному розовому пространству
а ты там в Америке
ела лобстеров и тебе было жаль
природу?
я продам пистолет
нет расплавлю его на
газовой плите
пусть падают капли металла
я отдам микки мауса
Walt Disney & Co
(можно представить
его возражения)
ничего не осталось в пачке
какао ты вернешься может
быть в сентябре
распотрошенные лобстеры на тарелке
нас взяли.
ПИСЬМО ДРУГУ
Если бы я был моряком,
уплывал бы на полгода отсюда,
дорогой друг. А то вот
постоянно живу здесь,
хранитель, что ли.
А что хранить –
пару-другую спальных
районов, автостоянку?
Ночной кисок, в котором
небритый мужик продает
сигареты и пиво?
Впрочем, есть еще
центр с неожиданными
бюро. В которых молодые
самоуверенные люди занимаются
каким-то дизайном в хороших креслах.
А есть еще девушки, которые
запираются в туалетах клубов
и выходят с ошалевшими скрытными
лицами, переполненные горячим
золотом. Потом они превращаются
в садовые скамейки.
Я люблю этот город,
такой же как все. Здесь
можно найти сливочные ликеры
и виртуальные игрушки
местного производства.
Есть прогрессивные
ди-джеи и есть коммерческие
ди-джеи. Есть остановки троллейбусов
с рекламой жевательной резинки.
И мы в нем тратим свои дни, как
сигареты, как бумагу для писем, как
леденцы. Задумчивые стеклодувы, мы
выдуваем лампочки с затуманенным
стеклом. Мы улыбаемся и передвигаемся,
как мишки, как мальчишки, как вспышки.
Впереди нас ведет Микки-маус, он слушает
эйсид-хаус. Но школьники готовы начать
игру. У них есть все для любви: троллейбусы
и дни рожденья. Так подожди. Телецентр
на острове, остров на реке. После ночных
программ нас всегда поджидает маршрутка.
Усатые водители помнят времена рок-н-ролла.
Пустой снежный воздух стоит высоко. Мы
отправляемся. По домам, где надо залезть
под горячий душ. По домам, где мы живем.
Где надо выспаться, позавтракать под
бормотанье новостей, сделать пару звонков.
Глоток кофе, звон ключей, мы уже далеко.
Мы стартуем в новые дни, новые серьезные
дни. И если кто-то не прав, мы расскажем ему
об этом позже. Когда все соберемся и сядем
за одним столом. Впрочем, и тогда мы будем
говорить о другом: о теннисных ракетках,
американских университетах, значении слова
"джаз". И кто-то будет танцевать, свернув ковры,
на блестящем полу. Еще раз.
РУССКИЙ BOYFRIEND
Что оставляет другу немецкая девушка
перед тем, как вернуться домой?
Заношенную, но ужасно милую
майку Replay, бутылочку с остатком
парфюма Calvin Clein "one"
(унисекс). Адрес: такая-то
штрассе. Она любила заходить
в Макдональдсы и брать там
ванильные коктейли. В ночном
автобусе она слушала на своем
си-ди-проигрывателе Ника Кейва
и Suede. Она была независима и
ей не нравилось, когда ее пропускали
вперед или слишком пристально на нее
смотрели. Скоро она будет работать
в самом большом отеле Лейпцига,
где сначала ей придется пройти
практику в ресторане, а потом у портье.
И лишь через пару лет она перейдет
на изучение менеджмента и станет
работать администратором в одном
из отелей или даже откроет свой
собственный ресторан. Ее русский
друг, видимо, не сможет приехать
в Лейпциг, потому что в ближайшие
месяцы она будет страшно занята
по работе. У нее коричневые
глаза с капелькой зеленого, очень
милая стрижка. "Я никогда не выйду
замуж", – говорила она. – "Заведу
ребенка и буду сама его воспитывать".
Ее увез автобус в 12.00. Конечный
пункт назначения – Штутгарт. Она
выйдет в Берлине и сядет на поезд
до Лейпцига. Приедет, постирает
вещи, позвонит подругам. "У меня
был русский boy-friend целую неделю."
"Да что ты!" Майка Replay, парфюм
Calvin Clein, адрес: такая-то штрассе.
МУЖЧИНЫ
Время пройдет, и мы заговорим о рыбалке.
С детьми в машинах и на угловых дачах.
Где крыжовник растет и солнце пополам
с пивом. Там мы встретимся через сто лет
и один из нас, самый смелый, скажет,
что ловит форелей в близлежащем
и достаточно вяло текущем потоке
(ручей или речка). И кто-то не будет
верить, а кто-то поверит. Так или иначе.
Потому что мы мужчины и пьем водку,
и зарабатываем деньги и видим, как наши
мамы стареют, а у подруг появляются
первые морщинки, которые нам предлагается
считать любимыми. Да, мы из среднего класса,
и у каждого на шее лассо, от этого так развиты
мышцы шеи. Но мы любим свою страну, ее
разнообразную природу, людей, готовых отнестись
к нам с пониманьем. Мы выезжаем иногда
километров за сто или двести, чтобы
встретиться в новом месте. Мы – мужчины,
мы уверены в алкоголе, но все-таки в эту форель
в соседнем потоке верит только пятьдесят процентов
опрошенных. А шестнадцатилетние смуглянки
сушат волосы на берегу моря. А двадцати
трехлетние бизнесмены отлично зарабатывают
на продаже испанских вин. А мы вот закусываем
на солнцепеке экологически чистыми огурцами.
Садитесь с нами, если вы – мужчины. Такие же бывшие
дети, некогда подростки, юноши, молодые
люди. И вот мужчины на угловых дачах,
честные и лысеющие, дружные и обидчивые.
Берите нас такими, какие мы есть. С нами
легко выпить водки и мы с удовольствием
натянем вам велосипедную цепь. Любите нас,
мы не модные ди-джеи и не дизайнеры
из пластмассы. Возьмите нас к звездам,
отведите нас в кино. Мы готовы на все,
в глубине души, там, где есть место
спортивным кубкам и почетным дипломам.
А если вы не придете на встречу с нами
и ничего не состоится... Ну, что ж с утра
мы зайдем друг за другом. И с прогибающимися
копьями удочек отправимся за добычей.
Вечером будет уха, может быть, даже баня.
Будет время решить, ведь сегодня суббота.
ВОЛНЫ
Ты помнишь, как волны
шатались огромные
по пляжу в поисках выпивки,
их шляпы, их трости, их челюсти бритские
свистели, и пена летела пощёчиной
любому заядлому остроумию.
И местные жители
в майках с надписью Love Me
озабоченно
слизывали песок с ладоней,
пройдясь по дорожке вдоль дюн.
Волны вышвыривали нас на песок
не особенно соображая
нашу природу и смысл,
а мы даже рады – почти что
пели, щупая дно пальцами ног,
а потом отлетая в сторону
в брызгах нокдауна. Кожа
вздыхала счастливей.
В зеленом тонет зеленое
и в голубом голубое.
А там где и цвета не разобрать,
тонет все, что попало – осколки посуды
и камни, кожура апельсинов,
комиксы и коробки из-под печенья.
Море – сырая вода,
ест само себя и довольно.
А двуногие мы от счастья кричим,
когда нас мотает туда и сюда
сумасшедшая няня.
СВЕТА
Я – Света, я – сигнальный передатчик,
Передаю, что мне 24 года,
Блондинка я и с длинными ногами,
Что я люблю читать журнал "Люблю".
Когда я выпускаю свой сигнал,
Я чувствую, как это происходит,
Как в воздухе разносится сияние
И как включают запасную мощность
Приемники мужчин. Я помню, я росла,
Я строилась, сначала был сигнал
Довольно не уверенный, и слабый,
Потом пришла налаженная четкость.
Теперь меня поймает и мальчишка,
По улице пойдет тихонько рядом,
И может, осмелев, тихонько спросит:
"Скажите, тетя... тетя, вы модель?"
Я – Света, я сигнальный передатчик,
Я радио любви и длинных ног.
Лови меня, прохожий и коллега,
Пока я есть, пока спешит сигнал.
ПЛАНЕТА NO MONEY
Когда в доме кончается еда,
я спускаюсь вниз по длинной
стремительной лестнице. Я
захожу в магазин и покупаю хлеб
и сыр. Деньги перестали бывать здесь,
их маршрут изменился. Их новые друзья
блистательны и непоседливы. Они
листают журналы и купаются в теплом
море. Я обитаю в синем спортивном
костюме (куртка – с капюшоном) и
изредка получаю телефонные звонки.
За телефон я успел заплатить, теперь
я и мой приятель – чемпионы по
приготовлению макарон. Иногда мы
готовим их с чесноком, поддерживая себя
в здоровой спартанской форме (в городе –
эпидемия гриппа). Книги стали читаться
медленнее, музыка звучит не всегда. Похоже
на полет в космос без какой-то научной цели.
Нельзя сказать, что мы не пытаемся заработать.
Я хожу в рекламные агентства и пью чай
с менеджерами, мой приятель изучает программы
по компьютерному макетированию. Его девушка
уехала в Мексику штурмовать пирамиды, прихватив
еще двух подруг. Они шлют письма, написанные от
руки, о том, что купили джип и индейские одеяла.
Они уехали накануне кризиса, мы думали к ним
присоединиться через месяц. Но наш банк лопнул,
и хороший знакомый из его пресс-службы не
предупредил нас об этом. Он был больше верен банку,
чем нам. Этого финансового учреждения больше нет,
а мы едим макароны с чесноком и смотрим телевизор,
на котором уже не найти Евроспорта, Эм-Си-Эм, Cartoon
Network, зато есть сериалы и дикторы новостей,
корректные, как технические словари. Это планета
No Money. И мы – ее обитатели в синих спортивных
костюмах с тарелками макарон в руках. Мы посыпаем
их базиликом, наши дела не так плохи. Завтра день
Святого Валентина и, может быть, раздастся
несколько телефонных звонков. Хорошо бы – из Мексики,
из города, где живут двадцать пять миллионов, а сам Мехико
находится в чаше пересохшего озера. "Дружище,
как у нас с чаем?" "Допиваем подарочный набор!" –
отвечает он из кухни, где радио передает старый хит
"Есть ли жизнь после любви?" Размышляем на такие
темы мы редко, но вот кто-то звонит – может, пригласят
на обед? Реальность распалась на много маленьких
макарон, и мы накручиваем их на вилку, мирные
и задумчивые, как монахи. А вчера мы видели
мужчину с длинной окладистой бородой.
РАЗЛЮБИЛ...
Офицер разведки весело проводит время
В одном из районов Вены. Он пьет со всеми,
Он беззаботен, но всегда внимателен на уровне
Автоматизма. Он припоминает на следующее утро
Вчерашние разговоры. Все, что он делает, имеет
Цель – сбор информации. Любые сведения могут
Пригодиться, он собирает их, как пчела – мед,
По природному складу, вписанному в общие законы.
В конце концов его перестает интересовать окружающий
Мир, в нем слишком много данных. Он проводит еще
Одну веселую ночь, а на следующий день исчезает
В неизвестном направлении. Поиски безрезультатны.
Перед этим он сказал одной из своих подружек:
"Все бы ничего, но цифры меня доконали, канальи-
цифры..." Тогда он рассмеялся собственному каламбуру...
Его смех продолжает звучать в ушах этой девицы –
Так по крайней мере ей хотелось бы думать – в лунные
Ночи. Воспитанник одной из офицерских школ, он
Был отдан туда сиротой. Никем не оплаканный,
Но еще не бесследно забытый, этот офицер
Заслужил упоминания в речи премьера. "Лучшие люди,
Отборная элита – и та охладевает к информации,
К этим двоичным кодам, пустячным горизонталям."
ЖДУ БРАТА
Жду моего брата. Где он идет,
веселый и худой, у кого спрашивает
дорогу, с кем соревнуется в вежливости,
в какие дома заходит переночевать?
Не знаю. Но он шагает в мою сторону,
И в кармане пальто у него есть карта,
которую я прислал ему в новогодней
посылке. Он вышел давно и теперь
здесь весна. В старой школе кто-то
царапает новые зеленые двери именем
девочки из старшего класса. Мой брат
тоже влюблялся не раз в нашем городе,
пока не уехал счастья искать за моря.
Теперь он хочет вернуться. Он выучил
пять языков, научился ремонтировать
автомашины и печь сицилийскую
пиццу. Всему этому он научит меня.
Он придет, и мы поужинаем вместе,
выпьем вина под торжественный тост,
Потом он уляжется спать, а наутро
начнет свой длинный рассказ. Брат,
все ближе твои шаги. Я уже поставил
на стол лучшее вино и подготовил
стопку свежих газет. Брат, нашел
ли ты счастье и есть ли это нечто,
чем можно делиться? Брат, как давно
мы не виделись. Я сижу, сжав кулаки,
я ведь мужчина и надо быть тверже.
Кажется, ты сейчас постучишь.
Или ты еще далеко? Но ветер тебе
обязательно в спину, а на карте
одно направление –
северо-запад,
дом.
ЛЕТО БЕЗ ЕВЫ
1.
"Секрет дамасской стали давно утерян", –
сказал мне бурят Федор Павлович, бывший
военком Юрмалы, долгие годы посылавший
ребят в Армаду и пристрастившийся
на курорте к большому теннису, массажу
и размышлениям о секретах. Мы сидели
в бане теннисного клуба после турнира,
где Федор Павлович занял второе место
в паре с секретарем американского
посольства Майклом. "Мы его раскусили,
цэрэушника," – смеялся Федор Павлович,
укутанный в полотенце. Рядом пили пиво
благородные теннисисты, владельцы
богатых ракеток. На удивление, никто
из них не инкрустировал свой инвентарь
золотом с жемчугами. Но спорт господ
привлекал их своей английской дипломатией
и саксонским упрямством. Они выходили
на корт, все знакомые, своим кругом,
и играли весь день, припарковав лимузины.
Невдалеке шумело море, и бурят Федор
Павлович выглядел скорее японским атташе
рядом с секретарем американского посольства
Майклом, всегда молчаливым во время игры.
2.
"Я певец эстрады, обычно я выступал с симфоническим
оркестром," – говорил мне в окраинном парке человек
с челкой, худой, нервный, невысокого роста, похожий
на артистичного морфиниста. "А вот мой племянник,
отставший от семьи, отсидевший три года,
встреченный мной с протянутой рукой в драном пальто,
вышедший после трех лет заточения с пятью латами в
кармане и немедленно отправившийся в клуб "Аладдин",
где танцуют полуголые женщины, чтобы выпить сока
с булкой и, заплатив за вход, голодать потом еще
неделю". Они присели ко мне на скамейку и достали
бутылку сухого и связку бананов. Двадцатипятилетний
племянник с неуверенной улыбкой и карими глазами,
в белых носках и сандалиях, спрашивал у прохожих штопор.
Рядом бегала их маленькая бело-коричневая собачка.
"Я обрусевший литовец, а у вас сумка миллионера и вы,
наверное, из тех высоких домов, где центральное отопление
круглый год," – сказал мне эстрадник. Он пил в растерянности
после суда, где его знакомый, ворующий из подвалов картофель,
был осужден как опасный рецидивист. "Верите ли вы мне,
что посадить можно любого? А племянник мой – лоботряс,
но куплю ему я гитару, ведь на гитаре умел он играть, пока
не попал в заключение... Я – артист!" Они остались там
в темноте в подозрительном парке у старой кирхи,
где собираются пьяницы этого запущенного
района, "которые могут вам дать по башке, но все равно я их
не боюсь так, как ваших ровесников в кожаных куртках,
понимаете ли", – говорил мне эстрадник, выступавший
некогда в Сочи, а теперь работающий по ночам
на близкой автостоянке и пьющий дешевенькое
сухое с племянником в белых носках, который
все, буквально все подтверждает, как документ
с буквами крупным шрифтом.
ЯЗЫК КАТЕРИНЫ
Три дня у меня было предчувствие
черного языка. Стояла, молчала,
курила, рассеянно улыбалась,
ничего не говорила маме. И утром
увидела – вот он! Совершенно
черный язык в розовом рту,
восклицательный знак в привычной
физиологической прозе, тревожный
звонок, телеграмма (молния). В ужасе
позвонила в аптеку: "Скажите,
как лечится черный язык?" Любезно
ответили: "Язык человека обычно
немного красный и черный немного.
Это с какой точки смотреть, какую лампу
включить..." Я бросила трубку. Кинулась
в шоке к машине, с места рванула, четыре
часа моталась по городу, разворачиваясь
беспорядочно, руки дрожали, и озарило:
"Есть же друг Доктор! С детства я помню,
как он пил кофе на кухне и говорил
о политике и литературе, подтянутый,
свежий!" Опять к телефону: "Спасите!"
"Спокойно! Скорей приезжай." Вот
я у доктора, тот достает для наблюдений
приборы из новых металлов, а я уверяю:
"Черный язык мой видно отлично
и так!". Он все равно приближается
с длинной трубой, а я открываю рот.
"О-о-о!" – с уважительным ужасом он отступает.
Чернота черного языка абсолютно конкретна.
Но доктор испугу не сдаст бороды и привычек.
"Утомление, стрессы и творческий поиск,
вот что виною всему, но таблетки
помогут нам, белые, стойкие в цвете своем".
Выпила пригоршню химии, села в машину,
дома свалилась в постель и уснула. Встала
на утро, глянула в зеркало – он! Розовый мой,
незабвенный! Ворочается, нежится в утреннем
свете. "Доктор, спасибо!" – я позвонила,
но маме все равно ничего не сказала.
Скрытной я стала, успев повзрослеть.
Вообще говорить теперь стала я меньше,
я как-то не уверена в цвете своего языка
и боюсь в глазах собеседника узнать отражение
черной полоски, плоти упорной, чужой.
СИЛЬНОЕ ЧУВСТВО
Время нас окончательно полюбило.
Положило нам в кости соли, раз-
рисовало лбы вертикально. Подарило
тысячу кассет всяких воспоминаний:
немного эротики, немного сентиментальной
жестокости, немного общих мест.
Мы теперь любимцы у времени,
часто ездим на карусели мира, так что
голова кружится и трудно вспомнить,
где ты живешь. Но в конце концов
всегда приходишь домой, там сидит время,
сложа руки, и тихо гордится, тем, как у тебя
все получилось. Замечательный старик Время
обладает повадками младенца. Но иногда,
если не в духе, может задушить тебя полотенцем.
Главное, не пытаться найти с ним общий язык,
оно не любит пристальных взглядов и
увеличительного стекла. Игнорируйте время,
танцуйте, сколько хочется, покупайте сласти.
Как сказал мудрец: "Счастье начинается
с точки кипения зубной пасты." И пусть желтые
штуки раз в год падают с неба. Пусть никто
их не хочет, все шевелят ногами, а дворники
жадно заталкивают их в пластиковые мешки.
Быть любимым временем – это сильное чувство.
А кто испытал его, тот обычно молчит.
БЕСЕДА
Красная девушка говорила синей:
"Я вчера была больной, сегодня стала
Послушной. Можете из меня
Делать пластиковые пакеты,
Можете меня отдать в посольство
Великой державы чистить что-нибудь
Ржавое. Удивительно безразличие
К собственной персоне, даже
Не хочется выйти купить новые чулки
Или китайский заводной бархат.
Хочется смотреть все время одну
Телерекламу, несложное мельтешение
Новых товаров, хочется слышать,
Как нахваливают их голоса актрис,
Чьи языки, устав от искусства счастья,
Ломаются у них во рту как льдинки.
Поверишь ли, вчера вышла из дома
И остановилась посреди двора, стояла
Так минут двадцать. В общем могла
Бы и улететь в космос, как собачка
Безропотная. То ли жизнь моя из меня
Уходит, то ли это новая эра, даже
Плюшевые игрушки мне не милы."
Говорила синяя девушка красной:
"Все верно, все очень похоже,
В супермаркетах как на Луне,
И я гуляю, длинными ногтями
Касаясь краешков огромных коробок.
Это болезнь поражает девушек
И только, мужчины от нее
Лечатся боксом, табаком, водкой,
А то бы и они треснули по швам,
Вывернулись бы наизнанку, оглохли".
Сидели две девушки и говорили,
Всегда спокойно, всегда о важном,
А вокруг стояли сонные вещи,
Уставшие столики, пьяные кресла.
Это было в одной большой квартире,
Чьи окна выходят на улицу в центре,
В центре города, города у моря,
Серого моря, зеленой воды.
ОТСЧЕТ ЗИМЫ
Жители ночи
договариваются между собой
с помощью столбиков пара.
В ресторане, пользующемся
дурной славой, толстые
полубандиты кормят себя
и таких, как они. Видимо,
я ничего здесь не люблю,
кроме оставшихся впадин,
отрезков, заколоченных
парков, остановок в лесу.
Я испытываю недоверие
к людям, к аэропорту, мостам,
джазовым концертам, переменам
погоды. Пусть лучше будут ангелы
полуистлевшие, как на разгроме
фотоархива. Или крымские ящерицы
в заспиртованных банках. Что еще?
Лета не было, мы одели теплые вещи,
ты ушла к себе, мой телефон изменился,
но я его никому не давал. Я сидел на
последнем этаже, в последней комнате.
А на лестнице дежурил человек
с красным опухшим лицом. В стеклянной
двери была дырка – от пули? От пули.
И одна маленькая девочка пяти лет,
говорила мне по телефону, пока
ее родители не могли подойти, из-за
того, что спорили о деньгах: "Слушай,
а зима навсегда?" Я ей пытался
честно растолковать: "Зима кончается,
когда руки можно зарыть в песок
на пляже, и он поддается, и ты сидишь.
Он еще так сквозь пальцы хрустит."
Тут у нее взяли трубку.
ПОПЫТКИ
Профессор входит в аудиторию
в ореоле трех жен и многочисленного
потомства, эмиграции, империй,
признания. Двадцатилетняя официантка
мучает сумочку. Она хочет понять,
что делать сегодня вечером, чтобы
это казалось правильным завтра утром.
Она слушает, невысокая, на стуле.
Злая бестия, маленькая официантка,
обсчитавшая не одного мужчину,
хохотавшая над Книгой Перемен
и прогнозами гадального салона
"ТеоАстра". Она пришла слушать
профессора, а профессор, присев
на краешек стола, повторяет: "Дамы
и господа, дамы и господа..." Темой
его выступления будут – истины и
еще раз истины. Он шикарно водит
глазами и смотрит на часы. Потом
все стоят и курят в коридоре,
один черноволосый поэт бросает
взгляды. Истина движется к нам
как лед весной, на его белых глыбах
сидят боги, унесенные рыбаки.
Постепенно солнце обыденности
заставляет их сойти на берега Европы,
Азии, Африки. Профессор обещает
встретиться через миллион лет.
Официантка, дочка китайца и
марокканки, делает выводы:
если к каждому из ее клиентов
подойти с одним и тем же вопросом,
многие из них больше никогда
не придут к ней обедать.
ВЬЕТНАМ, 1970
Мы потели в бамбуковой хижине,
не было ни виски, ни Мэрилин
Монро, ни Доорз. Проводник
сбежал, правда, ночью за рисовым
полем громыхнула мина, может,
он и успел сказать что-то вроде:
"О-о-...оп!". У радиста было очень
счастливое лицо, когда он перестал
отзываться на имена "Джон, Джонни,
приятель, старина, братишка". Деревня
была брошена, мы примерно представляли,
куда сдвинулась линия фронта, но было
ощущение того, что нас стиснуло и придавило
в мешок. Идти на прорыв надо было
в самую гущу джунглей. Мы всё надеялись
на вертолет, который бы мог выскользнуть
из-за низко нависших ветвей, на патруль
подступающих "зеленых беретов". Ничего
подобного не происходило, только макаки
орали по ночам. И часовые сплевывали
и молились, сплевывали и молились.
Потом мы услышали артиллерийскую
канонаду. Следующей ночью под звездами
величиною с пятак мы построились, чтобы
двинуться гуськом за сапером, который
потел больше всех остальных. Мы вышли
к своим на второй день. Потом еще неделю
валялись на койках в реабилитационном
центре под Сеулом и слушали радио. Вышло
много новых пластинок. Дикторы хвалили
пару свежих фильмов. Здесь работали
кондиционеры.
ЙОАХИМ, ГОЛЛАНДЕЦ
Теперь за кружкой пива
в известном заведении "Сто сестер"
он спешит всем признаться,
что хотел бы покинуть континент
как можно скорей.
Остров бы ему подошел
с холодной башней маяка
и камнями в птичьем помете,
с лесом и озером, крохотным,
но бездонным. А еще
ему нужна была бы красная "Хонда".
Он водрузил бы ее над обрывом
и камешками пулял в надменные стекла,
а иногда забирался бы на переднее сиденье
и слушал радио, хрустя рисовыми крекерами.
В последних новостях повторялись бы
одни и те же имена, и иногда он засыпал бы
прямо в кабине, а не в жилом отсеке маяка,
там, где бы он подвесил гамак между
больших китайских фонарей из папиросной бумаги,
расписанных тушью. Вообще ему бы нравилось
разглядывать все эти иероглифы, но он никогда бы
не пытался отгадать, что они означают
на самом деле. И он не писал бы
стихов и не рисовал акварели – разве стоит
ради этого уезжать с континента,
где есть такие заведения как "Сто сестер"
и такие друзья, как мы.
К ПЫЛИ
Пыль в этой старой квартире
появляется как растения,
растительный покров пыли
покрывает проигрыватель,
чьи пластинки повреждены пылью,
их звуковые дорожки забиты,
их музыканты забыты, обложки
истерлись, только слышно
какое-то "феличита", если
бросить черный диск в потолок,
откуда он падает как планета...
Пыль – это использованное время
спрессованное в серые спирали.
Когда я молчу, я говорю на языке пыли.
Когда ты уходишь, ты поднимаешь облако
пыли. Эти дорожки – следы твоих
вечных уходов. Потом ты возвращаешься,
и мы ловим пыль платками и душим ее.
А она хихикает. Тогда мы уезжаем
за город. Простая черная земля –
живая и мертвая. Маленькие
животные ковыряют землю, здесь
нет пыли. Однажды дома ты сделала
из пыли кольцо. Ты сказала, что
это наше фамильное серебро. Но
это не так. Когда-нибудь я открою все
краны, когда-нибудь я распахну все окна.
Потом я сравняю дом до уровня
земли, и маленькие животные придут
и будут бродить в новых местах.
Однажды пыль погибнет, и на пластинке
будет слышна песня. Я рассказываю это тебе
ночи напролет. Когда звезды сбрасывают
на нас звездную пыль. А ведь есть
еще пепел. Не говорите мне, что
это вчерашняя проблема. Некоторые
люди состоят из пыли. Без любви
мы все выглядим пыльными. Поэтому
примите это как рекламу лучшего средства –
красной критической массы сердца.
ЖИТЕЛЬ ЦЕНТРА
Я люблю твое времяпровождение,
твою ходьбу по девяти улицам
и семи кафе,
житель центра.
Ты замечаешь
одинокую девушку
в припаркованной машине,
ждущую чего-то с таким ждущим
выражением на таком ждущем лице.
Ты видишь клерка в плаще,
поднимающего к глазам
руку с часами так медленно
как будто это портовый кран,
влекущий к небу
турецкий автобус.
Ты видишь продавщицу
в магазине спортивных товаров,
когда он уже закрыт,
но свет еще сияет,
улегшуюся, заснувшую
среди лыж и манекенов
в спортивных костюмах.
Она вдруг чуть поворачивает
руку во сне и отпускает ладонь,
и та раскрывается,
как обещание никогда-никогда
ничему не верить.
Ты скользишь всюду,
ты ловишь себя во всплесках витрин,
ты умеешь читать о погоде
на последних страницах газет.
Будущее – это ветер,
но когда кто-то закрывает глаза,
это происходит в реальности быстро,
в памяти – медленно.
Житель центра,
еще ты умеешь читать по губам
девушек на плакатах,
рекламирующих косметику.
Они говорят: "Мне 18 лет.
Свободна плавать, свободна иметь".
Или: "Я стараюсь, потому что
я умею или я умею, потому что
Я стараюсь?" Поиск значений –
как попытка разменять деньги,
но слишком крупные купюры
никому не нужны
сегодня.
ПОСЫЛКА
Пришла посылка от адресата из Амстердама,
адресат выбыл, полностью протерев поверхность дивана,
оттуда, пробив пружины, он выпал в космос,
с книжкой в руках, затертой фантастикой, невесомость
ему – как бескостность, летит лепешкой
в пузатой майке, мелькают подошвами старые "найки".
И чашка кофе, посланная с Сатурна, скользит, вращаясь,
но не очень бурно. Здесь хаос как бы уют в масштабе,
тахта Плутона,
Луна – карманное зеркальце,
Млечный путь – пыль на космическом
баобабе. И ты слушаешь арабские дудки, засунув
волну в ухо, как прямой провод. Здесь даже сухо,
не льет, не мочит, не кровоточит. Болтаешься тут,
галактический увалень, а моя посылка приходит обратно.
Давай возвращайся, падай, мягкость посадки –
вполне вероятна. Хлопнешься на лужайку где-нибудь
в Калифорнии, отовсюду сбегутся соседи, кто попроворнее.
Ты присядешь, не отрывая взгляда от книжки,
и сделаешь жест рукой, типа несите поесть что-нибудь
и не спрашивайте ничего, я секретный агент,
только что завершивший космические делишки.
МОЛДАВСКИЙ РОМАНС
Она сидит у компьютера в синей вельветовой куртке,
Ей дали задание, сказали нарисовать этикетку для спичек,
Она рисует трех розовых поросят, жующих бетель,
Ей кажется, это передает настроение тех, кто спешит.
Вчера она была на невероятном концерте в здании почты,
Там пятнадцать скрипачек стояли и делали рожки прохожим.
Это была рекламная акция чувств, потому что их больше нет,
Почтальонам остается носить только счета и буклеты ножей.
А я в это время пью вино в классическом доме напротив другого,
Бутылка молдавского сока – приятный трамплин для меня.
Нет ни чисел, ни фраз, ни поз, ни рождественских коз.
Я пишу о погоде, о том, кто как одет, и старушки любят это читать.
"Зайти за тобой? И мы выйдем туда, где из парка сделали паркинг,
Я обниму за плечи тебя!" – снова навеселе, куда-то иду и смеюсь.
Но ты говоришь, что еще надо сделать рекламу замков для дверей,
Ты думаешь нарисовать большую куклу с ниткой оранжевых бус.
ОТКРЫТКА С ЮГА
Все это пляж, и я на нем лежу.
В зеленых плавках, и очки на переносице.
Ничей товарищ, павший в полотенца.
Приехал, вышел, грохнулся, до встречи,
пишите письма и на рельсы сыпьте
глухой и голубиный оловянный порох.
Жестокий и прямой, лежу на пляже,
как палка смуглый, кожу жгу тягуче,
потом иду купаться и в воде, под ней,
плыву и слышу – кровь стучит, гоняя
кислород и минералы в теле сжатом.
Я не играю в пляжный волейбол. Зачем
вставать, и хлопать по мячу, и мельтешить.
Имею право тут, среди других остаться.
Распластан на песке с утра и до заката.
Вы можете меня найти, девятый сектор,
восточный пляж, левее раздевалки.
Но не спешите с этим, подождите,
присядьте рядом, поглядите, вот я.
Смуглее всех, лежу в зеленых плавках.
Ну, ладно... Можно хлопать по плечу.
ПАПА И РАМЗЕС
Папа вошел в пирамиду,
Сказал, что она построена неверно.
Долго хохотал над стыковкой
Каменных блоков. Прикорнувший
Рамзес IV взялся было защищать
Своих строителей, но тщетно.
Папа пошатал один блок – пирамида
Затрещала, он перестал – и туристы
Вздохнули облегченно. На закате солнца
Папа и Рамзес IV сидели на верхушке пирамиды,
Пили привезенную русскую водку. Папа
Что-то чертил, объяснял, разбирал
На пальцах. Рамзес поминутно вспоминал
Имя Бога Гнева, а потом, махнув рукой,
Завел какую-то протяжную песню.
Папа слушал, подперев голову рукой
И прислонившись широкой спиной к
Жертвенному алтарю. "Напортачили
Все-таки египетские товарищи", – сказал
Он коллегам по возвращению в Москву.
В институте его ждало еще несколько
Неразрешенных задач. "Все это вопрос времени,
Не более того" – говорил папа, обливаясь
Холодной водой в институтском дворе.
Он стоял там в кедах и черных тренировках.
Около трех он всегда выбегал из прокуренного,
Продуманного здания института и разминался
Тут же во дворе. А потом в ход шла ледяная вода,
И по свету черной изогнутой настольной лампы
В окне его кабинета, который гас где-нибудь около
Полуночи, выключенный решительным щелчком,
Становилось понятно – задача решена. Папа приходил
Домой, когда мы все уже спали, а ужин стоял,
Завернутый в фольгу, на столе. Папа жевал мясо
И думал: "Как там Рамзес, надо будет послать ему
Новогоднюю посылку, пачку печенья, бутылку водки,
Вязаные рукавицы..." Рамзес дремал с полузакрытыми
Глазами, и в его древних зрачках Луна быстро вращалась,
Составляя светящуюся восьмерку, символ бесконечности.
ФИЗИК
Не хватает мне, брат, кислорода,
лежу, сумасшедший, в теплой постели.
журналов пять под подушкой
и все о новом дизайне,
Спаси меня, брат.
Поступил я вчера на работу
и понял: сегодня на нее не пойду.
Буду слушать себя,
хорошее дело.
Ты только, брат, не спеши.
Не вставай и не умничай,
не суетись. Борода мне идет.
И уже интересно то, что на улице.
Я готов ко всему: сижу на вещах –
на шубе и связке учебников.
Могу стартовать на Луну,
хотя ее уже поделили американцы.
Но мы-то найдем что-нибудь, я уверен.
Пить я больше не буду и курить натощак.
Скажи, что еще. Земля будет оттуда видна
на полнеба. И я буду гулять по Луне,
заложив руки за спину, повторять формулы,
формулы, формулы и чертить на песке.
Если нет там песка, надо с собой захватить.
Вообще надо список составить.
И записать пару видеокассет с видами
Мест, где мы часто бывали:
Дом, школа, та улица, центр.
Свидетельство о публикации №109042600029
это будет величайшая и непростительная ошибка нобелевского комитета
Батистута 26.04.2009 22:35 • Заявить о нарушении
Евгений Дюринг 27.04.2009 07:49 Заявить о нарушении
