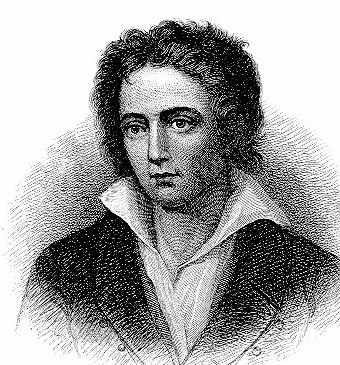Шелли Перси Биши
Поэт поэтов, он самый благородный,
он лучший среди тех, кто жил для поэзии.
Его душа, полная неизменного
благословения ко всему, что живет и
дышит, отрицает все отрицательное, и из
всех поэтических душ она наиболее походит
на безмерное и высокое небо.
К. Бальмонт
Несколько слов о поэте
Поэзия - самая верная вестница,
соратница и спутница великого народа,
когда он пробуждается к борьбе за
благодетельные перемены во мнениях или
общественном устройстве.
Перси Биши Шелли
Английский поэт Перси Биши Шелли (1792-1822), один из величайших поэтов
Англии, гений которого признан и неоспорим. Романтик, возросший на доктрине
просвещения, гневный обличитель пороков общества и нежный возлюбленный,
повелитель стихий и божественный творец, на равных разговаривающий с
Создателем, он был на удивление рационален в восприятии жизни и столь же
наивно-мечтателен в идеях ее исправления. Вечным Дон-Кихотом называл его
Байрон, прекрасным нереальным ангелом, тщетно бьющим лучезарными крылами в
пустоте, - поэт Мэтью Арнольд, гениальным пророком - Энгельс и Маркс. Смею
заметить, что все они правы и не правы одновременно, потому что и поэт, и
человек по имени Шелли, уносясь воображением в немыслимые дали, не
отрывались от земли. Перси Биши Шелли был живым среди множества "манекенов",
которым предрассудки отмеривали радости и горести по капельке, не давая
насладиться уникальностью своей единственной и неповторимой жизни. Шелли же
жил, подчиняясь своим страстям, совершая свои ошибки и честно
расплачиваясь за них, бывая добрым и нетерпимым, любящим и влюбленным,
революционером и нереволюционером, но всегда целиком отдавая себя поэзии,
другу, возлюбленной, несчастному, нуждающемуся в помощи. Именно ему, как
никакому другому английскому поэту, подходят слова, которые написал
Достоевский, пребывая в поиске свободного человека: "Последнее развитие
личности именно и должно дойти до того, чтоб человек нашел, осознал и всей
силой своей природы убедился, что высочайшее употребление, которое может
сделать человек из своей личности, из полноты развития своего Я, - это как
бы уничтожить это Я, отдать себя целиком всем и каждому безраздельно и
беззаветно. И это величайшее счастье. Это-то и есть рай Христов". Хотя Шелли
сам называл себя атеистом, в этом нет противоречия, так же как в
"уничтожении своего Я" по Достоевскому, которое непременно должно привести к
его обогащению. Скажем так: здесь должен действовать принцип Феникса.
Если Шелли считал Поэзию самой верной спутницей общественных перемен,
то он же был совершенно уверен и в том, что "никогда так не нужна поэзия,
как в те времена, когда, вследствие господства себялюбия и расчета,
количество материальных благ растет быстрее, чем способность человека
усвоить их согласно внутренним законам человеческой природы". Поэзия
содействует нравственному совершенствованию человека во все времена,
развивая его воображение и таким образом его способность к любви, которая
есть суть нравственности, ибо любовь (по Шелли) - это "выход за пределы
своего "я" и слияние с тем прекрасным, что заключено в чьих-то, не наших,
мыслях, деяниях или личности". (Может быть, Достоевский читал "Защиту
поэзии" Шелли?)
И все-таки, как бы ни верил Шелли в нравоучительную роль Поэзии,
революция его не пугала. Более того, он был убежден в ее закономерности, ибо
считал, что народное возмущение неизбежно, рано или поздно, находит выход в
революции. Однако, несмотря на очень сильное влияние Вильяма Годвина,
которого называли геометром революции, он не сомневался, что вместе с
определенным обновлением общества, даже возможным улучшением его, революция
несет с собой множество бед и избежать их невозможно. Об этом он пишет
сонет, посвященный Наполеону:
Поверженный тиран! Мне было больно
Прозреть в тебе жалчайшего раба,
Когда тебе позволила судьба
Плясать над гробом Вольности...
Но и в двадцать с небольшим Шелли мудр, поэтому его стихотворение - не
урок морали, предполагающий единственно верный ответ на каждый из вопросов,
которые задает жизнь. Всей душой он за забвение того, кто стал несчастьем
Европы и Франции, но, увы, Добро редко торжествует победу, и Шелли понимает
это не хуже Шекспира, шестьдесят шестой сонет которого ("Зову я смерть, мне
видеть невтерпеж...") наверняка промелькнул в его памяти, когда он писал
свой сонет, возможно, от противного к шекспировскому. Если Шекспир
утверждает порочность окружающего мира, в котором силы для жизни ему дает
любовь, то Шелли прославляет победившее Добро, сожалея о том, что оно не
всесильно.
Но у добра есть худший враг - химеры
Повиновенья, ослепленность веры!
В письме к своему другу и поэту Ли Ханту он писал: "Мы живем в грозные
времена, дорогой мой Хант. (Кстати, Ли Ханту принадлежат слова, начертанные
на надгробье Перси Биши Шелли: "Cor cordum" (Сердце сердец. - Л. В.) Мы
твердо знаем, к какому стану примкнуть; и какие бы ни произошли революции,
как бы угнетение не меняло свое название... нашей партией всегда будет
партия свободы, партия угнетенных..." И тем не менее Шелли верил в
поступательное движение истории, подталкиваемой революциями, пожалуй, не
меньше, чем в нравственное совершенствование человека с помощью поэзии,
которая воздействует на его воображение: "Поэзия расширяет сферу
воображения, питая его новыми и новыми радостями, имеющими силу привлекать к
себе все другие мысли и образующими новые вместилища, которые жаждут, чтобы
их наполняли все новой и новой духовной пищей. Поэзия развивает эту
способность, являющуюся нравственным органом человека, подобно тому как
упражнения развивают члены его тела".
Вероятно, это требование к поэзии, которое Шелли в первую очередь
прилагал к собственному творчеству, послужило тому, что в русской литературе
сложилась традиция говорить об отвлеченности поэзии Шелли. Иногда, правда,
этот недостаток (с точки зрения российской критики) пытались, желая привести
в соответствие его всемирную славу с малой востребованностью в России,
назвать философичностью, а, мол, философская поэзия создается для
избранных... Образ Шелли - ниспровергателя всего и вся - затмил реального
Шелли-поэта, автора гениальных поэм и великолепной лирики, в которой он в
течение своей недолгой жизни откликался на все, его занимавшее, создавая
великую и не похожую ни на одну другую книгу. Мальчик, бунтовавший против
государства, боявшийся одиночества и размышлявший о смерти, постепенно
вырастал в мужа, для которого свобода - внутреннее состояние человека.
Мятущаяся натура Перси Биши Шелли, озаренная "Политической справедливостью"
Вильяма Годвина и нацеленная в будущее, не могла позволить его стиху, за
редким исключением, служить сиюминутной задаче, отчего оставляла равнодушной
Россию, где бурная общественная жизнь не располагала к созерцанию и
размышлению.
Впервые Перси Биши Шелли был открыт для руской поэзии журналом "Сын
отечества" в 1849 году, и сделал это открытие литератор Андрей Николаевич
Бородин (1813-1865), воспитанник Нежинской гимназии высших наук в тот самый
период, когда в ней учились Гоголь, Кукольник, Редкин. Он перевел на русский
язык одно из стихотворений Шелли, положив начало истории "русского" Шелли.
И, кстати, выбрал для себя стихотворение, которое в дальнейшем более
других произведений английского поэта привлекало к себе внимание
переводчиков:
Любовь
Есть слово; но его искажено значенье -
И я молчу: боюсь услышать твой укор!
Есть чувство; но его встречает и презренье -
И я боюсь затмить приветливый твой взор.
Но мне ли погасить последнее мерцанье
Тех радостных надежд средь горестей земных?
Мне дорого твое святое состраданье:
В нем униженья нет, как в жалости других.
Прими же - не любовь (избитое названье
Сумело осквернить чистейший фимиам),
Но сердца теплого святое обожанье,
Стремленья смертного к далеким небесам,
Восторги мотылька при утреннем светиле,
Смиренье тьмы ночной пред розовой зарей,
Благоговение к могучей, высшей силе,
Которая в скорбях дарует нам покой.
Нужно сказать, что ничего необыкновенного после этой публикации не
произошло. Шелли и потом переводили мало. И хотя среди его переводчиков были
известные литераторы - Д. Минаев, Н. Минский, А. Курсянский, Д. Мин, -
событием русской литературной жизни их публикации не становились.
Так продолжалось до начала XX века, когда Константин Дмитриевич
Бальмонт (1867-1942), один из родоначальников русского символизма, принялся
работать над полным собранием сочинений Перси Биши Шелли. В 1903 г. вышел в
свет первый том трехтомного собрания (1903-1907), которому Бальмонт
предпослал несколько слов, в частности: "Перевести целиком сочинения Шелли
было моей давнишней мечтой. Семь выпусков, напечатанных в разное время, были
частичным ее осуществлением. Но овладеть таким сложным и роскошным миром,
как мир поэтических созданий Шелли, можно лишь постепенно. Теперь, наконец,
я в состоянии передать в русских строках то, что Шелли сказал в английских".
Естественно, не все ровно получилось у Бальмонта, однако трехтомнику нельзя
отказать в целостности, а также тщательности и вдохновенности исполнения.
Несомненно, собрание сочинений, которое не по вине Бальмонта оказалось
неполным, стало первым настоящим открытием Перси Биши Шелли для русского
читателя. Вопреки сложившейся традиции ругать переводы Бальмонта, должна
сказать, что лучшего издания Шелли на русском языке нет, и нельзя не
согласиться с мнением одного из переводчиков Шелли - Б. Л. Пастернаком:
"...русским Шелли был и остался трехтомный бальмонтовский. В свое время этот
труд был находкою, подобной открытиям Жуковского. Пренебрежение,
высказываемое к этому собранию, зиждется на недоразумении. Обработка Шелли
совпала с молодыми и творческими годами Бальмонта, когда его свежее
своеобразие еще не было опорочено будущей водянистой искусственностью". Не
может быть, чтобы читателя оставили равнодушными строки, посвященные памяти
другого замечательного английского поэта-романтика - Джона Китса:
Отрывок о Китсе,
который пожелал, чтоб над его могилой написали:
"Здесь тот, чье имя - надпись на воде".
Но, прежде чем успело дуновенье
Стереть слова, - страшася убиенья,
Смерть, убивая раньше все везде,
Здесь, как зима, бессмертие даруя,
Подула вкось теченья, и поток,
От смертного застывши поцелуя,
Кристальностью возник блестящих строк,
И Адонаис умереть не мог.
Третье, пока последнее, очень важное и, к сожалению, оставшееся
незаметным открытие поэзии Перси Биши Шелли совершилось, когда в 1940-х гг.,
в процессе подготовки к изданию нескольких антологий английской поэзии, его
открыл для себя Борис Леонидович Пастернак, взявший на себя труд отстаивать
свое мнение не только в переводе, но и в критических заметках. Он писал: "Мы
с чрезвычайной неохотой, не предвидя от этого никакой радости, взялись за
поэта, всегда казавшегося нам далеким и отвлеченным. Наверно, мы не
ошиблись, и нас постигла неудача. Но мы не добились бы этого, если бы
остались при своем старом взгляде на великого лирика. Чтобы прийти с ним в
соприкосновение, даже ценой неуспеха, надо было вглядеться в него
пристальнее. Мы пришли к неожиданной концепции. В заклинателе стихий и певце
революций, безбожнике и авторе атеистических трактатов нам открылся
предшественник и провозвестник урбанистического мистицизма, которым дышали
впоследствии русский и европейский символизм. Едва только в обращении Шелли
к облакам и ветру нам послышались будущие голоса Блока, Верхарна и Рильке,
как все в нем оделось для нас плотью. Разумеется, мы все же переводили его
как классика. Сказанное относится главным образом к "Оде западному ветру"".
Увы, Шелли не перестал числиться в советской табели о рангах
"выдающимся революционным романтиком", что еще долгие годы не способствовало
его популярности у переводчиков. Впрочем, причина этого, думаю, гораздо
более серьезна, и скорее ее надо искать в истории русской литературы, нежели
в поэзии Шелли. Полагаю, если бы Пушкин в свое время обратил внимание не на
Байрона, а на Шелли, то по-другому распределились бы их роли в России.
Байрон - благодаря непререкаемому авторитету Пушкина - лет пятьдесят или
больше затмевал всех английских романтиков (и не только романтиков), а когда
пришло время поэзии русских символистов, то, естественно, возник интерес к
творчеству Шелли и появился трехтомник в переводе Бальмонта, но сам Шелли
остался в тени, что лишь подчеркивает величие русской поэзии на переломе
веков, ничуть не умаляя при этом гений английского поэта.
В конце 1970-х гг. советская критика начала малопомалу забывать о
"революционном" романтизме (который какое-то время еще называли "активным"
романтизмом) Перси Биши Шелли, и отчасти этому способствовало предисловие к
тому "Поэзия английского романтизма XIX века", входившему в "Библиотеку
всемирной литературы", в котором Д. М. Урнов, если не ошибаюсь, в первый раз
уверенно заявил, что романтиков было много и все они были разными. Мысль,
казалось бы, не такая уж оригинальная для сегодняшнего дня, но для
тогдашнего времени, четко делившего всех поэтов и непоэтов на "про" и
"контра", - весьма многообещающая.
К счастью, обещания иногда исполняются, и через двадцать лет мы можем
читать стихи, поэмы, драмы Перси Биши Шелли, не подчиняя наше восприятие
идеологическим установкам, а стараясь, поелику возможно, понять великого
поэта, чье СЛОВО имело и имеет огромное значение для английской и
европейской словесности.
Перси Биши Шелли. Стихотворения
2. ЮНОШЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ.
Песня ирландца. Перевод Г. Симоновича
Республиканцам Северной Америки. Перевод А. Шараповой
К Ирландии. Перевод Г. Симоновича
Прогулки Дьявола. Перевод А. Шараповой
Монолог Вечного Жида. Перевод А. Шараповой
3. 1813-1815.
К... (Гляди, гляди...). Перевод К. Бальмонта
Стансы (Уходи! Потемнела равнина...). Перевод К. Бальмонта
К Харриэт. Перевод А. Шараповой
Изменчивость. Перевод В. Левика
О смерти. Перевод К. Бальмонта
Летний вечер на кладбище. Перевод Вс. Рождественского
Вордсворту. Перевод Б. Томашевского
Чувства республиканца при падении Наполеона. Перевод А. Голембы
4. 1816.
Гимн интеллектуальной красоте. Перевод В. Рогова.
5. 1817.
Лорду-канцлеру. Перевод А. Ларина
Смерть. Перевод В. Рогова
Озимандия. Перевод В. Микушевича
Критику. Перевод К. Бальмонта
6. 1818.
К Нилу. Перевод В. Левика
Минувшее. Перевод Б. Дубинина
Горесть. Перевод В. Топорова
Стансы, написанные в унынии вблизи Неаполя. Перевод В. Левика
Сонет (Узорный не откидывай покров...). Перевод В. Микушевича
7. 1819.
Мужам Англии. Перевод С. Маршака
Англия в 1819 году. Перевод В. Топорова
Увещание. Перевод В. Меркурьевой
Ода западному ветру. Перевод Б. Пастернака
Медуза Леонардо да Винчи во Флорентийской галерее. Перевод Р. Березкиной
Индийская серенада. Перевод Б. Пастернака
Философия любви. Перевод А. Ибрагимова
Наслаждение. Перевод Р. Березкиной
8. 1820.
Облако. Перевод В. Левика
Жаворонок. Перевод В. Левика
Ода свободе. Перевод В. Меркурьевой
К... (Я трепещу твоих лобзаний...). Перевод А. Шараповой
Аретуза. Перевод К. Чемена
Песнь Прозерпины. Перевод В. Микушевича
Гимн Аполлона. Перевод В. Рогова
Гимн Пана. Перевод В. Левика
Вопрос. Перевод В. Топорова
Лето и зима. Перевод С. Маршака
Башня Голода. Перевод В. Левика
Аллегория. Перевод В. Рогова
Странники мира. Перевод В. Микушевича
Минувшие дни. Перевод К. Бальмонта
Доброй ночи. Перевод А. Голембы
9. 1821.
Время. Перевод А. Голембы
Беглецы. Перевод А. Кочеткова
К... (Пусть отошли в былое страсти...). Перевод А. Шараповой
Превратность. Перевод К. Бальмонта
Государственное величие. Перевод К. Чемена
Вечер. Перевод В. Левика
Азиола. Перевод А. Голембы
Опошлено слово одно... Перевод Б. Пастернака
Завтра. Перевод Б. Гиленсона
10. 1822.
Разобьется лампада... Перевод Б. Пастернака
Магнетизируя больного. Перевод В. Меркурьевой
К Джейн с гитарой. Перевод А. Спаль
Эпитафия. Перевод А. Ларина
Островок. Перевод А. Голембы
Песня. Перевод С. Маршака
11. НЕДАТИРОВАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ, ФРАГМЕНТЫ.
Любовь, Желанье, Чаянье и Страх. Перевод К. Бальмонта
Джиневра. Перевод К. Бальмонта
Повстречались не так... Перевод К. Бальмонта
Сонет к Байрону. Перевод К. Бальмонта
Отрывок о Китсе. Перевод К. Бальмонта
Дух Мильтона. Перевод К. Чемена
Лавр. Перевод А. Шараповой
К Италии. Перевод К. Бальмонта
Комната Римлянина. Перевод К. Бальмонта
Тень Ада. Перевод А. Шараповой
12. ЮНОШЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ.
Песня ирландца
И звезды не вечны, и света лучи
Исчезнут в хаосе, утонут в ночи,
Обрушатся замки, разверзнется твердь,
Но дух твой, о Эрин, сильнее, чем смерть.
Смотрите! Руины вокруг, пепелища,
В земле похоронены предков жилища,
Враги попирают отечества прах,
А наши герои недвижны в полях.
Погибла мелодия арфы певучей,
Мертвы переливы родимых созвучий;
Взамен им проснулись аккорды войны,
Мертвящие кличи да копья слышны.
О, где вы, герои? В предсмертном порыве
Припали ли вы к окровавленной ниве,
Иль в призрачной скачке вас гонят ветра
И стонут, и молят: "К отмщенью! Пора!"
Республиканцам Северной Америки
13. I.
Пусть меж нами смерч жестокий,
Бездна пенящихся вод -
Братья! Внутреннее око
Сквозь туман распознает
Край ветров, где реют флаги
Не в крови - в соленой влаге...
И в могилах пульс Отваги
Биться не перестает;
Голосом ее Природа
Шепчет: "Смерть или Свобода!"
14. II.
Громче! Чтобы и рабы
Слышать этот клич могли бы;
Встав с колен на путь борьбы,
Сокрушили тюрьмы, дыбы,
Хладный оживив оплот.
Грех и горе прочь уйдет,
Свергнется кичливый плод,
В пепел изотрутся глыбы, -
А из праха огнь взойдет
И твердыни тюрьм сожжет!
15. III.
Котопахи! Пробужденье
Принеси громадам гор, -
Вспыхнет свет освобожденья
На лице твоих сестер.
Ты же, Океана бездна,
Что бросаешь бесполезно
Волны в мир, где плачут слезно
Жертвы Злобы с давних пор, -
Ветр, что грудь твою колышет,
Волей пусть отныне дышит!
16. IV.
Тщетно свет звезды дневной
Ласковым сияньем греет...
Флаг, запятнанный войной,
На руинах мира реет!
Только Мщенье сможет что-то
Там, где сердце патриота
Полно лишь одной заботой:
Как он встретить смерть сумеет!
Полно! С глаз вдовы-Любви
Плат соленый в гневе рви!
К Ирландии
Свершится, Эрин! Остров уязвленный
Зазеленеет, солнцем озаренный,
И ветерок, над нивами паря,
Обдаст теплом окружные моря!
Теперь стоят убоги и безлисты
Твои деревья, некогда тенисты,
(...) и им уж не цвести,
Погибших листьев им не обрести,
Покуда, хладом корни поражая,
Сбирает враг остатки урожая.
Я долго мог стоять,
О Эрин, над твоими берегами
И наблюдать, как волны беспрерывно
Кидаются на отмель, и казалось,
Что это Время молотком гигантским
Раскалывает Вечности твердыни.
Верши, титан, от битвы и до битвы,
Свой одинокий путь! Народы никнут
Под поступью твоею; пирамиды,
Что были столько лет неуязвимы
Для молний и ветров, уйдут в ничто.
И тот монарх величественно-грозный,
Он для тебя гнилушка в зимний день:
Прошествуешь - он прахом обернется.
Ты победитель, Время; пред тобою
Бессильно все, но не святая воля,
Но не душа, что до тебя была
И твой исход когда-нибудь увидит.
Прогулки Дьявола
17. I.
В тот день Отец всех зол еще перед рассветом
С постели встал.
Возился долго с туалетом
И по-воскресному себя убрал.
18. II.
Надел ботинки, чтобы скрыть копыта,
Чтоб не торчать когтям, перчатки натянул,
А место, где рога, под шляпой было скрыто.
И вот он на Бонд-стрит уверенно шагнул,
Разряженный, как денди знаменитый.
19. III.
Сопровождаемый бесенком верным,
На предрассветный Лондон он взирал;
То с другом рассуждал о новостях вчерашних,
То Бога бытие опровергал -
Покуда Солнца свет не заиграл на башнях.
20. IV.
К Святому Якову наведался рогатый,
И Павла он вниманьем не оставил.
Он с виду весел был, однако же лукавил:
В святых местах душа болит у Супостата.
21. V.
Замечу: Дьявол земледелье знал;
Поскольку же дурное всхоже семя,
А он и сеял хорошо и жал,
То жатву он снимал в любое время.
22. VI.
Во всякую щель, под любую постель
Залезал он, паству ища;
Когти были остры, и ухмылки хитры;
Взор горел, приводя в восхищенье людей,
Хоть они забирались под стол, трепеща.
23. VII.
В щель просунутый нос багровел, как кумач...
А беспечное племя земное
Занималось решеньем нехитрых задач:
Тот наряд примерял, тот расписывал мяч -
Но Нечистый видел иное.
24. VIII.
Перед носом священника в храме
Весь молебен он отсидел.
- Пастор, можно ли ладить с такими гостями?
- Что вы! Я бы не потерпел!
Бес вздохнул: "Болтовня!
Он-то видел меня,
Просто понял давно: без меня не дано
Обойтись никакому из дел!"
25. IX.
Затем он побывал и при дворе монарха.
Там было суетно и жарко,
И все это ему напоминало Ад.
У трона поиграть позвали бесенят.
И свита слушала, как крылья их шумят.
26. X.
Дьявол молвил: "Ну что же! Пастбище есть -
Моя скотинка не захиреет,
Крови сможет напиться, мясца поесть -
Мертвечины хоть отбавляй на ужин,
И сон не будет никем нарушен -
И она, как родня ее, разжиреет;
27. XI.
Как те стервятники, что пьют
В полях испанских кровь людей,
Где лемех плуга обагрен,
Где зерна в борозде гниют,
Где побеждающий - злодей
И мукам Ада обречен;
28. XII.
Как птица Эрина, что вершит
Свой пир на трупах тех, кто убит,
А после над Каслеро кружит
И мертвых сыновей сердца
Рвет злобно из горстей отца -
И на заре домой летит;
29. XIII.
Как черви могильных ям,
Что мертвого осадили, -
Они родились и подохнут там,
Извиваясь в зловонной гнили;
30. XIV.
Точно наш ленивый дофин,
За игрушку сладость отдавший,
Чуть-чуть поигравший
И просящий конфету, как мальчик-кретин.
31. XV.
Его камзола две половины
Не сходятся - лезет по швам вдоль спины!
А его панталон штанины
Круглы, словно две луны.
32. XVI.
Когда жратвой напичкается он
От глупой головы до пят, -
То видно, как слегка дрожат
Два полулунья панталон.
33. XVII.
Бес (иль Природа?) безразличья
Не знает к тем, кто власть стяжал:
Штришок малейший их обличья
Все скажет про оригинал...
34. XVIII.
Обвившую ножку стола змею
Пристукнул судья, и подумал Дьявол,
Глядя на змейку и на судью:
Это были Каин и Авель.
35. XIX.
Как йомен гуляет среди хлебов
И, радуясь от души
При виде тучных коров,
Поет и считает свои гроши, -
Так Дьявол, гуляя по нашей земле,
Поет и считает свои барыши.
36. XX.
Блажен, кто носит красный цвет:
Ведь этот цвет любезен бесу,
И кто, из нищеты и бед
Придя, сумел добиться весу,
И кто, покинув высший свет,
Взял посох и подался к лесу.
37. XXI.
Епископ толст, и он в чести.
Худ адвокат, в чести и он.
Парик иль плащ любой почти
Сверканьем Ада озарен.
38. XXII.
Свинью звать чистой - сущий вздор,
Хоть ест отборное зерно;
В пир превращен весь день обжор -
Их мясо постно все равно!
39. XXIII.
До чего же весел владыка Ада!
До ушей растянулся рот.
Вот он скинул плащ, хохоча до упада,
Отбивает курбеты, плеща крылом,
Злобно выдвинул жало, ползет бочком -
Словом, во всей красоте грядет.
40. XXIV.
Дело в том, что его посетил сановник.
И Дьявол, кокетливо лебезя,
Словно девка, к которой пришел любовник,
Кажет что можно и что нельзя.
41. XXV.
Знакомый жест, пригласительный взгляд -
Демоны видят, что он их не бросит впредь,
И уже стигийских стрекоз отряд
Расправил крылышки, чтоб лететь.
42. XXVI.
Алеет кровь на лаврах благородных,
Закона осеняющих чело;
Погибель, Горе, Срам - три пса голодных -
По стогнам рыщут, озираясь зло.
Их всех Испания влечет:
Там человеческая кровь течет.
43. XXVII.
Чу! Трещит земли средина,
Победители дрожат,
В страхе черная скотина,
Сатанинский хвост поджат!
44. XXVIII.
Бесовской армии солдаты
В честь властелина пир творят...
Но створы адамантных врат
Кровавым пламенем объяты.
45. XXIX.
И острый взор, огонь Рассудка,
Скользнул по лику Сатаны.
И фосфорные табуны
Перепугались. Разве шутка?
46. XXX.
Царь-Рассудок молчаливо
Посмотрел за край небес,
Где метался бледный бес,
Как душа его, трусливый.
Монолог Вечного Жида
О, Вечный, Триединый Боже Сил,
Ты ль колесо Судьбы остановил,
В Ад заточил меня и держишь там?
Ужли и гром сожечь меня не в силах,
И меч отступит, кровь оставив в жилах?
Пусть так. В дом Гибели приду я сам -
Расшевелю ее в берлоге сонной
И разбужу, дразня, в ней гнев законный.
Есть факел в тайниках ее унылых
Для моего костра! Я буду храбр.
О Ты, Земли тиран, страданья раб,
Я знаю, в закромах Возмездья есть
Убийце уготованная месть!
Я голову с презреньем запрокину
Под ядовитым облаком Твоим!
Где ветер Твой, в дни гнева Палестину
Дыханием наполнивший чумы?
Где царь Возмездия, что в волн пучину
Низвергнул древле ассириян тьмы,
Твоею волею руководим?
Где черный демон, мрачный дух Корана,
Потрясший города во время сна?
Где меч двуострый, райских кущ охрана,
Что от блаженства отлучил людей?
Не пращуров карал ты заблужденья -
Ты правнуков предвидел преступленья!
Теперь я кары требую своей!
Тиран! И я Твой трон хвалой украшу,
Лишь дай испить желанной смерти чашу!
47. 1813-1815.
48. К....
Гляди, гляди - не отвращай свой взгляд!
Читай любовь в моих глазах влюбленных,
Лучи в них отраженные горят,
Лучи твоих очей непобежденных.
О, говори! Твой голос - вздох мечты,
Моей души восторженное эхо.
В мой взор взглянув, себя в нем видишь ты,
Мне голос твой - ответная утеха.
Мне чудится, что любишь ты меня,
Я слышу затаенные признанья,
Ты мне близка, как ночь сиянью дня,
Как родина в последний миг изгнанья!
Стансы
Уходи! Потемнела равнина,
Бледный месяц несмело сверкнул.
Между быстрых вечерних туманов
Свет последних лучей утонул.
Скоро ветер полночный повеет,
Обоймет и долины, и лес
И окутает саваном черным
Безграничные своды небес.
Не удерживай друга напрасно.
Ночь так явственно шепчет: "Иди!"
В час разлуки замедли рыданья.
Будет время для слез. Погоди.
Что погибло, тому не воскреснуть,
Что прошло, не вернется назад;
Не зажжется, не вспыхнет любовью
Равнодушный скучающий взгляд.
Одиночество в дом опустелый,
Как твой верный товарищ, придет,
К твоему бесприютному ложу
В безысходной тоске припадет.
И туманные легкие тени
Будут реять полночной порой,
Будут плакать, порхать над тобою,
Точно тешась воздушной игрой.
Неизбежно осенние листья
С почерневших деревьев летят;
Неизбежно весенним полуднем
Разливают цветы аромат.
Равномерной стопою уходят -
День, неделя, и месяц, и год;
И всему на земле неизбежно
Наступает обычный черед.
Перелетные быстрые тучки
Отдыхают в час общего сна;
Умолкает лепечущий ветер,
В глубине засыпает луна.
И у бурного гневного моря
Утихает томительный стон;
Все, что борется, плачет, тоскует,
Все найдет предназначенный сон.
Свой покой обретешь ты в могиле,
Но пока к тебе смерть не пришла,
Тебе дороги - домик, и садик,
И рассвет, и вечерняя мгла.
И пока над тобой не сомкнулась
Намогильным курганом земля,
Тебе дороги детские взоры,
Смех друзей и родные поля.
К Харриэт
Дано смирять мятежность нашу
Исполненным любви глазам,
И нежность бросит в жизни чашу
Целительный бальзам.
Все беды минут во мгновенье:
Я избран! Мне - благословенье!
О Харриэт! Кто раз испил
До дна твой взор лучистый,
Тот сумрак жизни победил...
Но, друг мой, в страсти чистой
Признаться я не поспешил -
И тем презренье заслужил.
О Харриэт, в твоих лишь силах
Не очерстветь средь суеты;
Меж ненавистников унылых
Добра, нежна лишь ты,
И хрупкая твоя отвага
Заменит мне земные блага.
Твой друг в страданьях изнемог,
Черты как неживые.
Твое лишь имя, слышит Бог,
Твердят уста больные...
Но не цели его недуг:
Страшится здравья он, не мук.
Я отвергаю уверенья,
Что ты - мой гений злой.
То гордости и озлобленья
Был голос, а не твой.
Но гордость краше есть, чем эта:
Пусть не люби - жалей поэта!
Изменчивость
Мы, словно облака вокруг луны, -
Летим сквозь ночь, трепещем и блистаем.
Сомкнется тьма - и вмиг поглощены,
Мы навсегда бесследно исчезаем.
Мы точно звуки несогласных лир -
Ответ наш разный разным дуновеньям.
Не повторит на хрупких струнах мир
То, что с прошедшим отошло мгновеньем.
Мы спим - расстроен сновиденьем сон.
Встаем - мелькнувшей мыслью день отравлен.
Веселье, плач, надежда, смех и стон -
Что постоянно в мире? Кто избавлен
От вечных смен? - Для них свободен путь.
Ни радость, ни печаль не знают плена.
И день вчерашний завтра не вернуть.
Изменчивость - одна лишь неизменна.
О смерти
Потому что в могиле, куда
ты пойдешь, нет ни работы, ни
размышления, ни знания, ни мудрости.
Екклезиаст
Еле зримой улыбкой, лунно-холодной,
Вспыхнет ночью безлунной во мгле метеор,
И на остров, окутанный бездной бесплодной,
Пред победой зари он уронит свой взор.
Так и блеск нашей жизни на миг возникает
И над нашим путем, погасая, сверкает.
Человек, сохрани непреклонность души
Между бурных теней этой здешней дороги,
И волнения туч завершатся в тиши,
В блеске дивного дня, на лучистом пороге,
Ад и рай там оставят тебя, без борьбы,
Будешь вольным тогда во вселенной судьбы.
Этот мир есть кормилец всего, что мы знаем,
Этот мир породил все, что чувствуем мы,
И пред смертью - от ужаса мы замираем,
Если нервы - не сталь, мы пугаемся тьмы,
Смертной тьмы, где - как сон, как мгновенная тайна,
Все, что знали мы здесь, что любили случайно.
Тайны смерти пребудут, не будет лишь нас,
Все пребудет, лишь труп наш, остывши, не дышит,
Поразительный слух, тонко созданный глаз
Не увидит, о нет, ничего не услышит,
В этом мире, где бьются так странно сердца,
В здешнем царстве измен, перемен без конца.
Кто нам скажет рассказ этой смерти безмолвной?
Кто над тем, что грядет, приподнимет покров?
Кто представит нам тени, что скрыты, как волны,
В лабиринтной глуши многолюдных гробов?
Кто вольет нам надежду на то, что настанет,
С тем, что здесь, что вот тут, что блеснет и обманет?!
Летний вечер на кладбище
Уже горит в рассеявшемся дыме
Полоска предзакатного огня,
Ночь заслонила косами своими
Объятые истомой очи дня.
Туда, где скоро в тьму сольются,
Безмолвие и Сумерки крадутся.
Дню ускользающему заклинанья
Шлют вслед они, царя над всей землей,
Но свет, и звук, и темных нив дыханье
Им отвечают тайною ночной.
Затихли ветры, и трава безмолвна
На кладбище у церкви, мраком полной.
Ты, здание, чьи колокольни-сестры,
Как пламя, над землею вознеслись,
Объято тоже тьмой. Но шпиль твой острый
Еще горит, пронзив ночную высь.
А там, на высоте недостижимой,
В сиянье звезд проходят тучи мимо.
Здесь мертвые покоятся в могилах,
Но в тишине вдруг возникает звук -
Мысль или чувство? - из земли унылой
Встает он, заполняя все вокруг,
И, с небом, с ночью слитый воедино,
Плывет, как смутный шорох над долиной.
Смерть кажется и нежной и смягченной,
Сокрывшей от людей весь ужас свой,
И верю я, как мальчик, увлеченный
Игрою средь могил, что их покой
О тайне величавой нам не скажет,
Что лучшие из снов у ней на страже.
Вордсворту
Поэт Природы, ты горюешь вновь
О том, что минуло и не вернется.
Дни детства, юность, дружба и любовь -
Об этих снах грустить лишь остается.
Я знаю эту грусть. Но никогда
Ты не делил со мной другой печали...
Ты, словно одинокая звезда,
Мерцал над шхуной в бурном, зимнем шквале.
Ты неприступной высился скалой
Над ослепленной, яростной толпой...
В почетной бедности всегда стремился
К Свободе, к Правде твой звенящий стих...
Таков ты был, теперь ты изменился, -
О, как мне жаль, что ты забыл о них!
Чувства республиканца при падении Бонапарта
Поверженный тиран! Мне было больно
Прозреть в тебе жалчайшего раба,
Когда тебе позволила судьба
Плясать над гробом Вольности... Довольно!
Ты мог бескровно утвердить свой трон,
Но предпочел резню в пышнейшем стиле;
Ты памяти своей нанес урон,
К забвению тебя приговорили!
Насилье, Сладострастие и Страх -
Твоих кошмаров пагубный народец.
Ты шествуешь в забвенье, Полководец!
С тобой простерлась Франция во прах.
Но у Добра есть худший враг - химеры
Повиновенья, ослепленность веры!
49. 1816.
Гимн интеллектуальной красоте
Незримого Начала тень, грозна,
Сквозь мир плывет, внушая трепет нам,
И нет препон изменчивым крылам -
Так ветра дрожь среди цветов видна;
Как свет, что льет на лес в отрогах гор луна,
Ее неверный взор проник
В любое сердце, в каждый лик,
Как сумрак и покой по вечерам,
Как тучки в звездной вышине,
Как память песни в тишине,
Как все, что в красоте своей
Таинственностью нам еще милей.
Куда ты скрылся, Гений Красоты,
Свой чистый свет способный принести
Телам и душам в их земном пути?
Зачем, исчезнув, оставляешь ты
Юдоль скорбей и слез добычей пустоты?
Зачем не можешь, солнце, век
Ткать радуги над гладью рек?
Зачем все сущее должно пройти,
А жизнь и смерть, мечта и страх
Мрак порождает в наших днях?
Зачем исполнен род людской
Любовью, гневом, грезами, тоской?
Вовек из горных сфер на то ответ
Провидец и поэт не получил,
Затем-то Демон, Дух и Хор Светил -
Слова, что обличают много лет
Бессилие умов, и чар всесильных нет,
Способных с глаз и духа снять
Сомненья вечную печать,
Твой свет лишь, как туман, что горы скрыл,
Иль звуки, что, звеня струной,
Рождает ветерок ночной,
Или ручей, луной зажжен,
Привносит правду в наш тяжелый сон.
Любви, Надежд, Величья ореол,
Подобно облаку, растает вмиг;
Да, человек бессмертья бы достиг
И высшее могущество обрел,
Когда б в его душе воздвигнул ты престол,
Предвестник чувств, что оживят
Изменчивый влюбленный взгляд,
О жизнетворный разума родник,
Меня целишь ты - так в ночи
Виднее слабые лучи!
Останься, чтоб могильный прах
Не стал мне явью, словно жизнь и страх.
Блуждал я в детстве по ночным лесам,
В пещеры шел, среди руин бродил,
Мечтая вызвать мертвых из могил,
Вопрос о высшем обратить к теням.
Взывал я к пагубным для юных именам,
И все ж ответа не слыхал.
Но я однажды размышлял
О бытии, а ветер приносил
Предвестья радостные мне
О певчих птицах, о весне -
И мне предстала тень твоя,
И с воплем руки сжал в экстазе я!
Тебе я был пожертвовать готов
Все силы - и нарушен ли обет?
Дрожа, рыдая, через много лет
Зову я тени тысячи часов
Из сумрака могил, - любви и мысли кров
Их привечал, они со мной
Перемогали мрак ночной;
Чело мне озарял отрады свет
Лишь с думой, что от тяжких пут
Твои усилья мир спасут
И, грозный, то несешь ты нам,
Чего не выразить моим словам.
Свет пополудни безмятежно строг,
И осени гармония дана:
В те дни лучами твердь озарена,
Каких не знает летний солнцепек,
Каких представить он вовеки бы не мог!
О Дух, о юности оплот,
Да будет от твоих щедрот
Покоем жизнь моя теперь полна;
Внуши тому, кто чтит тебя
И все, вместившее тебя,
Дух светлый, чарою твоей
Себя бояться и любить людей.
50. 1817.
Лорду-канцлеру
Ты проклят всей страной. Ты яд из жала
Гигантской многокольчатой змеи,
Которая из праха вновь восстала
И гложет все - от духа до семьи.
Ты проклят всеми. Воет правосудье,
Рыдает правда, стонет естество,
И золото - растления орудье -
Изобличает злобы торжество.
Пока архангел в безразличье сонном
С судом верховным явно не спешит
И, безучастный к всенародным стонам.
Тебе в твоих злодействах ворожит,
Пусть вгонит в гроб тебя слеза отцова,
А стон дочерний в крышку гвоздь вобьет,
Пусть наше горе саваном свинцовым
Тебя к червям навеки упечет.
Кляну тебя родительской любовью,
Которую ты хочешь в прах втоптать,
Моей печалью, стойкою к злословью,
И нежностью, какой тебе не знать.
Приветливой улыбкою ребячьей,
Которая мой дом не будет греть, -
Потушен злобой жар ее горячий,
И стыть ему на пепелище впредь.
Бессвязною младенческою речью,
В которую отец хотел вложить
Глубины знанья - тяжкое увечье
Грозит умам детей. Ну как мне жить?
Биеньем жизни, резвостью и прытью,
С какой ребенок крепнет и растет
(Хотя сулят грядущие событья
Не только радость, но мильон забот),
Тенетами убийственной опеки,
Вогнавшей горечь в юные сердца, -
Откуда столько злобы в человеке,
Чтоб в детском сердце умертвить отца?
Двуличием, которое отравит
Само дыханье нежных детских губ
И, въевшись в разум, мозга не оставит,
Пока в могилу не опустят труп,
Твоею преисподней, где злодейства
Готовятся во тьме в урочный час
Под пеленою лжи и фарисейства,
В которых ты навек душой погряз,
Твоею злобой, похотью звериной,
Стяжательством и жаждой слез чужих,
Фальшивостью, пятнающей седины, -
Защитой верной грязных дел твоих,
Твоим глумленьем, мягкостью притворной,
И - так как ты слезлив, как крокодил, -
Твоей слезой - она тот самый жернов,
Который никого б не пощадил,
Издевкой над моим отцовским чувством,
Мучительством, злорадным и тупым, -
С каким умением, с каким искусством
Ты мучаешь! - отчаянием моим,
Отчаянием! Оно мне скулы сводит:
"Я больше не отец моих детей.
Моя закваска в их сознанье бродит,
Но их растлит расчетливый злодей".
Кляну тебя, хоть силы нет для злобы.
Когда б ты стал честнее невзначай,
Благословением на крышку гроба
Легло б мое проклятие. Прощай.
Смерть
Навек ушли умершие, и Горе,
У гроба сидя, их зовет назад, -
Седой юнец с отчаяньем во взоре, -
Но не вернутся друг, невеста, брат
На еле слышный зов. Лишь именами
От нас ушедшие остались с нами,
Лишь мука для души больной -
Могилы предо мной.
О Горе, лучший друг, не плачь! Когда-то,
Я помню, вместе любовались мы
На этом месте заревом заката,
Все безмятежно было, но, увы,
Тому, что минуло, не возвратиться,
Ушли надежды, седина сребрится,
Лишь мука для души больной -
Могилы предо мной.
Озимандия
Рассказывал мне странник, что в пустыне,
В песках, две каменных ноги стоят
Без туловища с давних пор поныне.
У ног - разбитый лик, чей властный взгляд
Исполнен столь насмешливой гордыни,
Что можно восхититься мастерством,
Которое в таких сердцах читало,
Запечатлев живое в неживом.
И письмена взывают с пьедестала:
"Я Озимандия. Я царь царей.
Моей державе в мире места мало.
Все рушится. Нет ничего быстрей
Песков, которым словно не пристало
Вокруг развалин медлить в беге дней".
Критику
С шелковичных червей соберет ли кто медь,
Или шелк у пчелы золотистой?
Чувство злобы во мне так же скоро блеснет,
Как под вьюгою ландыш душистый.
Лицемеров, ханжей всей душой ненавидеть,
Или тех, кто поносит бесчестно;
Равным чувством легко им тебе отплатить,
Им воздушность моя неизвестна.
Иль раба отыщи, что в богатство влюблен,
Предсказать я вам дружбу сумею;
Но притворщик скорей будет правдой пленен,
Чем подвигнут я злобой твоею.
То, что чувствую я, невозможно дробить,
Никого не хочу я обидеть;
Ненавижу в тебе, что не можешь любить, -
Как могу я тебя ненавидеть?
51. 1818.
К Нилу
Дожди, дожди три месяца подряд
Скрывают эфиопские долины.
Среди пустыни - льдистые вершины,
Где зной и холод, братствуя, царят.
В горах Атласа влажный снегопад,
И обдувает буря край пустынный,
И мчит на Север нильские стремнины,
Где вал морской встречает их, как брат.
В Египте, на Земле Воспоминаний,
Среди своих, о Нил, твой ровен бег.
Там яд и плод - все от твоих даяний,
В них зло и благо емлет человек.
Усвой, живущий жизнью быстротечной:
Как вечный Нил, должна быть Мудрость вечной.
Минувшее
О тех мгновеньях позабудешь ты?
В тени Любви мы их похоронили,
Чтоб милых тел, не отданных могиле,
Касались только листья и цветы.
В цветах - отрада, что давно мертва,
В листве - надежда, что угаснет вскоре.
Забыть мгновенья, что погребены?
Но смутный ум раскаяньем томится,
Но память сердцу тягостней гробницы,
Но суд вершат непрошеные сны,
Шепча зловещие слова:
"Минувшая отрада - горе!"
Горесть
Слава богу! Прочь унынье!
В полуночной темной сини
Озаренная луной
Бесприютная княгиня
Горесть - снова ты со мной.
Слава богу! Прочь унынье!
Горесть, скорбная княгиня,
Наши помыслы близки,
И печаль моя отныне -
Только тень твоей тоски.
Горесть! Как сестру и брата
Нас оставили когда-то,
Бросили в пустынный дом.
Годы сгинут без возврата,
Мы останемся вдвоем.
Так на нас бросали жребий,
Так за нас решали в небе,
Но когда б Любовь взялась
Жить на Горя черством хлебе -
Так и звали б нашу связь!
Прочь унынье... Сядем рядом,
Обводя влюбленным взглядом
Речку, рощу, сонный луг.
Чу! Кузнечик... птица... - Адом
Не зови земли, мой друг.
Как привольно-величавы
Эти рощи! Эти травы
Как раздольно зелены!
Только мы - о боже правый -
Неизменно холодны.
Неизменно? - Нет, едва ли:
Наши взоры заблистали,
Шепчешь, вздрагиваешь, ждешь.
Горесть нежная! Печали
Нашей прежней - не вернешь.
Поцелуй... О нет! - иного
Жду лобзанья! Снова! Снова!
Поцелуи мертвеца
Жарче этих. Сбрось оковы!
Стань живою до конца!
Горесть! Горесть! Друг мой милый!
На краю сырой могилы
Чувство нечего скрывать.
Спит уныло мир постылый...
Горесть, хватит горевать!
Пусть сердца - в одно срастутся,
Тени пусть - в одну сольются,
И, когда настанет миг,
Пусть над нами раздаются
Вешний шум и птичий крик!
И уснем... уснем, как будто
Мы не знали тайной смуты.
Мы уснем с тобой вдвоем.
Стряхнув земные путы,
Сном забвенья мы уснем.
Смейся ж, горести не зная!
Смейся, горесть неземная,
Над тенями, над людьми!
Тучей звезды застилая,
Крылья, горесть, распрями!
Люди, как марионетки,
Скачут в пошлой оперетке
Без надежды на успех.
Горесть! Бросим им объедки
Наших дум - пусть смолкнет смех!
Стансы, написанные в унынии вблизи Неаполя
52. I.
Сияет солнце, даль ясна,
Вся в блестках, пляшет зыбь морская,
И снежных гор голубизна
Бледнеет, в блеске полдня тая.
Все юно, как в преддверье мая,
И от земли струится свет,
И где-то суета людская,
Крик чаек, ветра шум в ответ,
Безлюдье, тишина, приюта лучше нет!
53. II.
Над зыбкой мглой зеленый, алый
Сплетен из водорослей сад.
Омыт песок волною шалой,
И свет над ней - как звездопад.
Но я на берегу один,
Гляжу на взблески волн уныло,
Внимаю звукам из глубин...
Где сердце то, что сердцу мило,
Что все оттенки чувств со мной бы разделило?
54. III.
Увы! Нет мира и в тиши,
Я болен, и надежд не стало.
Нет даже тех богатств души,
Что в мысли Мудрость обретала,
Когда не внешностью блистала.
Любовь и праздность, слава, власть.
Все - тем, которых в мире мало,
Кто наслаждаться может всласть.
И в том их жизнь. А мне - дана другая часть.
55. IV.
Под эти солнцем усмирится
Само отчаянье. Но мне,
Как в детстве, б наземь повалиться
И плакать, плакать в тишине
О том, что я - по чьей вине? -
Влачу в тревогах век бесплодный,
Пока к земле, в последнем сне,
Не припаду щекой холодной
Море не споет усопшему отходной.
56. V.
Пусть скажут все: в нем сердца нет!
Так под вечерним небосклоном,
Вдруг постарев, угасший свет
Я проводил едва ль не стоном.
Пусть скажут! Чуждый их законам,
Я нелюбим. Но жаль, не мог
Блеснуть хоть сходством отдаленным
С тем днем, что в радости поблек
И память радует, как лучших дней залог.
Сонет
Узорный не откидывай покров,
Что жизнью мы зовем, пока живем,
Хотя, помимо призрачных даров,
Не обретаем ничего на нем;
Над бездною, где нет иных миров,
Лишь судьбы наши: страх с мечтой вдвоем.
Я знал того, кто превозмог запрет,
Любви взыскуя нежным сердцем так,
Что был он там, где никакой привет
Не обнадежит нас, где только мрак;
Неосторожный шел за шагом шаг,
Среди теней блуждающий просвет,
Дух в чаянье обетованных благ,
Взыскуя истины, которой нет.
57. 1819.
Мужам Англии
Англичане, почему
Покорились вы ярму?
Отчего простой народ
Ткет и пашет на господ?
Для чего вам одевать
В шелк и бархат вашу знать,
Отдавать ей кровь и мозг,
Добывать ей мед и воск?
Пчелы Англии, зачем
Создавать оружье тем,
Кто оставил вам труды,
А себе берет плоды?
Где у вас покой, досуг,
Мир, любовь, семейный круг,
Хлеб насущный, теплый дом,
Заработанный трудом?
Кто не сеет - жатве рад,
Кто не ищет - делит клад,
И мечом грозит не тот,
Кто в огне его кует.
Жните хлеб себе на стол,
Тките ткань для тех, кто гол.
Куйте молотом металл,
Чтобы вас он защищал.
Вы, подвальные жильцы,
Лордам строите дворцы,
И ваши цепи сотней глаз
Глядят с насмешкою на вас.
Могилу роет землекоп,
Усердный плотник ладит гроб,
И белый саван шьет швея
Тебе, Британия моя!
Англия в 1819 году
Слепой старик и вечно в дураках -
Король. Ублюдки-принцы - даже этой
Семейки срам, чей Кембридж - в кабаках, -
Грязнее грязи, сволочь, сброд отпетый.
Пиявки щеголяют в париках,
Убийцы нацепляют эполеты,
Народ стращая - загнанный в правах,
Голодный, босоногий и раздетый.
Незыблемый Закон, нагнавший страх
На всех, кто не златит его кареты,
Продажная религия в церквах,
Продажных депутатов пируэты -
Вот Англия! Вот кладбище! - О, где ты,
Кровавый призрак с пламенем в очах?
Увещание
Пьет воздух, свет хамелеон,
Славу и любовь - поэт.
Если б находил их он
В сем обширном мире бед,
Не была ли б, всякий час,
Краска у него не та, -
Как хамелеон цвета
Сменит, свету напоказ,
В сутки двадцать раз?
Скрыт поэт с рожденья дней
Средь земных холодных сфер,
Как хамелеон в своей
Глубочайшей из пещер.
Свет блеснет - сменен и цвет;
Нет любви, поэт - иной.
Слава - грим любви; и той
И другой стремясь вослед,
Мечется поэт.
Не смейте вольный ум поэта
Богатством, властью принижать!
Если б что-нибудь, кроме света,
Мог хамелеон глотать, -
Он бы в ящерицы род
Перешел - сестры земной.
Дух залунный, сын иной
Солнечной звезды высот,
О, беги щедрот!
Ода западному ветру
58. I.
О буйный ветер запада осенний!
Перед тобой толпой бегут листы,
Как перед чародеем привиденья,
То бурей желтизны и красноты,
То пестрым вихрем всех оттенков гнили;
То голых пашен черные пласты
Засыпал семенами в изобилье.
Весной трубы пронзительный раскат
Разбудит их, как мертвецов в могиле,
И теплый ветер, твой весенний брат,
Взовьет их к жизни дудочкой пастушьей,
И новою листвой оденет сад.
О дух морей, носящийся над сушей!
Творец и разрушитель, слушай, слушай!
59. II.
Ты гонишь тучи, как круговорот
Листвы, не тонущей на водной глади,
Которую ветвистый небосвод
С себя роняет, как при листопаде.
То духи молний, и дожди, и гром.
Ты ставишь им, как пляшущей менаде,
Распущенные волосы торчком
И треплешь пряди бури. Непогода -
Как бы отходный гробовой псалом
Над прахом отбывающего года.
Ты высишь мрак, нависший невдали,
Как камень громоздящегося свода
Над черной усыпальницей земли.
Там дождь, и снег, и град. Внемли, внемли!
60. III.
Ты в Средиземном море будишь хляби
Под Байями, где меж прибрежных скал
Спит глубина, укачанная рябью,
И отраженный остров задремал,
Топя столбы причалов, и ступени,
И темные сады на дне зеркал.
И, одуряя запахом цветений,
Пучина расступается до дна,
Когда ты в море входишь по колени.
Вся внутренность его тогда видна,
И водорослей и медуз тщедушье
От страха покрывает седина,
Когда над их сосудистою тушей
Твой голос раздается. Слушай, слушай!
61. IV.
Будь я листом, ты шелестел бы мной.
Будь тучей я, ты б нес меня с собою.
Будь я волной, я б рос пред крутизной
Стеною разъяренного прибоя.
О нет, когда б, по-прежнему дитя,
Я уносился в небо голубое
И с тучами гонялся не шутя,
Тогда б, участник твоего веселья,
Я сам, мольбой тебя не тяготя,
Отсюда улетел на самом деле.
Но я сражен. Как тучу и волну
Или листок, сними с песчаной мели
Того, кто тоже рвется в вышину
И горд, как ты, но пойман и в плену.
62. V.
Дай стать мне лирой, как осенний лес,
И в честь твою ронять свой лист спросонья.
Устрой, чтоб постепенно я исчез
Обрывками разрозненных гармоний.
Суровый дух, позволь мне стать тобой!
Стань мною иль еще неугомонней!
Развей кругом притворный мой покой
И временную мыслей мертвечину.
Вздуй, как заклятьем, этою строкой
Золу из непогасшего камина.
Дай до людей мне слово донести,
Как ты заносишь семена в долину.
И сам раскатом трубным возвести:
Пришла Зима, зато Весна в пути!
Медуза Леонардо да Винчи во Флорентийской галерее
В зенит полночный взоры погружая,
На крутизне покоится она,
Благоговенье местности внушая,
Как божество, прекрасна и страшна;
Грозою огнедышащей сражая,
Таит очей бездонных глубина
Трагическую тайну мирозданья
В агонии предсмертного страданья.
Не страхом - красотой непреходящей
Пытливый разум в камень обращен;
Тогда чертам недвижимо лежащей
Ее характер будет возвращен,
Но мысли не вернуться уходящей;
Певучей красоты прольется звон
Сквозь тьму и вспышки боли, чья извечность
В мелодию вдохнула человечность.
Из головы ее, от стройной шеи,
Как водоросли средь морских камней,
Не волосы растут - живые змеи
Клубятся и сплетаются над ней,
Как в бесконечном вихре суховеи.
В мельканье беспорядочных теней
Насмешливое к гибели презренье
И духа неземное воспаренье.
Из-за скалы тритон ленивым взглядом
Сверлит ее недвижные зрачки,
Нетопыри порхают с нею рядом,
Бессмысленные делая скачки.
Встревоженные огненным разрядом,
Из тьмы они летят, как мотыльки,
На пламя, ослепляющее очи,
Безжалостнее мрака бурной ночи.
Ужасного хмельное наслажденье!
В змеящейся поверхности резной
Горит греха слепое наважденье,
Окутанное дымкою сквозной,
Где, появляясь, тает отраженье
Всей прелести и мерзости земной.
Змееволосой улетают взоры
От влажных скал в небесные просторы.
Индийская серенада
63. I.
В сновиденьях о тебе
Прерываю сладость сна,
Мерно дышащая ночь
Звездами озарена.
В грезах о тебе встаю
И, всецело в их плену,
Как во сне, переношусь
Чудом к твоему окну.
64. II.
Отзвук голосов плывет
По забывшейся реке.
Запах трав, как мысли вслух,
Носится невдалеке.
Безутешный соловей
Заливается в бреду.
Смертной мукою и я
Постепенно изойду.
65. III.
Подыми меня с травы.
Я в огне, я тень, я труп.
К ледяным губам прижми
Животворный трепет губ.
Я, как труп, похолодел.
Телом всем прижмись ко мне,
Положи скорей предел
Сердца частой стукотне.
Философия любви
Ручьи вливаются в реки,
Реки бегут к низовью.
Ветры сплелись навеки
В ласках, полных любовью.
Все замкнуто тесным кругом.
Волею неземною
Сливаются все друг с другом, -
Почему же ты не со мною?
Небо целует горы.
Волн распахнулись объятья.
Отвергнутые - шлют укоры
Розам кичливым их братья.
Потоки лунного света
Ластятся к синей глади.
Но на что мне, скажите, все это,
Если ты со мною в разладе?
Наслаждение
В день земного нарожденья
Родилося Наслажденье;
Из небесной легкой плоти,
Нежной музыкой в полете,
В кольцах белого тумана,
Из певучего дурмана,
Среди сосен, что шумели
У озерной колыбели,
Невесомо воспарило
Животворное ветрило.
Гармонической, сквозной,
Невесомой пеленой,
Лучезарна и чиста,
Обвилась вокруг мечта.
66. 1820.
Облако
67. I.
Я влагой свежей морских побережий
Кроплю цветы весной,
Даю прохладу полям и стаду
В полдневный зной.
Крыла раскрою, прольюсь росою,
И вот ростки взошли,
Поникшие сонно на влажное лоно
Кружащейся в пляске Земли.
Я градом хлестну, как цепом по гумну,
И лист побелеет, и колос.
Я теплым дождем рассыплюсь кругом,
И смех мой - грома голос.
68. II.
Одену в снега на горах луга,
Застонут кедры во мгле,
И в объятьях метели, как на белой постели,
Я сплю на дикой скале.
А на башнях моих, на зубцах крепостных
Мой кормчий, молния, ждет.
В подвале сыром воет скованный гром
И рвется в синий свод.
Над сушей, над морем по звездам и зорям
Мой кормчий правит наш бег,
Внемля в высях бездонных зовам дивов влюбленных,
Насельников моря и рек.
Под водой, в небесах, на полях, в лесах
Ночью звездной и солнечным днем,
В недрах гор, в глуби вод, мой видя полет,
Дух, любимый им, грезит о нем
И слепит, как бегу я, грозя и ликуя,
Расточаясь шумным дождем.
69. III.
Из-за дальних гор, кинув огненный взор,
В красных перьях кровавый восход
Прыгнул, вытеснив тьму, на мою корму,
Солнце поднял из дальних вод.
Так могучий орел кинет хмурый дол
И взлетит, золотясь, как в огне,
На утес белоглавый, сотрясаемый лавой,
Кипящей в земной глубине.
Если ж воды спят, если тихий закат
Льет на мир любовь и покой,
Если, рдян и блестящ, алый вечера плащ
Упал на берег морской,
Я в воздушном гнезде дремлю в высоте,
Как голубь, укрытый листвой.
70. IV.
Дева с огненным ликом, в молчанье великом
Надо мной восходит луна,
Льет лучей волшебство на шелк моего
Размятенного ветром руна.
Пусть незрим ее шаг, синий гонит он мрак,
Разрывает мой тонкий шатер,
И тотчас же в разрыв звезды, дух затаив,
Любопытный кидают взор.
И гляжу я, смеясь, как теснятся, роясь,
Миллионы огненных пчелок,
Раздвигаю мой кров, что сплетен из паров,
Мой ветрами развеянный полог,
И тогда мне видна рек, озер глубина,
Вся в звездах, как неба осколок.
71. V.
Лик луны я фатой обовью золотой,
Алой ризой - солнечный трон.
Звезды меркнут, отпрянув, гаснут жерла вулканов,
Если бурей стяг мой взметен.
Солнце скрою, над бездной морскою
Перекину гигантский пролет
И концам на горы, не ища в них опоры,
Лягу, чудом воздвигнутый свод.
Под сияюще-яркой триумфальною аркой
Пролечу, словно шквал грозовой,
Приковав неземные силы зыбкой стихии
К колеснице своей боевой.
Арка блещет, горит и трепещет,
И ликует мир подо мной.
72. VI.
Я вздымаюсь из пор океана и гор,
Жизнь дают мне земля и вода.
Постоянства не знаю, вечно облик меняю,
Зато не умру никогда.
Ибо в час после бури, если солнце - в лазури,
Если чист ее синий простор,
Если в небе согретом, создан ветром и светом,
Возникает воздушный собор,
Я смеюсь, уходя из царства дождя,
Я, как тень из могилы, встаю,
Как младенец из чрева, в мир являюсь без гнева
И сметаю гробницу мою.
Жаворонок
73. I.
Здравствуй, дух веселый!
Взвившись в высоту,
На поля, на долы,
Где земля в цвету,
Изливай бездумно сердца полноту!
74. II.
К солнцу с трелью звучной,
Искрой огневой!
С небом неразлучный,
Пьяный синевой,
С песней устремляйся и в полете пой!
75. III.
Золотятся нивы,
В пламени восток.
Ты взлетел, счастливый,
От забот далек,
Радости надмирной маленький пророк.
76. IV.
Сквозь туман пурпурный
К небесам родным!
В вышине лазурной,
Как звезда, незрим,
Ты поешь, восторгом полный неземным.
77. V.
Ты не луч ли диска,
Что для смертных глаз
Ал, когда он низко,
Бел в полдневный час,
Еле видим в блеске и лишь греет нас.
78. VI.
Звон твой полнит воздух,
Высь и глубь до дна
И в ночи при звездах,
В час, когда, ясна,
Мир потопом света залила луна.
79. VII.
Кто ты? С кем в природе
Родственен твой род?
Дождь твоих мелодий
Посрамил бы счет
Струй дождя, бегущих с облачных высот.
80. VIII.
Ты как бард, который,
Светом мысли скрыт,
Гимны шлет в просторы,
Будит тех, кто спит,
Ждет ли их надежда, страх ли им грозит;
81. IX.
Как в высокой башне
Юная княжна,
Что леса и пашни
Видит из окна
И поет, любовью и тоской полна;
82. X.
Как светляк зеленый,
Вспыхнувший в тени
Рощи полусонной,
Там, где мох да пни,
Разбросавший в травах бледные огни;
83. XI.
Как цветы, в которых
Любит ветр играть, -
Роз охватит ворох,
Станет обрывать,
Пьяный их дурманом легкокрылый тать.
84. XII.
Шорох трав и лепет
Светлого ручья,
Все, в чем свет и трепет,
Радость бытия,
Все вместить сумела песенка твоя.
85. XIII.
Дух ты или птица?
Чей восторг людской
Может так излиться,
С нежностью такой
Славить хмель иль гимны петь любви самой?
86. XIV.
Свадебное пенье
Иль победный хор -
Все с тобой в сравненье
Неумелый вздор.
Твой соперник выйдет только на позор.
87. XV.
В чем исток счастливый
Песенки твоей?
В том, что видишь нивы,
Ширь долин, морей?
Что без боли любишь, без людских страстей?
88. XVI.
Словно утро, ясный,
Светлый, как рассвет.
Скуке непричастный
Радости поэт,
Чуждый пресыщенья, чуждый бурь и бед.
89. XVII.
В вечной круговерти
Даже в смертный час
Думаешь о смерти -
Ты мудрее нас,
Оттого так светел твой призывный глас.
90. XVIII.
Будет или было -
Ни о чем наш стон!
Смех звучит уныло,
Болью отягчен.
Вестник мрачных мыслей наш сладчайший сон.
91. XIX.
Гордостью томимы,
Смутным страхом гроз,
Если рождены мы
Не для войн и слез.
Как познать нам радость - ту, что ты принес?
92. XX.
Больше книг, цветущих
Мудростью сердец,
Больше строф поющих
Дар твой чтит певец.
Ты, презревший землю, бардов образец.
93. XXI.
Дай мне эту радость
Хоть на малый срок,
Дай мне блеск и сладость
Сумасшедших строк,
Чтоб, как ты поэта, мир пленить я мог.
Ода свободе
Свобода! Стяг разорван твой, но все ж
Он веет против ветра, как гроза.
Байрон
94. I.
Сверкнула молнией на рубеже
Испании - свобода, и гроза -
От башни к башне, от души к душе -
Пожаром охватила небеса.
Моя душа разбила цепь, мятясь,
И песен быстрые крыла
Раскрыла вновь, сильна, смела,
Своей добыче вслед - таков полет орла.
Но духа вихрь умчал ее, спустясь
С высот небесной Славы бытия;
Луч отдаленных сфер огня, светясь,
Тянулся вслед, как пенная струя
За кораблем. И пустота. И мгла.
Из глубины раздался голос: - Я
Поведаю, чему вняла душа моя.
95. II.
"Взметнулись ввысь и солнце и луна.
Из бездны брошен звезд туманный ком
В глубь неба, и земля, чудес полна,
Как остров в океане мировом,
Повисла в дымке выспренных зыбей.
Но все был хаос в глубине
Вселенной дивной той - зане
Ты не пришла еще. Зажегся там в огне
Вражды, отчаяния - дух зверей,
И птиц, и воду населивших форм, -
И грудь земли-кормилицы все злей,
Без перемирья, роздыха и норм
Они терзали, червь с червем в войне,
И зверю - зверь, и людям люди - корм.
И в сердце каждого ярился ада шторм.
96. III.
И человек, создания венец,
Размножился в шатре, что взвит над троном -
Сень солнца; пирамида и дворец,
Тюрьма и храм кишевшим миллионам,
Как бы волкам - нора в пещерах гор.
И, одичалая, груба,
Хитра, коварна и слепа -
Ты не пришла еще! - была людей толпа.
Как туча, что гнетет морской простор,
Так над пустыней людных городов
Нависла Тирания, с нею - Мор
Под мрак ее крыла сбирал рабов;
Питаясь кровью, золотом, скупа,
Жадна, рать анархистов и жрецов
Гнала стада людей со всех земли концов.
97. IV.
Улыбкой грела неба синева
В Элладе выси облачные гор,
Дремотно-голубые острова,
Раздельных волн сияющих простор.
Хранил пророчеств песенную весть
В глуши завороженный грот.
Олив и винограда плод
Рос дико, не войдя в насущный обиход.
Как цвет подводный - прежде чем расцвесть,
Как взрослых мысль в младенческих умах,
Как все, что будет - в том, что ныне есть,
Так сны искусства вечные - в камнях
Паросских были; и ребенка рот
Шептал стихи; у мудреца в глазах
Ты отражался; возникли на брегах
98. V.
Эгейских волн - Афины: амбразура
Сребристых башен, пурпурных зубцов.
Жалка земных творцов архитектура
Пред городом вечерних облаков,
Что выстлан морем, под шатром небес;
Ветра живут во граде том,
На каждом ветре пояс - гром,
И солнечный венец над бурным их челом.
Но там, в Афинах, в городе чудес,
На воле человека водружен,
Как на горе алмазной, стройный лес
Колонн. Ведь ты пришла - и этот склон
Холма заполнен творческим резцом.
И в мраморах бессмертных сохранен
Оракул поздний твой - и с ним твой первый трон.
99. VI.
В реке времен, текущей бесконечно,
Тот образ отражен, как был тогда,
Недвижно-беспокойный; в ней он вечно
Дрожит и не исчезнет никогда.
Искусств твоих и мудрости основы
Дошли до прошлого, как взрыв,
Громами землю пробудив,
Смутив религию, Насилье устрашив.
Любви и радости крылатой зовы,
Где упоенья нет, - и там парят,
С пространства сняв и с времени покровы;
Единый океан - всей влаги скат,
Едино солнце, небо осветив,
Тобой единой так Афины мир живят.
100. VII.
И как волчонку Кадмская Менада,
Так молоко величия дала
Ты Риму, хоть любимейшего града
От груди ты еще не отняла;
И много страшных праведных деяний
Твой дух любовью освятил;
С твоей улыбкой уходил
Атилий на смерть, с ней безгрешный жил Камилл.
Но белизну чистейших одеяний
Пятнит слеза; Капитолийский трон
Сквернится золотом. От поруганий
Рабов тирана ты ушла. И стон
На Палатине отголоском был
Напевов ионийских; тихо он
Донесся до тебя, тобой не повторен.
101. VIII.
В Гирканском ли ущелье вдалеке,
На мысе ли арктических морей
Или на недоступном островке
Ты над потерей плакала своей, -
Учила лес, и волны, и утес,
Поток Наяды - хладный там -
Высоких знаний голосам,
Что человек, приняв, посмел отвергнуть сам?
Ты не хранила жутких Скальда грез,
К Друиду ты не проникала в сны.
Те слезы, в прядях спутанных волос,
Не высохли ль, рыданьем сменены, -
Как Галилейский змей предать кострам,
Мечам твой мир приполз из глубины
Извечной смерти? Вслед - развалины видны.
102. IX.
Тысячелетье мир взывал, томим:
- Где ты? - И веянье твое сошло, -
Склонил Альфред Саксонец перед ним
Оливой осененное чело.
И, как утес, что выброшен огнем
Подземным, не один оплот
Святых Италии высот -
Угрозой королям, жрецам, рабам - встает.
Бесчинная толпа, мятясь, кругом,
Как пена моря, разбивалась в прах.
Рождалась песнь душевным тайником,
Внушая некий непостижный страх
Оружию. Искусство не умрет,
Божественным жезлом в земных домах
Чертя те образы, что вечны в небесах.
103. X.
Ты - Ловчая, быстрее, чем Диана!
Ты - страх земных волков! Пред устремленьем
Стрел солнценосных твоего колчана -
Исчезнуть быстрокрылым Заблужденьям,
Как облакам растаять пред зарей,
Поймал твой проблеск Лютер; он
Будил копьем свинцовым сон,
В который мир, как в гроб иль в транс, был погружен.
Пророкам Англии ты госпожой
В веках была: их песнь, звуча всегда,
Не смолкнет в общей музыке. Слепой
Почуял Мильтон твой приход, когда
С печальной сцены (духом озарен,
Он видел, что скрывает темнота)
Ты, удрученная, спускалась, ей чужда.
104. XI.
Года - не споря, и Часы - спеша,
Как бы на выси горной, где рассвет,
Свою надежду и боязнь глуша,
Сошлись, толпясь, темня друг другу свет,
Зовя: - Свобода! - Отклик Возмущенья
На стоны жалости возник;
Бледнел в могиле смерти лик;
И разрушенье звал молящий Скорби крик.
Тогда, подобно солнцу в излучении
Сиянья, встала ты, гоня
Из края в край своих врагов, как тени,
И поразила (как явленье дня
На западе, раскрыв небес тайник
И полночь задремавшую сменя)
Людей, воспрянувших от твоего огня.
105. XII.
Земное небо - ты! Какие вновь
Тебя затмили чары? Сотни лет,
Питавшихся насильем, в слезы, в кровь
Окрашивали свой прозрачный свет.
Те пятна только звезды могут смыть.
Лоз Франции смертелен сок,
Вакханты крови пьют их ток,
Рабы со скипетром и в митрах, чей злой рок -
Все разрушать и Глупости служить.
Сильнейший всех восстал один из них,
Анарх, твоим не захотевший быть,
Смешал войска в порядках боевых -
Мрачащий небо грозных туч поток -
И, сломлен, лег. Тень дней его былых -
Страх победителей в их башнях родовых.
106. XIII.
Спит Англия, хотя давно звана;
Испания зовет ее - так громом
Везувий звал бы Этну, и она
Ответила бы снежных скал разломом,
И слышно с Эолийских островов -
От Пифекузы до Пелора -
Сквозь плески волн роптанье хора:
"Тускнейте, светочи небесного дозора!"
Порвет улыбка нить ее оков
Златых, но только доблести пила
Разрежет сталь испанских кандалов.
Судьба нас близнецами зачала,
От вечности вы ждите приговора.
Печатью ваши мысли и дела
Да станут, и ее - времен не скроет мгла!
107. XIV.
Арминия гробница! Мертвеца
Отдай ты своего! Над головой
Тирана пусть взовьется дух бойца,
Как знамя со стены сторожевой.
Чего нам ждать? Чего бояться нам? -
Свободна, духом ты полна,
В обмане царственном, она -
Германия - вином мистическим пьяна.
А ты, наш рай потерянный, ты - храм;
Очарованием одета, Скорбь в мольбах
Тому, чем ты была, склонилась там;
Ты - остров вечности, ты - вся в цветах,
Пустынная, прекрасная страна,
Италия! Гони, откинув страх,
Зверей, что залегли в твоих святых дворцах!
108. XV.
О, пусть бы вольные могли втоптать
В прах имя "царь", как грязное пятно
Страницы славы, или написать
В пыли, - чтоб было сглажено оно,
Занесено песком, как след змеи.
Оракула внятна вам речь? -
Возьмите ж свой победный меч -
Как узел гордиев то слово им рассечь.
Хоть слабое, шипы вонзив свои
В бичи и топоры, что род людской
Страшат, - оно скрепит их, как ничьи
Усилья б не могли: тот яд гнилой,
Жизнь заразив, гангреной может сжечь.
Когда придет пора, ты удостой
Стереть главу червя сама, своей пятой.
109. XVI.
О, пусть бы мудрые - огнем лампад
Широкой мысли - отогнали тьму,
Чтоб, съежась, имя "жрец" обратно в ад
Отправилось, вновь к месту своему -
Кощунственная, дьявольская спесь!
О, пусть могла бы мысль и страсть
Лишь пред судом души упасть
Иль непостижную признать бесстрашно Власть.
Когда б тех слов, темнящих мысли здесь,
Как зыблемый над озером туман
В лазурь небес бросает пятен смесь,
Снять маску, цвет, что всем различный дан,
Улыбки блеск - не их, чужую часть,
Пока, открыв таимый в них изъян,
Воздаст их господин за правду и обман.
110. XVII.
Удел был человеку уготован -
От колыбели до могилы - стать
Царем над Жизнью, но и коронован,
Он отдал волю в рабство, чтоб принять
Поработителя и притесненье.
Пускай мильонам в свой черед
Что нужно, все земля дает,
Пусть мысль могущество таит, как семя - плод,
Пускай Искусство взмолится, в паренье
К Природе, уклонив от ласки взгляд:
"Мать! Дай мне высь и глубь в мое владенье!"
К чему же это? - все новые стоят
Пред жизнью нужды, и Корысть возьмет
У тех, кто трудятся и кто скорбят,
За каждый дар - ее и твой - тысячекрат.
111. XVIII.
Приди, о Ты! Но - утренней звездой,
Зовущей солнце встать из волн Зари, -
Веди к нам мудрость из пучины той,
Что скрыта в духе, глубоко внутри.
И слышу, веет колесницы стяг.
Ужель не снидете с высот
Вы, измерители щедрот,
Что, правде чуждая, жизнь людям раздает -
Любовь слепую, Славу в прошлых днях,
Надежду в будущих? О, если твой,
Свобода, клад иль их (коль в именах
Различны вы) мог куплен быть ценой
Слез или крови, - не уплачен счет
Свободными и мудрыми - слезой
И кровью, как слеза?" Высокой песни строй
112. XIX.
Прервался. И в ту пору Дух могучий
Своею бездною был втянут вдруг.
Тогда, как дикий лебедь, путь летучий
Стремит, паря в зари грозовый круг,
И вдруг падет с воздушной выси прочь.
Стрелою молнии сражен,
Туда, где глух равнины стон, -
Как туча, дождь пролив, покинет небосклон,
Как гаснет свет свечи, чуть гаснет ночь,
И мотыльку конец, чуть кончен день, -
Так песнь моя, свою утратив мощь,
Поникла; отзвуки свои, как тень,
Сомкнул над ней тот голос, отдален.
Так волны - зыбкая пловца ступень, -
Журча, над тонущим сомкнутся, пенясь всклень.
К ***
Я трепещу твоих лобзаний,
Но ты не бойся. Знай:
Я сам приму весь груз страданий,
Ты ж налегке ступай.
Страшусь твоих движений, взгляда,
Но ты боишься зря:
Мне только любоваться надо
Тобой, боготворя.
Аретуза
113. I.
Словно грозные стражи,
Встали горные кряжи,
Кряжи Акрокераунских гор,
Встали в тесном союзе,
Чтоб не дать Аретузе
Убежать на манящий простор.
Но она убежала
И волной разостлала
Семицветные кудри свои
И на западных склонах
В переливах зеленых
Расстелила по кручам ручьи.
Горы ей улыбались,
Сосны к ней наклонялись,
И она, лепеча как во сне,
То замедлив теченье,
То ускорив движенье,
Пробиралась к морской глубине.
114. II.
Но проснулся суровый
Бог Алфей седобровый
И ударил трезубцем в ледник, -
И в горах Эвриманта
От удара гиганта
Узкий выход на волю возник.
Из рассселины горной
Сразу вырвался черный
Южный ветер, и прочь из оков,
Разбиваемых громом,
По дрожащим проемам
Побежали потоки ручьев.
И Алфей под водою
Заблистал бородою
И помчался стремглав с высоты
За беглянкой уставшей,
Но уже побежавшей
До прибрежной Дорийской черты.
115. III.
"О, скорей, я слабею!
О, не дайте Алфею
Впиться пальцами в волосы мне!"
И раздвинулись воды,
Словно в час непогоды,
И укрыли ее в глубине.
И беглянка земная
Вновь помчалась, мелькая,
Словно солнечный луч золотой,
Даже в море глубоком
Не сливаясь с потоком
С горьковатой Дорийской волной.
Но за нимфою сзади
По смарагдовой глади,
Выделяясь угрюмым пятном,
Мчался бог разозленный,
Как орел, устремленный
За голубкой с подбитым крылом.
116. IV.
И в потоке, бурлящем
По коралловым чащам,
Мимо гор из бесцветных камней
И пещер потаенных,
Где в жемчужных коронах
Восседают владыки морей,
Унеслись они в море,
Где в цветистом узоре
Перепутались солнца лучи
И где сумрак расселин
Неестественно зелен,
Как лесная опушка в ночи,
И, вспугнув мимоходом
Под лазоревым сводом
Рыбу-молот и рыбу-пилу,
По ущелью седому
Поднялись они к дому
И остались у входа в скалу.
117. V.
И сверкающей пеной
Под обрывистой Энной
Плещет двух водометов струя,
Словно подали руки
После долгой разлуки
Неразлучные сердцем друзья.
Утром, прыгнув с откоса,
У подножья утеса,
Словно дети, играют они;
И весь день среди елей
И лесных асфоделей
Беззаботно лепечут в тени;
И в глубинах Дорийских
Возле скал Ортигийских
Засыпают, колышась едва,
Словно души влюбленных
В небесах благосклонных,
Где любовь и по смерти жива.
Песнь Прозерпины
Ты, Земля, Богиня-мать,
Ты, родящая во мраке,
Чтоб могли существовать
Боги, люди, звери, злаки.
Сил целебных не жалей
Ты для дочери своей!
Ты, вскормившая росой
Всех детей земного года,
Чтобы вешнею красой
Расцвела в цветах природа,
Сил целебных не жалей
Ты для дочери своей!
Гимн Аполлона
118. I.
Пока я, звездным пологом сокрыт,
Простерся спящий, сонм бессонных Ор
За мною с неба лунного следит,
Но ото сна освободит мой взор,
Чуть повелит Заря, седая мать,
Что время и Луне и снам бежать.
119. II.
Взбираюсь я на купол голубой;
Я шествую по волнам и горам,
Отбросив плащ на пенистый прибой;
Я тучи зажигаю; даже там,
Где тьма пещер, зрим свет моих лучей,
И снова Гея ласки ждет моей.
120. III.
Я стрелами-лучами поражу
Обман, что, Ночь любя, страшится Дня;
Я злым делам и помыслам грожу;
В сиянье, исходящем от меня,
Любовь и честь по-новому жива,
Пока не вступит Ночь в свои права.
121. IV.
Несу для туч, для радуг, для цветов
Я краски нежные; мой ярый жар,
Как ризой, мощью облачить готов
И звезды чистые, и лунный шар;
И все лампады Неба и Земли,
Подвластны мне, огни свои зажгли.
122. V.
В полдневный час достигну я высот,
И к горизонту нехотя сойду,
И, покидая темный небосвод,
Повергну в плач вечерних туч гряду -
Но что со взором ласковым моим
Сравнится, если улыбаюсь им?
123. VI.
Я - Мирозданья око; им оно
Узрит свою бессмертную красу;
Искусство с жизнью мною рождено,
Целенье и прозренье я несу;
Вам песнь моя гармонию лила,
За это ей - победа и хвала.
Гимн Пана
124. I.
С холмов, из темных лесов
За мной, за мной!
С перевитых потоками островов,
Где смолкает шумящий прибой,
Внимая пенью моей свирели.
Умолкли птицы в листве,
И ветер притих в тростниках,
И ящерицы в траве,
И пчелы на тминных лугах,
И смолк веселых кузнечиков голос,
И все безмолвно, как древний Тмолос,
При сладостном пенье моей свирели.
125. II.
Струится Пеней полусонно,
На дол Темпейский ложится тень
От темного Пелиона,
Спеша прогнать слабеющий день,
Чтоб слушать пенье моей свирели.
И нимфы ручьев и лесов,
Силены и фавны, сильваны
Выходят на берег, услышав мой зов,
На влажные от росы поляны.
И все умолкает, как ты, Аполлон,
Когда ты внемлешь, заворожен
Напевом сладостным нежной свирели.
126. III.
О пляшущих звездах пою,
Пою столетья, землю и твердь,
Титанов, свой род истребивших в бою,
Любовь, Рожденье и Смерть -
И вдруг меняю напев свирели.
Пою, как догнал я в долине Менала
Сирингу, что стала простым тростником,
Но так и с людьми и с богами бывало:
Полюбит сердце - и плачет потом.
И если не властвует ревность над вами
Иль пламень в крови не потушен годами,
Рыдайте над скорбью моей свирели.
Вопрос
127. I.
Мне снился снег, засыпавший округу,
Кружащийся, как мысли, надо мной, -
Кружащим в мыслях тягостных. Но, вьюгу
Развеяв, с юга брызнуло весной,
Луга и лес взглянули друг на друга,
Омытые недавней белизной
Снегов, и ветвь склонилась над рекою,
Как я, не разбудив, над спящею тобою.
128. II.
Мгновенно всю природу охватив,
Щедр на узоры, краски, ароматы,
Неистовствовал свежести порыв.
Весенний запах вереска и мяты
Был горьковат и ландыша - игрив,
Ковер травы пушился непримятый,
И тысячью бездонно-синих глаз
Фиалка феерически зажглась.
129. III.
От вишен исходил такой дурман,
Как будто - выжимай вино в бутыли
Хоть нынче же - и сразу будешь пьян;
Волнующе прекрасны розы были,
Приветлив плющ, не пасмурен бурьян,
Мох мягок; ветки влажные скользили
Мне по лицу - и прелесть этой влаги
Перу не поддается и бумаге.
130. IV.
По дивно изменившейся тропинке
Спустись к ручью, я астры увидал
На берегу, вдоль берега - кувшинки
(Их цвет был бело-розов, желт и ал),
На листьях плыли лилий сердцевинки,
И, утомленный блеском, отдыхал
Подолгу взгляд мой в камышах прибрежных -
Неярких, и доверчивых, и нежных.
131. V.
И вот я опустился на колени
Над россыпью таинственных цветов
И начал рвать их - в буйности весенней,
В хаосе жизни, в прелести лугов
Под солнцем сна расцветшие растенья -
Пусть на мгновенья... Вот букет готов,
Но весь трепещет, рвется прочь из рук:
Он другу собран в дар. - А кто мне друг?
Лето и зима
132. I.
Был ослепительный июньский день.
Тревожить воду ветру было лень.
На горизонте громоздились кучи
Плавучих гор - серебряные тучи.
И небосклон сиял над головой
Бездонною, как вечность, синевой.
Все радовалось: лес, река и нивы.
Поблескивали в роще листья ивы.
И шелестела в тишине едва
Дубов столетних плотная листва...
133. II.
Была зима - такая, что с ветвей
Комочком белым падал воробей.
Закованные в ледяные глыбы,
В речных глубинах задыхались рыбы.
И до сих пор не замерзавший ил
В озерах теплых, сморщившись, застыл.
В такую ночь в печах пылало пламя,
Хозяин с домочадцами, с друзьями
Сидел и слушал, как трещит мороз...
Но горе было тем, кто гол и бос!
Башня голода
Опустошенный город стал могилой.
А жившие здесь люди в старину
Его считали колыбелью милой.
И горек вид крушенья. В вышину
Взметнулась Башня голода - темница
Среди темниц. За тяжкую вину
Преступный сброд во мраке их томится.
И кровь он знал, и деньги, и простор,
А ныне цепь, да хмурых стражей лица,
Да жизнь - как дотлевающий костер.
И все - кресты и золотые шпили,
Дворцы и храмы, мраморный декор
Роскошных зданий в итальянском стиле, -
Все меркнет рядом с Башней. Оттого
Они поодаль жмутся. Так в могиле
Лежит скелет, но чье-то колдовство
Свершается, и вот он, страшный, голый,
Идет в толпу красавиц - для чего?
Чтоб видели, что жизнь, и смех веселый,
И красота, и нежность их тепла -
Все, все уйдет, пока резец тяжелый
Не превратит в скульптуру их тела.
Аллегория
Их адаманта смутного портал
Зияет на дороге бытия,
Которой рок идти предначертал;
Вокруг, вражды извечной не тая,
Ярятся тени, словно между скал
Клубятся тучи, буйны и густы,
И воспаряют к вихрям высоты.
Проходят многие своей стезей,
Не зная, что теней (...)
Идет за каждым - даже там, где рой
Умерших нового пришельца ждет;
Иные остановятся порой
И пристально глядят на мрачный вход,
Да и они узнают лишь одно:
Что от теней спастись им не дано.
Странники мира
Светлокрылая звезда!
Неужели никогда
Не находишь ты гнезда
И летишь поныне?
Молви, месяц-нелюдим!
Бесприютный пилигрим,
Странствуя путем своим,
Ты грустишь поныне?
Ищешь, ветер, ты во мгле,
Нет ли места на земле,
Хоть на ветке, хоть в дупле,
Хоть в морской пучине.
Минувшие дни
134. I.
Как тень дорогая умершего друга,
Минувшие дни
Приходят к нам с лаской в минуты досуга;
Надежд невозвратных в них блещут огни.
Любви обманувшей, мечты невозможной;
Как смутные призраки, с лаской тревожной
Приходят к нам прошлого дни.
135. II.
Как сны золотые пленительной ночи,
Минувшие дни
На миг лишь один устремляют к нам очи,
И так же, как сны, нам отрадны они.
В них самая мука нежнее, чем счастье;
Как солнечный свет после мрака ненастья,
Нам дороги прошлые дни.
136. III.
Приходите к нам из пучины забвенья,
Минувшие дни.
Взирая на вас, мы полны сожаленья:
Вы снова умчитесь, - мы снова одни.
И как мы над трупом ребенка рыдаем,
Мы смех наш минутный слезой провожаем,
Погибшие прошлые дни!
Доброй ночи
"Доброй ночи?" В самом деле?
Нет! Останься до утра!
Ангел милый, неужели
Расставаться нам пора?
"Доброй ночи?" Слово чести,
До разлук я не охочь;
Доброй - разве что из лести
Назову такую ночь!
Ведь сердцам, что пламенели
С ночи до зари сам-друг,
"Доброй ночи!" в самом деле
И сказать-то недосуг!
137. 1821.
Время
Безбрежный океан земной печали,
О Время, Время, кто тебя постиг?
Чьих огорчений волны не качали,
Померкшие от вечных слез людских?
Потом, наскучив жалкою добычей,
Ужасен в шторм и вероломен в штиль,
Объемля человеческую боль,
Вдруг исторгает то бугшприт, то киль
Пучины сокрушительный обычай!
О Времени безжалостный прибой,
Еще кто будет поглощен тобой?
Беглецы
138. 1.
Шторм ломит стены,
Пляшет пена,
Сверкают стрелы,
Бьет град белый -
Прочь!
Пучина в кипенье,
Гром, в исступленье
Лео голову клонит,
Колокол стонет -
Прочь!
Океан и земля -
Обломки корабля.
Птица, зверь, человек, гад -
Все от бури спешат -
Прочь!
139. 2.
- "Рулевого нет
И мачты нет!.."
Кричит он; "Сейчас
Им нас
Не вернуть!"
И она: "Плывем!
Греби веслом!..
Пусть смерть и град
Море дробят -
В путь!"
И от башен, со скал
Синий взрыв маяка,
И пушка погонь
Красный огонь
Спешит вздуть...
140. 3.
И: "Боишься ты?" И: "Боишься ты?"
И: "Видишь ты?" И: "Видишь ты?"
И: "Разве вольные не плывем
Над странной бездной вдвоем,
Я и ты?"
Парусом укрыты,
Объятием слиты,
Шепчутся влюбленно
Средь разъяренной
Темноты.
141. 4.
А в замке пустом -
Побитым псом
Трясется жених,
Бледен и тих
От стыда.
Смерти грозный двойник,
Встал на башне старик -
Отец... С испугом
Жмутся друг к другу
Земля и вода.
И последний, кем горд
Угасший род.
Ждет проклятье, каких отец
Не шлет
Никогда.
142. К....
143. I.
Пусть отошли в былое страсти -
Еще покуда в нашей власти
Их след в сознанье сохранять -
Так сон и явь нельзя разнять.
К чему рыдать? К чему рыдать?
144. II.
Один твой взгляд, одно движенье
Едва поймав, воображенье
Мир воссоздаст в одно мгновенье.
Сжигай меня - я рад сгореть -
Лишь нынешней останься впредь.
145. III.
Смотри, упали сна оковы,
Цветы опять свежи и новы,
И роща дивно зелена.
Мир движут небо и волна,
А нам любовь и жизнь дана.
Превратность
Цветок чуть глянет - и умрет.
Проживши день всего;
Мираж восторга нам сверкнет,
Глядишь и нет его.
Непрочен счастия привет:
Во тьме ночной житейских бед
Он - беглых молний свет.
Как красота души хрупка,
Как редок дружбы смех,
И как в любви нас ждет тоска
За краткий миг утех!
Но пусть восторг промчится сном, -
Всегда мы то переживем,
Что мы своим зовем!
Пока лазурны небеса,
Покуда ясен день,
Пока блестит цветов краса
И медлит скорби тень, -
Мгновенья быстрые считай,
Отдайся райским снам, мечтай,
Пробудишься - рыдай!
Государственное величие
Без вдохновенья боя и труда,
Без доблести, без счастья и без славы
Пасутся подъяремные стада, -
И чужды им певучие октавы,
И, зеркало завесив от стыда,
Молчит Искусство, и мельчают Нравы.
Привычка к рабству мысли их тиранит;
Дыханьем осквернив небесный свод,
Их род бесчисленный в забвенье канет,
А человеком станет только тот,
Кто властелином над собою станет,
Своим престолом разум стать принудит,
И свергнет страхов и мечтаний гнет,
И лишь самим собой всегда пребудет.
Вечер
Ponte al Mare, Pisa
146. I.
День закатился. Ласточки уснули.
Шныряют в серой мгле нетопыри.
Гулять выходят жабы. В смутном гуле
Слились все звуки. Тусклый свет зари
Погас на кровлях. Тень легла ночная,
И в летнем сне недвижна зыбь речная.
147. II.
Нет сырости и в поздний этот час,
Трава суха, на листьях ни росинки.
Сухой и легкий ветер всякий раз
Вздымает пыль, соломинки, былинки,
Закружится и стихнет, и одна
По улицам блуждает тишина.
148. III.
Домов, церквей, оград изображенья
В себе колышет и несет вода.
В недвижном беспокойстве отраженья
Дрожат, не исчезая никогда.
Взгляни на эту зыбь, на эти стены:
Ты стал другим, они же неизменны.
149. IV.
И сизые над бездной облака,
Где солнце, скрывшись, новой ждет Авроры,
Они - как груда гор издалека,
Но множатся и мчатся эти горы.
А там, в пространстве, синем, как вода,
Уже горит вечерняя звезда.
Азиола
"Ты слышал голос Азиолы? Это
Она кричит, должно быть, рядом где-то", -
Сказала Мэри. Мы в беззвездный мрак
Глядели долго, свеч не зажигая.
Тут мне подумалось: "Соседка? Кто ж такая?"
И я спросил: "Ну, что еще за Азиола?"
И неожиданно обрел покой:
Здесь не было подвоха иль укола,
Здесь не было насмешки никакой;
Ведь Мэри молвила с улыбкой (о, плутовка!):
"Кричит сова! Пушистенькая совка!"
Печальная колдунья Азиола,
В вечерней музыке своей тоски
Тревога рощ, ручьистый голос дола:
Ни лютни звон, ни птичьи голоски
Моей души вот так не задевали,
Нет, сладостней не ведал я печали!
И с тех пор, во сне и наяву,
Люблю я возглас грусти изначальной
И Азиолу - милую сову -
Пушистую. И крик души печальной!
150. x x x.
151. I.
Опошлено слово одно
И стало рутиной.
Над искренностью давно
Смеются в гостиной.
Надежда и самообман -
Два сходных недуга.
Единственный мир без румян -
Участие друга.
152. II.
Любви я в ответ не прошу,
Но тем беззаветней
По-прежнему произношу
Обет долголетний.
Так бабочку тянет в костер
И полночь - к рассвету,
И так заставляет простор
Кружиться планету.
Завтра
О, где ты, утро завтрашнего дня?
Седой старик и юноша влюбленный,
В душе и радость и печаль храня, -
Все ждут твоей улыбки благосклонной.
Но всякий раз, неотвратим, как тень,
Сегодняшний тебя встречает день.
153. 1822.
154. x x x.
155. I.
Разобьется лампада,
Не затеплится луч.
Гаснут радуг аркады
В ясных проблесках туч.
Поломавшейся лютни
Кратковременный шум.
Верность слову минутней
Наших клятв наобум.
156. II.
Как непрочны созвучья
И пыланье лампад,
Так в сердцах неживучи
Единенье и лад.
Рознь любивших бездонна,
Как у стен маяка
Звон валов похоронный
Над душой моряка.
157. III.
Минут первые ласки,
И любовь - из гнезда.
Горе жертвам развязки.
Слабый терпит всегда.
Что ж ты плачешь и ноешь,
Что ты, сердце, в тоске?
Не само ли ты строишь
Свой покой на песке?
158. IV.
Ты - добыча блужданий,
Как над глушью болот
Долгой ночью, в тумане,
Птичьей стаи полет.
Будет время, запомни,
На осенней заре
Ты проснешься бездомней
Голых нив в ноябре.
Магнетизируя больного
159. I.
"Спи же, спи! Забудь недуг.
Я лба коснусь рукой -
В твой мозг сойдет мой дух.
Я жалостью овею грудь;
Вот - льется жизнь струей
С перстов, и ты укрыт за ней,
Запечатлен от боли злой.
Но эту жизнь не сомкнуть
С твоей.
160. II.
Спи же, спи! Я не люблю
Тебя, но если друг,
Убравший так мою
Судьбу цветами, как полна
Твоя шипами, вдруг,
Как ты, потерян, не моей
Рукой заворожен от мук,
Как мною ты, - душа скорбна
С твоей.
161. III.
Спи, спи сном мертвых или сном
Не бывших! Что ты жил,
Любил - забудь о том;
Забудь, что минет сон; не помни,
Что мир тебя хулил;
Забудь, что болен, юных дней
Забудь угасший дивный пыл;
Забудь меня - быть не дано мне
Твоей.
162. IV.
Как облако, моя душа
Льет дождь целебных слез
Тебе, увядший цвет, дыша
Немою музыкой сквозь сны,
Благоуханьем слез
Покоя мозг, ведя назад
В грудь молодость, что мрак унес.
Ты мной до самой глубины
Объят.
163. V.
"Заворожен. Что, легче ль вам?"
"Мне хорошо, вполне", -
Ответил спящий сам.
"Но грудь и голову лечить
Чем можно не во сне?"
"Убийственно целенье, Джен.
И, если жить все ж надо мне, -
Не искушай меня разбить
Мой плен".
К Джейн с гитарой
Ярко блещут Стожары,
Несказанная в небе сияет
Луна.
Звонко пенье гитары,
Но лишь с голосом Джейн оживает
Струна.
Неба мрак серебристый
Лунно-звездные нежно согрели
Лучи;
Дарит голос твой чистый
Душу струнам, чьи мертвенны трели
В ночи.
Звездный свет, замирая,
Хочет видеть луны золотую
Красу;
Лист не дрогнет, вбирая
Гармонических струн неземную
Росу.
Звук летит окрыленный,
Раскрывая в ночное молчанье
Окно,
В этот мир отдаленный,
Где любовь, лунный свет и звучанье -
Одно.
Эпитафия
Здесь двое спят, чья жизнь была одно,
Ведь в памяти им вместе быть дано.
При жизни розно кровь текла в телах -
Да будет не делим их общий прах.
Островок
Островок лесистых склонов,
Белоснежных анемонов,
Где, фиалковую тень
Влажной свежестью колыша,
Дремлет лиственная крыша;
Где ни дождь, ни ветер синий
Не тревожат стройных пиний;
Где царит лазурный день;
Где, поверх блаженных гор,
Что до плеч в жемчужной пряже,
Смотрят облачные кряжи
В синеву живых озер.
Песня
Тоскует птица о любви своей,
Одна в лесу седом.
Крадется холод меж ветвей,
Ручей затянут льдом.
В полях живой травинки не найдешь,
Обнажены леса.
И тишину колеблет только дрожь
От мельничного колеса.
164. НЕДАТИРОВАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ, ФРАГМЕНТЫ.
Любовь, Желанье, Чаянье и Страх
...И многих ранило то сильное дитя,
Чье имя, если верить, Наслажденье;
А близ него, лучом безмерных чар блестя,
Четыре Женщины, простершие владенье
Над воздухом, над морем и землей,
Ничто не избежит влиянья власти той.
Их имена тебе скажу я:
Любовь, Желанье, Чаянье и Страх,
Всегда светясь в своих мечтах,
В своей победности ликуя
И нас волненьями томя,
Они правители над теми четырьмя
Стихиями, что образуют сердце,
И каждая свою имеет часть,
То сила служит им, то случай даст им власть,
То хитрость им - как узенькая дверца,
И царство бедное терзают все они.
Пред сердцем - зеркалом Желание играет,
И дух, что в сердце обитает,
Увидя нежные огни,
Каким-то ликом зачарован
И сладостным хотеньем скован,
Обняться хочет с тем, что в зеркале пред ним,
И, заблуждением обманут огневым,
Презрел бы мстительные стрелы,
Опасность, боль со смертным сном,
Но Страх безгласный, Страх несмелый
Оцепеняющим касается копьем,
И, как ручей оледенелый,
Кровь теплая сгустилась в нем:
Не смея говорить ни взглядом, ни движеньем,
Оно внутри горит надменным преклоненьем.
О, сердце бедное, как жалко билось ты!
Меж робким Страхом и Желаньем!
Печальна жизнь была того, кто все мечты
Смешал с томленьем и терзаньем:
Ты билось в нем, всегда, везде,
Как птица дикая в редеющем гнезде.
Но даже у свирепого Желанья
Его исторгнула любовь,
И в самой ране сердце вновь
Нашло блаженство сладкого мечтанья,
И в нежных взорах состраданья
Оно так много сил нашло,
Что вынесло легко все тонкие терзанья,
Утрату, грусть, боязнь, все трепетное зло.
А там и Чаянье пришло,
Что для сегодня в днях грядущих
Берет взаймы надежд цветущих
И блесков нового огня,
И Страх бессильный поскорее
Бежать, как ночь бежит от дня.
Когда, туман с высот гоня,
Заря нисходит пламенея, -
И сердце вновь себя нашло,
Перетерпев ночное зло.
Четыре легкие виденья
Вначале мира рождены,
И по решенью Наслажденья
Дано им сердце во владенье
Со дней забытой старины.
И, как Веселый лик Весны
С собою ласточку приводит,
Так с Наслажденьем происходит,
Что от него печаль и сны
Нисходят в сердце, и с тоскою
Оно спешит за той рукою,
Которой было пронзено,
Но каждый раз, когда оно,
Как заяц загнанный, стремится
У рыси в логовище скрыться,
Желанье, Чаянье, Любовь
И Страх дрожащий, вновь и вновь,
Спешат, - чтоб с ним соединиться.
Джиневра
Испугана, бледна, изумлена,
Как тот, кто видит солнце после сна,
Из комнаты идя походкой шаткой,
Где смертной был он скован лихорадкой, -
Ошеломленной спутанной мечтой
Беспомощно ловя неясный рой
Знакомых форм, и ликов, и предметов,
В сиянии каких-то новых светов, -
Как бы безумьем странных снов горя,
Джиневра отошла от алтаря;
Обеты, что уста ее сказали,
Как дикий звон, донесшийся из дали,
Врывались в помрачненный мозг ее,
Качая разногласие свое.
Так шла она, и под вуалью брачной
Прозрачность щек вдвойне была прозрачной,
И алость губ вдвойне была красна,
И волосы темнее: так луна
Лучом темнит; сияли украшенья,
Горели драгоценные каменья,
Она едва их видела, и ей
Был тягостен весь этот блеск огней,
Он в ней будил неясное страданье,
Ее томил он хаосом сиянья.
Она была пленительна, луна
В одежде светлых туч не так нежна;
Горел огонь в ее склоненном взоре,
И бриллианты в головном уборе
Ответным блеском, в искристых лучах,
На мраморных горели ступенях
Той лестницы, что, зеркалом для взора,
Вела к простору улиц и собора;
И след ее воздушных нежных ног
Стирал тот блеск, минутный тот намек.
За ней подруги светлой шли толпою,
Одни, тайком казняся над собою,
Завистливой мечтой к тому скользя,
Чему совсем завидовать нельзя;
Другие, полны нежного участья,
Лелеяли мечту чужого счастья;
Иные грустно думали о том,
Что скучен, темен их родимый дом;
Иные же мечтали с восхищеньем
О том, что вечно ласковым виденьем
Пред девушкой неопытной встает,
Ее от неба ясного зовет,
От всех родных, куда-то вдаль, к туману,
К великому житейскому обману.
Но все они ушли, и, в забытьи,
Глядя на руки белые свои,
Она стоит одна в саду зеленом;
И светлый воздух полон странным звоном,
Беснуяся, кричат колокола,
Их музыка так дико-весела.
Насильственно берет она вниманье,
Лазурное убито ей молчанье;
Она была как тот, кто, видя сон,
Во сне постиг, что спит и грезит он
И лишь непрочно предан усыпленью, -
Как вдруг пред ней, подобный привиденью,
Антонио предстал, и, как она,
Он бледен был; в глазах была видна
Обида, скорбь, тоска, и он с укором,
Невесту смерив пылким гордым взором,
Сказал: "Так что же, так ты мне верна?"
И тотчас же, как тот, кто ото сна
Был резко пробужден лучом жестоким
И светом дня мучительно-широким
С дремотною мечтою разлучен,
И должен встать, и позабыть свой сон, -
Джиневра на Антонио взглянула,
Сдержала крик, с трудом передохнула,
Кровь хлынула ей к сердцу, и она
Сказала так, прекрасна и бледна:
"О, милый, если зло или сомненье,
Насилие родных иль подозренье,
Привычка, время, случай, жалкий страх,
Иль месть, иль что-нибудь в глазах, в словах
Способны быть для нас змеиным взглядом
И отравить любовь горячим ядом,
Тогда, - тогда с тобой не любим мы -
И если гроб, что полон душной тьмы,
Безмолвный гроб, что тесно обнимает
И жертву у тирана отнимает,
Нас разлучить способен, о, тогда
С тобой мы не любили никогда".
"Но разве миг, спеша за мигом снова,
К Герарди, в тишину его алькова,
Тебя не увлечет? Мой темный рок
В твоем кольце не видит ли залог, -
Хотел сказать он, - нежных обещаний,
Нарушенных, расторгнутых мечтаний".
Но, золотое сняв с себя кольцо
И не меняя бледное лицо,
Она сказала с грустью неземною:
"Возьми его в залог, что пред тобою
Я буду, как была, всегда верна,
И наш союз порвет лишь смерть одна.
Уж я мертва, умру через мгновенье,
Колоколов ликующее пенье
Смешается с напевом панихид,
Их музыка - ты слышишь? - говорит:
"Мы это тело в саван облекаем,
Его от ложа к гробу отторгаем".
Цветы, что в брачной комнате моей
Рассыпаны, во всей красе своей,
Мой гроб собой украсят, доцветая,
И отцветет фиалка молодая
Не прежде, чем Джиневра". И, бледна,
Она своей мечтой побеждена,
В груди слабеет голос, взор туманен,
И самый воздух вкруг нее так странен,
Как будто в ясный полдень - страх проник,
И вот она лишь тень, лишь смутный лик:
Так тени из могил и так пророки
Об ужасах, - которые далеки,
Но к нам идут, - вещают. И, смущен,
Как тот, кто преступленьем отягчен,
Как тот, кто под давлением испуга,
Оговорив товарища и друга,
В его глазах упрек не прочитав,
Дрожит пред тем, пред кем он так не прав,
И в приговоре с ним хотел бы слиться,
Раз приговор не может измениться, -
Антонио, робея, ищет слов,
Но вот раздался говор голосов,
Он отошел, другие к ней подходят,
И во дворец ее, дивясь, уводят,
С ней девушки о чем-то говорят,
Она меняет пышный свой наряд,
Они уходят, медля у порога,
Ей надо отдохнуть теперь немного,
И вот, раскрыв глаза, лежит она,
В слабеющем сиянии бледна.
День быстро меркнет с ропотом чуть слышным,
И гости собрались в чертоге пышном;
Сияет красота вдвойне светлей
Под взором зачарованных очей,
И, на себе влюбленность отражая,
На миг она живет в них блеском Рая.
Толпа спокойней, чем безмолвный лес,
Где шепчет лишь любовь средь мглы завес;
Вино горит огнем в сердцах остывших,
А для сердец, свой жар с другими сливших,
Поют с волшебной негой голоса,
Им, детям солнца, музыка - роса:
Здесь многие впервые вместе будут,
Но, разлучась, друг друга не забудут,
Пред многими здесь искрится звезда,
Что раньше не горела никогда,
Очарованье вздоха, слова, взгляда,
Власть юности, рассветная услада;
Разорван жизни будничной покров, -
И как весь мир, стряхнув оковы снов,
Когда землетрясенье наступает,
Ликует и беды своей не знает,
И ветер, над цветами прошептав,
Их аромат роняет между трав,
И шар земной в восторге пробужденья
Во всех сердцах рождает наслажденье,
Ликуют горы, долы и моря,
Сияньем ослепительным горя,
Как будто бы грядущее с минувшим
Сошлись в одном мгновении сверкнувшем, -
Так у Герарди пиршественный зал
Огнями и веселием блистал,
Но кто-то, взоры вкруг себя бросая,
Промолвил вслух: "А где же молодая?"
Тогда одна из девушек ушла,
И, прежде чем, как вестник дня, - светла,
Она придет, среди гостей молчанье
Возникло красноречьем ожиданья,
Сердца, еще не видя красоту,
Уж полны ей и ткут свою мечту;
Потом в сердцах возникло изумленье,
И страх за ним восстал, как привиденье;
От гостя к гостю шепот долетел,
И каждый, услыхав его, бледнел,
Все громче он и громче становился,
И вот Герарди меж гостей явился,
Печалью показной исполнен он,
Кругом рыданье, слышен чей-то стон.
Что ж значит скорбь, - как саван распростертый?
Увы, они нашли Джиневру мертвой,
Да, мертвой, если это смерть - лежать
Без пульса, не вздыхать и не дышать,
Быть белою, холодной, восковою,
С глазами, что как будто над собою
Смеются мертвым светом без лучей,
Стеклянностью безжизненных очей.
Да, мертвой, если это смерть - дыханье
Землистое и льдистый свет, молчанье,
И в страхе дыбом волосы встают,
Как будто дух чумы нашел приют
Вот тут, вот здесь, и в мертвенном покое
Глухой земле он отдает земное,
За быстрой вспышкой вдруг приводит мглу.
За блеском дым рождает и золу:
Ночь мысли так нас тесно обнимает,
Что наша мысль о смерти нашей знает
Лишь то, что может знать о жизни сон,
Который умер, прежде чем рожден.
Пир свадебный - отрада так обманна -
Стал похоронным празднеством нежданно;
С тяжелым сердцем, взор склонивши свой,
Печально все отправились домой;
И слезы неожиданные лили
Не только те, кто мертвую любили,
Во всех сердцах открылся их родник,
Затем что никогда уж этот лик
Пред ними в красоте своей не встанет,
Улыбкой грусть в их сердце не обманет.
Над пиршеством покинутым огни
То здесь, то там светились, и они
В пустом унылом зале освещали
Как бы туман густеющей печали,
Как будто бы, людской покинув ум,
Проникла в воздух тяжесть темных дум.
Еще с Герарди медлили иные,
Друзья умершей, ее родные,
И тупо утешенья слушал он,
В которых не нуждался: не зажжен
Любовью был в нем дух, и лишь смущенье
Он чувствовал, лишь страх, не огорченье,
Их шепотом зловещим смущена,
Еще как бы полнее тишина;
Одни из них беспомощно рыдали,
Другие в тихой медлили печали
И плакали безмолвно, а иной,
Склонясь к столу и скован тишиной,
Вдруг вздрагивал, когда из коридоров,
Из комнат, где сияньем скорбным взоров
Подруги обнимали мертвый лик,
Внезапно раздавался резкий крик,
И свечи в ветре дымно трепетали,
Огнем как бы ответствуя печали;
Раздался звон, глухой, как гул псалмов,
Священники пришли на этот зов
И вновь ушли, увидев, что могила
Все прегрешенья мертвой отпустила,
И плакальщиц тогда явился рой,
Чтоб над Джиневрой плакать молодой.
Похоронный гимн
Бежала старая зима,
К пустыням гор в бессилии сокрылась,
Где холод, свист ветров и тьма,
И к нам весна в лучах звезды спустилась,
В лучах звезды, что дышит над водой.
Непобедимо-молодая,
Своей игрою золотой
Рубеж зимы и ночи отдвигая;
Но, если воздух, травы и вода
Явлению весны не рады,
Джиневра юная, тогда
И мы в тебе не видели отрады!
О, как тиха и холодна
На ложе радости она!
Ты ступишь шаг - увидишь саван белый,
Ты ступишь два - и гроб перед тобой,
И шаг еще - к могиле роковой,
И шаг еще - куда? Дрожа, несмелый,
Ты видишь, что рукой умелой
Пробито сердце черною стрелой.
Пред тем как раз еще моря и мысы
Обнимет солнце - трепещи и жди, -
В тиши шурша, чудовищные крысы
Совьют гнездо в ее груди,
И в волосах, что цвет хранят червонца,
Слепые черви будут пировать,
Покуда солнце царствует как солнце,
Джиневра будет спать и спать.
Повстречались не так...
Повстречались не так, как прощались,
То, что в нас, непостижно другим,
Мы свободно с тобой расставались,
Но сомнением дух наш томим.
Вот, мы скованы мигом одним.
Этот миг отошел безвозвратно,
Как напев, что весной промелькнул,
Как цветок, что расцвел ароматно,
И как луч, что на влаге сверкнул
И на дне, в глубине, утонул.
Этот миг от времен отделился,
Он был первый отмечен тоской,
И восторг его с горечью слился,
- О, обман, для души - дорогой!
Тщетно ждать, что настанет другой.
Если б смерть мою мысли скрывали,
О, уста дорогие, от вас,
Вы отказывать в ней бы не стали,
Вашей влаги вкусивши сейчас,
Умирая, ласкал бы я вас!
Сонет к Байрону
(Я боюсь, что эти стихи не понравятся вам, но)
Когда бы меньше почитал я вас,
От Зависти погибло б Наслажденье;
Отчаянье тогда б и Изумленье
Над тем умом смеялись бы сейчас,
Который, - как червяк, что в вешний час
Участвует в безмерности цветенья, -
Глядя на завершенные творенья,
Отрадою исполнен каждый раз.
И вот, ни власть, что дышит властью Бога,
Ни мощное паренье меж высот,
Куда другие тащатся убого, -
Ни слава, о, ничто не извлечет
Ни вздоха у того, кто возвращает:
Червяк, молясь, до Бога досягает.
Отрывок о Китсе,
который пожелал, чтоб над его могилой написали:
"Здесь тот, чье имя - надпись на воде".
Но, прежде чем успело дуновенье
Стереть слова, - страшася убиенья,
Смерть, убивая раньше все везде,
Здесь, как зима, бессмертие даруя,
Подула вкось теченья, и поток,
От смертного застывши поцелуя,
Кристальностью возник блестящих строк,
И Адонаис умереть не мог.
Дух Мильтона
...Дух Мильтона явился мне сейчас, -
И лютню снял с густого древа жизни,
И громом сладкозвучия потряс
Людишек, презирающих людей,
И кровью обагренные престолы,
И алтари, и крепости, и тюрьмы...
Лавр
- О, по какому праву, дерзновенный,
Свое чело венцом ты осенил?
Не для тебя, ущербный и забвенный,
Он предназначен - для иных светил!
Кто навестил в ее Эдеме Славу,
Кто сызмальства к избранникам причтен,
Тот лаврами украсился по праву,
А ты в толпе исчезнуть осужден!
- О друг, пойми: венец ношу я ложный.
Не он был знаком славы непреложной.
Бессмертный Мильтон не его стяжал...
Мой лавр отравлен. Лист его холодный
Надежд прекрасных много возбуждал,
Но каждая из них была бесплодной!
К Италии
Как для ночей - зари явленье,
Как ветер северный - для туч,
Как быстрый бег землетрясенья -
Для задрожавших горных круч,
Так ты, Италия, навеки
Живи в свободном человеке.
Комната Римлянина
В пещере, скрытой под листвою,
Возлюбленного нежно жди;
Под этой бледною луною
Все дышит кроткой тишиною,
И нет ни облачка. Гляди!
В пирах зловещих, в низкой неге
Когда-то Римлянин здесь жил;
Где вьются дикие побеги,
Там дьявол жертву сторожил...
Тень Ада
Прекрасный ангел златокрылый
Пред троном Судии предстал:
Стопы и длани кровь багрила,
Взор обезумевший блуждал.
Он известил Отца и Сына,
Что бытия мрачна картина,
Что Сатана освобожден
И что несметный легион
Бесов пустил по свету он...
Он смолк - и странный звук раздался,
То вкрадчивый, то сладкий звук,
Как веяние крыл вокруг,
И свет лампад заколебался -
Лампад, что светят над людьми
У лиц Архангелов семи.
165. КОММЕНТАРИИ.
Песня ирландца.
Стихотворение опубликовано в 1810 г. в совместном сборнике
стихотворений Перси Биши Шелли и его сестры Элизабет. Это не единственное
выступление поэта в поддержку борьбы ирландского народа за свободу своей
страны. У него даже было намерение писать историю Ирландии.
Эрин - Ирландия.
Республиканцам Северной Америки.
Котопахи - действующий вулкан.
К Ирландии.
Стихотворение впервые опубликовано лишь в 1907 г.
Монолог Вечного Жида.
Вечный Жид - персонаж многих средневековых легенд. Осужден на вечное
скитание за то, что, по одной версии, глумился над Иисусом, по другой -
ударил его на пути к месту распятия.
К... (Гляди, гляди...)
Стихотворение написано, когда угасла любовь Шелли к его первой жене
Харриэт и наступила счастливая пора влюбленности в Мэри Годвин, ставшую его
второй женой. Мэри Годвин - дочь известного писателя Вильяма Годвина
(1756-1836), оказавшего большое влияние на Шелли своей книгой
"Общественная справедливость", и писательницы Мэри Вулстонкрафт (1759-1797),
автора книги "В защиту человеческих прав". Мэри Годвин (Шелли) - автор
знаменитого романа "Франкенштейн".
Стансы.
Стихотворение посвящено разрыву с первой женой и разлуке с детьми.
К Харриэт.
Харриэт Вестбрук - первая жена Перси Биши Шелли.
Изменчивость.
В ранней юности Шелли был весьма склонен к пессимизму и часто
предавался размышлениям о смерти. См. "О смерти", "Летний вечер на
кладбище".
Летний вечер на кладбище.
В июле 1815 г. Шелли по совету врача совершил путешествие по Темзе, во
время которого и было написано это стихотворение. Вордсворту.
Стихотворение написано как отклик на поэму Вордсворта "Прогулка".
Уильям Вордсворт (см. прим. к поэме "Атласская колдунья") - один из
выдающихся поэтов эпохи романтизма, на которого, тем не менее, нередко
нападали его более молодые современники за то, что с течением времени он из
вольнолюбца, с надеждой взиравшего на Французскую революцию, превратился в
консерватора, то есть отрекся от революции.
Чувства республиканца при падении Наполеона.
См. предисловие.
Гимн интеллектуальной красоте.
К. Бальмонт справедливо считал, что это стихотворение одно из важнейших
в творчестве Шелли и дает основания для сближения философии Шелли с
философией, в первую очередь, Плотина: "По представлениям Плотина, Бог есть
Высшее Благо и Высшая Красота. Космический Разум прекрасен, ибо он образ
Бога. Мир прекрасен, ибо он образ Разума. Космический Разум, Мировая Душа и
Мировое Тело - три Высшие Красоты. Когда мы созерцаем красивое, мы делаемся
красивыми, но, чтобы созерцать Высшую Красоту, нужно сделать свое внутреннее
"я" изваянием: закрыть глаза тела и воскресить живущее в нас видение,
которым обладают все, но которое развивают немногие. Миросозерцание Шелли,
так же как миросозерцание современной теософии, весьма близко к этой схеме".
Согласно воспоминаниям Мэри Шелли, стихотворение было написано вскоре
после знакомства с Джорджем Г. Байроном на берегу Женевского озера и под
непосредственным впечатлением образа Сен-Пре из "Новой Элоизы" Жан-Жака
Руссо (1712-1778).
Лорду-канцлеру.
Впервые стихотворение было опубликовано лишь в 1839 г. В октябре 1816
г. покончила с собой первая жена Шелли, и в марте того же года он был лишен
родительских прав в отношении детей от этого брака. Тогда же ему стало
известно, что лорд-канцлер выразил желание отнять у него и сына от второй
жены Мэри. Решение основывалось на том, что Шелли в своих произведениях
высказывал отрицательное отношение к обязательности брачного института и
осуждение установленных форм христианства, и было совершенно произвольным,
потому что подобные взгляды высказывались далеко не одним Шелли и они не
нарушали законов страны.
...Которая из праха вновь восстала... - Речь идет о "Звездной
палате", высшем суде в Англии в XV-XVII вв. Упразднена во время буржуазной
революции (1641 г.).
...Твоей слезой - она тот самый жернов... - Образ, не раз
встречающийся у Шелли и заимствованный у В.Шекспира. С такими словами
Глостер обращается к своим убийцам в "Ричарде III".
Озимандия.
В Египте на самом деле был найден обломок статуи с именем царя -
Озимандия.
Критику.
В течение всей жизни Шелли подвергался жестоким нападкам критиков,
которые с пристальным и недоброжелательным вниманием следили не только за
его творчеством, но и за его частной жизнью.
К Нилу.
Этот сонет написан в доме поэта Ли Ханта во время дружеского
соревнования между Хаитом, Шелли и еще одним приятелем Шелли. Лучшим был
признан сонет Ли Ханта, который мы приводим в переводе В. Левика:
Нил
Он в тишине песков египетских струится, -
Так медленная мысль ползет сквозь тяжкий сон.
И вещи и века собрал и сблизил он
В их вечной сущности - и к Вечности стремится.
Тут пастухи, стада, там древняя гробница,
Громады пирамид, вонзенных в небосклон,
Тут грозный Сезострис, а там - из тьмы времен
Насмешливо глядит всевластная царица.
И дальше смерть, песок, пустыни вечный гнев,
Изнеможенный мир застыл, оцепенев,
И давит пустота, и дышит небо знойно...
Но плодоносных струй ты слушаешь напев
И мыслишь: как бы нам, чьи дни текут спокойно,
Для человечества свершить свой путь достойно.
Стансы, написанные в унынии вблизи Неаполя.
Мэри Шелли сообщала, что во время написания этого стихотворения поэт
был болен и переносил ужасные страдания, отчего пребывал в мрачном
расположении духа.
В своих примечаниях к переводу К. Бальмонт писал, что у Шелли любимой
забавой было пускать бумажные кораблики, и, когда один такой кораблик
потонул, он сказал: "Как счастлив был бы я потерпеть крушение в такой ладье;
это самая желанная форма смерти!" Несколько раз он и вправду едва не утонул.
В первый раз, когда с Мэри бежал на континент. Во второй раз, когда в
Швейцарии катался с Байроном по Женевскому озеру. В третий раз - за год до
смерти, между Ливорно и Пизой. В четвертый раз, - катаясь с Джейн Уильямс в
лодке... И все-таки он утонул.
Сонет.
Узорный не откидывай покров... - К. Бальмонт считал важным отметить,
что здесь Шелли заимствовал индийское представление о жизни как о покрове,
на котором мерцают узоры вымысла.
Я знал того... - Вероятно, Шелли имеет в виду мифического фракийского
певца Орфея, который отправился в Аид за своей умершей женой Эврндикой. Ему
было запрещено оглядываться на нее и заговаривать с ней, пока он не выйдет
на землю, однако Орфей нарушил запрет и навсегда потерял жену.
Мужам Англии.
Это стихотворение стало гимном чартистов, участников массового
политического движения пролетариата в Великобритании в 1830-1850-е гг.
Увещание.
У Шелли было пристрастие к экзотическим растениям и животным.
Ода западному ветру.
П. Б. Шелли писал: "Это стихотворение было задумано и почти целиком
написано в лесу, обрамляющем Арно, близ Флоренции, в один из тех дней, когда
этот бурный ветер, температура которого одновременно ласкает и живит,
собирает испарения, разрешающиеся осенними дождями. Они возникли, как я и
предвидел, на закате, вместе с сильными взрывами града и дождя,
сопровождаемые теми величественными явлениями грома и молнии, которые
составляют особенность Заальпийских областей. Природный факт, на который я
намекаю в конце третьей стансы, хорошо известен естествоиспытателям.
Растительность на дне моря, рек и озер находится в содружественной связи с
земной растительностью при перемене времен года и следственно подчиняется
влиянию ветров, которые их возвещают" (перевод К. Бальмонта).
Менада - участница буйных празднеств в честь бога Диониса в Древней
Греции.
Байи - известный с древних времен город близ Неаполя.
Медуза Леонардо да Винчи во Флорентийской галерее.
К. Бальмонт писал: "Стихотворение Шелли гораздо глубже и красивее, чем
находящаяся во Флоренции картина Медузы, в которой весьма мало
леонардовского. Образ Медузы был близок фантазии Шелли. Так же, как Колридж
и Эдгар По, он хорошо понимал поэзию чудовищного, змея была его любимым
животным; как он умел поэтизировать ужас, показывает его гениальная трагедия
"Ченчи".
Картина с изображением Медузы Горгоны в настоящее время произведением
Леонардо да Винчи не считается.
Философия любви.
Это стихотворение в одной из рукописных копий имеет подзаголовок
"анакреонтическое".
Наслаждение.
В оригинале называется "Рождение наслаждения".
Облако.
Подобно "Оде западному ветру", одно из хрестоматийных стихотворений
Шелли, породившее ряд подражаний. "Пантеистическая поэзия Шелли очень
родственна с поэзией космогонии, - считал К. Бальмонт. - Природные явления,
как облако, ветер, луна, не явления для него, а живые индивидуальные
сущности... Ветер у него губитель и зиждитель, Облако переходит от
нежнейшего к самому грозному... шеллиевское Облако, едва только все небо
сделается безоблачным, встает белизною и опять разрушает лазурь".
Жаворонок.
Почти все английские поэты отдали дань прославлению жаворонка. О нем
красноречиво и по-разному писали Шекспир, Вальтер Скотт, Вордсворт, Китс.
Ода свободе.
Стихотворение написано под впечатлением испанской революции весной 1820
года. В 1814 году, после падения Наполеона, происходит при помощи Англии
реставрация Бурбонов в Испании и восстановление инквизиции. Революция 1820
г. вынудила Фердинанда VII восстановить конституцию.
...рать анархистов и жрецов... - Во времена Шелли слово "анархист" было
синонимом слова "деспот".
Люций Атилий (IV в. до н.э.) - трибун республиканского Рима.
Марк Фурий Камилл (IV в. до н.э.) - трибун республиканского Рима. За
свои заслуги был прозван вторым основателем Рима.
Капитолий - один из семи холмов Рима, у подножия которого расположен
римский Форум (Рыночная площадь - лат.), где проходили народные собрания,
суд, велась торговля. На вершине холма в V в. до н.э. был построен храм
Юпитера, а на другой вершине, где располагалась римская крепость, в 269 г.
до н.э. был построен храм Юноны Монеты (Советчицы), при котором устроен
монетный двор.
Палатин - один из семи холмов Рима. В период Республики здесь были дома
знати, в дальнейшем Палатин становится местом императорских резиденций.
Скальды - древнескандинавские поэты.
Друиды - гэльские и бриттские жрецы.
Альфред Саксонец, или Альфред Великий (849-901) - англосаксонский
король, дважды спасший Англию от датчан. Покровительствовал литературе, сам
написал несколько сочинений. Известны его слова из "Завещания": "Англичане
должны быть так же свободны, как их мысли".
...Анарх, твоим не захотевший быть... - Наполеон.
Пифекуза - древнее название острова Исхии в Неаполитанском заливе.
Пелор - высокий Сицилийский мыс.
Арминий (18 до н.э. - 20 н.э.) - вождь херусков, освободитель
Германии. В 9 г. н.э. разбил армию римского полководца Вара в Тевтобургском
лесу.
К... (Я трепещу твоих лобзаний...)
К. Бальмонт небезосновательно предлагает сравнить это стихотворение со
стихотворением М.Ю. Лермонтова "Отчего":
Мне грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно... потому что весело тебе.
Аретуза.
Аретуза, в которую влюбился речной бог Алфей, спасаясь от него,
превратилась в ручей, но Алфей стал рекой, и его воды соединились с водами
Аретузы. Это один вариант греческого мифа. Согласно другому, Аретуза бежала
от Алфея по дну моря в Сицилию, и Артемида превратила ее в источник на
острове Ортигии.
...Кряжи Акрокераунские гор... - горная цепь в Эпире.
...в горах Эвриманата... - на юге Греции.
...До прибрежной Дорийской черты... - В Греции есть порожистая горная
река Дора Бальтеа, несущая свои воды в море. Однако здесь и дальше,
по-видимому, "дорийский" - синоним слова "морской", так как мать Аретузы
звали Доридой и она была морской царицей.
...Под обрывистой Энной... - горная цепь в Сицилии.
Песнь Прозерпины.
Прозерпина (Персефона) - дочь богини земного плодородия Деметры,
владычица преисподней и богиня произрастания злаков (греч. миф.). Зимой
Прозерпину похищает бог подземного царства Плутон, а весной он разрешает ей
вернуться на землю к матери, и тогда счастливая Деметра украшает землю
обильной растительностью.
Гимн Аполлона.
Аполлон - бог солнца, покровитель искусств и ремесел, изображался с
лирой.
Оры - крылатые существа, олицетворяющие время.
Гея - олицетворение земли (греч. миф.).
...Целенье и прозренье я несу... - Аполлон считался покровителем
врачевателей, а его святилище в Дельфах было знаменито оракулом,
предсказывавшим будущее.
Гимн Пана.
Пан - аркадский бог лесов и рощ, изображался со свирелью. Состязание
Аполлона и Пана, лиры и свирели, описал Овидий в книге одиннадцатой
"Метаморфоз". В этом состязании не оказалось победителя, если верить Шелли,
хотя в мифе победил Аполлон, и царь Мидас, который не признал его
победителем, был им жестоко наказан. Кстати, если бы Шелли точно следовал
мифу, то начать он должен был бы с "Гимна Пана", потому что состязание начал
Пан. В интерпретации Шелли бог Аполлон - бог индивидуальный, бог личности,
тогда как Пан - бог всего сущего, Аполлон - бог радости, Пан - бог скорби.
Тмолос и (несколькими строками ниже) Пелион - горы в Греции.
Пеней - река в Темпейской долине.
Сиринга (Сиринкс) - наяда, которую преследовал своей любовью Пан.
Сиринга была обращена в тростник, из которого Пан вырезал себе пастушескую
свирель (сиринкс). (Греч. миф.)
Вопрос.
...Над россыпью таинственных цветов... - Здесь анемоны, которых одни
считают слезами Венеры, а другие - цветами Адониса, финикийского божества
природы, олицетворяющего умирающую и воскресающую растительность. Плиний
говорил, что анемоны раскрываются тогда, когда дует ветер.
Башня Голода.
Подразумевается Пизанская башня, служившая тюрьмой. Английский поэт
более позднего времени Роберт Браунинг справедливо заметил, что Шелли спутал
Башню Гвельфов, к которой относится его описание, с Башней Голода, руины
которой находятся на Пьяцца ди и Кавальери.
Аллегория.
Тени представляются поэту вьющимися между горами облаками.
Странники мира.
Необычное для Шелли стихотворение, похожее на простенькую народную
песенку.
Минувшие дни.
Не исключено, что это стихотворение - литературная предтеча знаменитого
цикла английского поэта Альфреда Теннисона "In Memoriam", посвященного его
погибшему другу.
Беглецы.
Возможно, в основе стихотворения воспоминания о бегстве с Мэри Годвин
(Шелли) во Францию.
Перевод А. Кочеткова хранится в РГАЛИ (Шуман. Три баллады для
декламации. Фонд 2189, опись 1, единица хранения 53) и публикуется,
по-видимому, впервые. К сожалению, пропущены четыре последние строки в
третьей строфе.
Вечер.
В этом стихотворении пятая строка третьей строфы в оригинале
недописана.
Азиола.
В английской традиции сова - птица зловещая. (Кстати, не только в
английской. Плиний говорил, что сова есть истинное чудовище ночи.) Шелли и
здесь нарушает традицию, обращаясь к сове с нежностью.
Опошлено слово одно...
Первое стихотворение П. Б. Шелли, переведенное на русский язык и,
по-видимому, переводившееся гораздо чаще других произведений английского
поэта.
Магнетизируя больного.
Джейн (Джен) Уильямс, жена капитана Уильямса, утонувшего вместе с
Шелли, умела погружать поэта в сон и тем самым избавлять от жестоких
невралгических болей. Когда она в первый раз усыпила его, то спросила, что
может его излечить, и он ответил ей: "То, что излечило бы меня, то и убило
бы".
К Джейн с гитарой.
Шелли подарил Джейн Уильямс гитару и написал это стихотворение.
Островок.
К. Бальмонт назвал это стихотворение "нежной камеей".
Любовь, желанье, чаянье и страх.
Не исключено, что на это стихотворение оказала влияние итальянская
средневековая поэзия, явление естественное для западноевропейского
романтизма.
Джиневра.
В 1400 году, Джиневра Амиери, влюбленная в Антонио Рондинелли, была
против воли выдана замуж за некоего Аголанти. Четыре года спустя она впала в
каталепсию и была заживо похоронена. Когда же она очнулась и возвратилась к
своему мужу, он принял ее за привидение и прогнал. Джиневра нашла прибежище
у своего первого возлюбленного, и они поженились. Брак был утвержден
властями.
Сонет к Байрону.
Шелли, несомненно, высоко ценил творчество Байрона, однако же ясно
сознавал и собственный гений.
Отрывок о Китсе.
Джон Китс (1795-1821), один из замечательных английских поэтов XIX
века, опоэтизирован Шелли в поэме "Адонаис".
Дух Мильтона.
Джон Мильтон (1608-1674) - великий английский поэт, автор поэмы
"Потерянный рай", оказал большое влияние на творчество Шелли, говорившего с
богами на равных.
Л. Володарская
Перси Биши Шелли. Освобожденный Прометей
2. ЛИРИЧЕСКАЯ ДРАМА В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ
Audisne haec, Amphiarae,
sub terram abdite?
Слышишь ли ты это, Амфиарей,
скрытый под землею?
3. ПРЕДИСЛОВИЕ
Греческие трагики, заимствуя свои замыслы из отечественной истории или
мифологии, при разработке их соблюдали известный сознательный произвол.
Они отнюдь не считали себя обязанными держаться общепринятого толкования или
подражать, в повествовании и в заглавии, своим соперникам и
предшественникам. Подобный прием привел бы их к отречению от тех самых
целей, которые служили побудительным мотивом для творчества, от желания
достичь превосходства над своими соперниками. История Агамемнона была
воспроизведена на афинской сцене с таким количеством видоизменений, сколько
было самых драм.
Я позволил себе подобную же вольность. Освобожденный Прометей Эсхила
предполагал примирение Юпитера с его жертвой, как оплату за разоблачение
опасности, угрожавшей его власти от вступления в брак с Фетидой. Согласно с
таким рассмотрением замысла, Фетида была дана в супруги Пелею, а Прометей, с
соизволения Юпитера, был освобожден от пленничества Геркулесом. Если бы я
построил мой рассказ по этому плану, я не сделал бы ничего иного, кроме
попытки восстановить утраченную драму Эсхила, и если бы даже мое
предпочтение к этой форме разработки сюжета побудило меня лелеять такой
честолюбивый замысел, одна мысль о дерзком сравнении, которую вызвала бы
подобная попытка, могла пресечь ее. Но, говоря правду, я испытывал
отвращение к такой слабой развязке, как примирение Поборника человечества с
его Утеснителем. Моральный интерес вымысла, столь мощным образом
поддерживаемый страданием и непреклонностью Прометея, исчез бы, если бы мы
могли себе представить, что он отказался от своего гордого языка и робко
преклонился перед торжествующим и коварным противником. Единственное
создание воображения, сколько-нибудь похожее на Прометея, это Сатана, и, на
мой взгляд, Прометей представляет из себя более поэтический характер, чем
Сатана, так как - не говоря уже о храбрости, величии и твердом сопротивлении
всемогущей силе - его можно представить себе лишенным тех недостатков
честолюбия, зависти, мстительности и жажды возвеличения, которые в Герое
Потерянного Рая вступают во вражду с интересом. Характер Сатаны порождает в
уме вредную казуистику, заставляющую нас сравнивать его ошибки с его
несчастьями и извинять первые потому, что вторые превышают всякую меру. В
умах тех, кто рассматривает этот величественный замысел с религиозным
чувством, он порождает нечто еще худшее. Между тем Прометей является типом
высшего нравственного и умственного совершенства, повинующимся самым чистым,
бескорыстным побуждениям, которые ведут к самым прекрасным и самым
благородным целям.
Данная поэма почти целиком была написана на горных развалинах Терм
Каракаллы, среди цветущих прогалин и густых кустарников, покрытых пахучими
цветами, что распространяются в виде все более и более запуганных лабиринтов
по огромным террасам и головокружительным аркам, висящим в воздухе. Яркое
голубое небо Рима, влияние пробуждающейся весны, такой могучей в этом
божественном климате, и новая жизнь, которой она опьяняет душу, были
вдохновением этой драмы.
Образы, разработанные мною здесь, во многих случаях извлечены из
области движений человеческого ума или из области тех внешних действий,
которыми они выражаются. В современной поэзии это прием необычный, хотя
Данте и Шекспир полны подобных примеров, - и Данте более чем кто-либо
другой, и с наибольшим успехом, прибегал к данному приему. Но греческие
поэты, как писатели, знавшие решительно обо всех средствах пробуждения
сочувствия в сердцах современников, пользовались этим сильным рычагом
часто. Пусть же мои читатели припишут эту особенность изучению созданий
Эллады, потому что в какой-нибудь другой, более высокой, заслуге мне,
вероятно, будет отказано.
Я должен сказать несколько чистосердечных слов относительно той
степени, в которой изучение современных произведений могло повлиять на мою
работу, ибо именно такой упрек делался относительно поэм гораздо более
известных, чем моя, и, несомненно, заслуживающих гораздо большей
известности. Невозможно, чтобы человек, живущий в одну эпоху с такими
писателями, как те, что стоят в первых рядах нашей литературы, мог
добросовестно утверждать, будто его язык и направление его мыслей могли не
претерпеть изменений от изучения созданий этих исключительных умов.
Достоверно, что если не характер их гения, то формы, в которых он сказался,
обязаны не столько их личным особенностям, сколько особенностям морального и
интеллектуального состояния тех умов, среди которых они создались. Известное
число писателей, таким образом, обладает внешней формой, но им недостает
духа тех, кому будто бы они подражают; действительно, форма есть как бы
принадлежность эпохи, в которую они живут, а дух должен являться
самопроизвольной вспышкой их собственного ума.
Особенный стиль, отличающий современную английскую литературу -
напряженная и выразительная фантастичность, - если его рассматривать как
силу общую, не был результатом подражания какому-нибудь отдельному писателю.
Масса способностей во всякий период остается, в сущности, одной и той же;
обстоятельства, пробуждающие ее к деятельности, беспрерывно меняются. Если
бы Англия была разделена на сорок республик, причем каждая по размерам и
населению равнялась бы Афинам, нет никакого основания сомневаться, что, при
учреждениях не более совершенных, чем учреждения афинские, каждая из этих
республик создала бы философов и поэтов равных тем, которые никогда не были
превзойдены, если только мы исключим Шекспира. Великим писателям золотого
века нашей литературы мы обязаны пламенным пробуждением общественного
мнения, низвергнувшим наиболее старые и наиболее притеснительные формы
ортодоксальных предрассудков. Мильтону мы обязаны ростом и развитием того же
самого духа: пусть вечно помнят, что священный Мильтон был республиканцем и
смелым исследователем в области морали и религии. Великие писатели нашей
собственной эпохи, как мы имеем основание предполагать, являются
созидателями и предшественниками какой-то неожиданной перемены в условиях
нашей общественной жизни или в мнениях, являющихся для них цементом. Умы
сложились в тучу, она разряжается своей многосложной молнией, и равновесие
между учреждениями и мнениями теперь восстанавливается или близко к
восстановлению.
Что касается подражания, поэзия есть искусство мимическое. Она создает,
но она создает посредством сочетаний и изображений. Поэтические отвлечения
прекрасны и новы не потому, что составные их части не имели предварительного
существования в уме человека или в природе, а потому, что все в целом,
будучи создано их сочетанием, дает некоторую мыслимую и прекрасную аналогию
с этими источниками мысли и чувства и с современными условиями их развития:
великий поэт представляет из себя образцовое создание природы, и другой поэт
не только должен его изучать, но и непременно изучает. Если б он решился
исключить из своего созерцания все прекрасное, что существует в
произведениях какого-нибудь великого современника, это было бы так же
неразумно и так же трудно, как приказать своему уму не быть более зеркалом
всего прекрасного, что есть в природе. Такая задача была бы пустым
притязанием для каждого, кроме самого великого, и даже у него в результате
получились бы напряженность, неестественность и бессилие. Поэт представляет
из себя сочетание известных внутренних способностей, изменяющих природу
других, и известных внешних влияний, возбуждающих и поддерживающих эти
способности; он является, таким образом, олицетворением не одного
неделимого, а двух. В этом отношении каждый человеческий ум изменяется под
воздействием всех предметов природы и искусства, под воздействием всякого
слова, всякого внушения, которому он позволил влиять на свое сознание; он -
как зеркало, где отражаются все формы, сочетаясь в одну. Поэты, так же как
философы, живописцы, ваятели и музыканты, являются в одном отношении
творцами своей эпохи, в другом - ее созданиями. От такой подчиненности не
могут уклониться даже высшие умы. Есть известное сходство между Гомером и
Гесиодом, Эсхилом и Еврипидом, Виргилием и Горацием, Данте и Петраркой,
Шекспиром и Флетчером, Драйденом и Попом; в каждом из них есть общая родовая
черта, под господством которой образуются их личные особенности. Если такое
сходство есть следствие подражания, охотно признаюсь, что я подражал.
Пользуюсь этим случаем, чтобы засвидетельствовать, что мною руководило
чувство, которое шотландский философ весьма метко определил как "страстное
желание преобразовать мир". Какая страсть побуждала его написать и
опубликовать свою книгу, этого он не объясняет. Что касается меня, я
предпочел бы скорее быть осужденным вместе с Платоном и лордом Бэконом, чем
быть в Небесах вместе с Палеем и Мальтусом. Однако, было бы ошибкой
предполагать, что я посвящаю мои поэтические произведения единственной
задаче - усиливать непосредственно дух преобразований, или что я смотрю на
них как на произведения, в той или иной степени содержащие какую-нибудь,
созданную рассудком, схему человеческой жизни. Дидактическая поэзия мне
отвратительна; то, что может быть одинаково хорошо выражено в прозе, в
стихах является претенциозным и противным. Моей задачей до сих пор было -
дать возможность наиболее избранному классу читателей с поэтическим вкусом
обогатить утонченное воображение идеальными красотами нравственного
превосходства; я знаю, что до тех пор пока ум не научится любить,
преклоняться, верить, надеяться, добиваться, рассудочные основы морального
поведения будут семенами, брошенными на торную дорогу жизни, и беззаботный
путник будет топтать их, хотя они должны были бы принести для него жатву
счастья. Если бы мне суждено было жить для составления систематического
повествования о том, что представляется мне неподдельными элементами
человеческого общежития, защитники несправедливости и суеверия не могли бы
льстить себя той мыслью, будто Эсхила я беру охотнее своим образцом, нежели
Платона.
Говоря о себе со свободой, чуждой аффектации, я не нуждаюсь в
самозащите перед лицом людей чистосердечных; что касается иных, пусть они
примут во внимание, что, искажая вещи, они оскорбят не столько меня, сколько
свой собственный ум и свое собственное сердце. Каким бы талантом ни обладал
человек, хотя бы самым ничтожным, он обязан им пользоваться, раз этот талант
может сколько-нибудь служить для р азвлечения и поучения других: если его
попытка окажется неудавшейся, несовершенная задача будет для него
достаточным наказанием; пусть же никто не утруждает себя, громоздя над его
усилиями прах забвения; куча пыли в этом случае укажет на могилу, которая
иначе осталась бы неизвестной.
4. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Прометей. Азия.
Демогоргон. Пантея. Океаниды.
Юпитер. Иона
Земля. Призрак Юпитера.
Океан. Дух Земли.
Аполлон. Дух Луны.
Меркурий. Духи Часов.
Геркулес. Духи, Отзвуки Эха, Фавны, Фурии.
5. ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Сцена: Индийский Кавказ, ущелье среди скал, покрытых льдом. Над пропастью
прикован Прометей. Пантея и Иона сидят у его ног. - Ночь. По мере развития
сцены медленно занимается рассвет.
Прометей
Монарх Богов и Демонов могучих,
Монарх всех Духов, кроме Одного!
Перед тобой - блестящие светила,
Несчетные летучие миры;
Из всех, кто жив, кто дышит, только двое
На них глядят бессонными очами:
Лишь ты и я! Взгляни с высот на Землю,
Смотри, там нет числа твоим рабам.
Но что ж ты им даешь за их молитвы,
За все хвалы, коленопреклоненья,
За гекатомбы гибнущих сердец?
Презренье, страх, бесплодную надежду.
И в ярости слепой ты мне, врагу,
Дал царствовать в триумфе бесконечном
Над собственным моим несчастьем горьким,
Над местью неудавшейся твоей.
Три тысячи как будто вечных лет,
Исполненных бессонными часами,
Мгновеньями таких жестоких пыток,
Что каждый миг казался дольше года, -
Сознание, что нет нигде приюта,
И боль тоски, отчаянье, презренье -
Вот царство, где царить досталось мне.
В нем больше славы, вечной и лучистой,
Чем там, где ты царишь на пышном троне,
Которого я не взял бы себе.
Могучий Бог, ты был бы Всемогущим,
Когда бы я с тобою стал делить
Позор твоей жестокой тирании,
Когда бы здесь теперь я не висел,
Прикованный к стене горы гигантской,
Смеющейся над дерзостью орла,
Безмерной, мрачной, мертвенно-холодной,
Лишенной трав, животных, насекомых,
И форм, и звуков жизни. Горе мне!
Тоска! Тоска всегда! Тоска навеки!
Ни отдыха, ни проблеска надежды,
Ни ласки сна! И все же я терплю.
Скажи, Земля, граниту гор не больно?
Ты, Небо, ты, всевидящее Солнце,
Скажите, эти пытки вам не видны?
Ты, Море, область бурь и тихих снов,
Небес далеких зеркало земное,
Скажи, ты было глухо до сих пор,
Не слышало стенаний агонии?
О, горе, мне! Тоска! Тоска навеки!
Меня теснят враждебно ледники,
Пронзают острием своих кристаллов
Морозно-лунных; цепи, точно змеи,
Въедаются, сжимают до костей
Объятием - и жгучим, и холодным.
Немых Небес крылатая собака
Нечистым клювом, дышащим отравой,
Огнями яда, данного тобою,
В груди моей на части сердце рвет;
И полчища видений безобразных,
Исчадия угрюмой сферы снов,
Вокруг меня сбирается с насмешкой;
Землетрясенья демонам свирепым
Доверена жестокая забава -
Из ран моих дрожащих дергать гвозди,
Когда за мной стена бездушных скал
Раздвинется, чтоб тотчас вновь сомкнуться;
Меж тем как духи бурь, из бездн гудящих,
Торопят диким воем ярость вихря,
Бегут, спешат нестройною толпой,
И бьют меня, и хлещут острым градом.
И все же мне желанны день и ночь.
Бледнеет ли туман седого утра,
Покорный свету солнечных лучей,
Восходит ли по тусклому Востоку,
Меж туч свинцовых, Ночь в одежде звездной,
Медлительна и грустно-холодна, -
Они влекут семью часов бескрылых,
Ползучую ленивую толпу,
И между ними будет час урочный,
Тебя он свергнет, яростный Тиран,
И вынудит - стереть лобзаньем жадным
Потоки крови с этих бледных ног,
Хотя они тебя топтать не будут,
Таким рабом потерянным гнушаясь.
Гнушаясь? Нет, о, нет! Мне жаль тебя.
Как будешь ты ничтожно-беззащитен,
Какая гибель будет властно гнать
Отверженца в бездонных сферах Неба!
Твоя душа, растерзанная страхом,
Откроется, зияя точно ад!
В моих словах нет гнева, много скорби,
Уж больше я не в силах ненавидеть:
Сквозь тьму скорбей я к мудрости пришел.
Когда-то я дышал проклятьем страшным,
Теперь его хотел бы я услышать,
Чтоб взять его назад. Внемлите, Горы,
Чье Эхо чары горького проклятья
Рассыпало, развеяло кругом,
Гремя стозвучно в хоре водопадов!
О, льдистые холодные Ключи,
Покрытые морщинами Мороза,
Вы дрогнули, улышавши меня,
И с трепетом тогда сползя с утесов,
По Индии поспешно потекли!
Ты, ясный Воздух, где блуждает Солнце,
Пылая без лучей! И вы, о Вихри,
Безгласно вы повисли между скал,
С безжизненно-застывшими крылами,
Вы замерли над пропастью притихшей,
Меж тем как гром, что был сильней, чем ваш,
Заставил мир земной дрожать со стоном!
О, если те слова имели власть, -
Хоть зло во мне теперь навек погасло,
Хоть ненависти собственной моей
Я более не помню, - все ж прошу вас,
Молю, не дайте им теперь погибнуть!
В чем было то проклятие? Скажите!
Вы слушали, вы слышали тогда!
Первый голос: из гор
Много дней и ночей, трижды триста веков
Наполнялись мы лавой кипучей,
И, как люди, под бременем тяжких оков,
Содрогались толпою могучей.
Второй голос: от источников.
Нас пронзали стремительных молний огни,
Осквернялись мы горькою кровью.
И внимали стенаньям свирепой резни,
И дивились людскому злословью.
Третий голос: из воздуха
С первых дней бытия над землей молодой
Я блистал по высотам и склонам,
И не раз и не два мой покой золотой
Был смущен укоризненным стоном.
Четвертый голос: от вихрей
У подножия гор мы крутились века,
Мы внимали громовым ударам.
И смотрели, как лавы несется река
Из вулканов, объятых пожаром.
Не умели молчать и, чтоб вечно звучать,
Мы желаньем ломали Безмолвья печать,
Отдаваясь ликующим чарам.
Первый голос
Но лишь однажды ледники
До основанья пошатнулись,
Когда мы с ужасом согнулись
В ответ на крик твоей тоски.
Второй голос
Всегда стремясь к пустыне Моря,
Один лишь раз во тьме времен
Промчали мы протяжный стон
Нечеловеческого горя.
И вот моряк, на дне ладьи
Лежавший в сонном забытьи,
Услышал рев пучины шумной,
Вскочил, - и, вскрикнув: "Горе мне!" -
Он в Море бросился, безумный,
И скрылся в черной глубине.
Третий голос
Внимая страшным заклинаньям,
Был так истерзан свод Небес,
Что между порванных завес
Рыданья вторили рыданьям;
Когда ж лазурь сомкнулась вновь,
По небу выступила кровь.
Четвертый голос
А мы ушли к высотам спящим
И там дыханьем леденящим
Сковали шумный водопад;
В пещеры льдистые бежали
И там испуганно дрожали,
Глядя вперед, глядя назад;
От изумленья и печали
Мы все молчали, _мы_ молчали,
Хотя для нас молчанье - ад.
Земля
Неровных скал безгласные Пещеры
Тогда вскричали: "Горе!" Свод Небес
Ответил им протяжным воплем: "Горе!"
И волны Моря, пурпуром покрывшись,
Карабкались на землю с громким воем,
Толпа ветров хлестала их бичом,
И бледные дрожащие народы
Внимали долгий возглас: "Горе! Горе!"
Прометей
Я слышу смутный говор голосов,
Но собственный мой голос дней далеких
Не слышен мне. О мать моя, зачем
Глумишься ты с толпой своих созданий
Над тем, без чьей все выносящей воли
Исчезла б ты с семьей своих детей
Под бешенством свирепого Тирана,
Как легкий дым незримо исчезает,
Развеянный дыханием ветров.
Скажи мне, вы не знаете - Титана,
Кто в горечи своих терзаний жгучих
Нашел преграду вашему врагу?
Вы, горные зеленые долины,
Источники, питаемые снегом,
Чуть видные глубоко подо мной,
Лесов тенистых смутные громады,
Где с Азией когда-то я бродил,
Встречая жизнь в ее глазах любимых, -
Зачем теперь тот дух, что вас живит,
Гнушается беседовать со мною?
Со мною, кто один вступил в борьбу
И встал лицом к лицу с коварной силой
Властителя заоблачных высот,
Насмешливо глядящего на Землю,
Где стонами измученных рабов
Наполнены безбрежные пустыни.
Зачем же вы безмолвствуете? Братья!
Дадите ли ответ?
Земля
Они не смеют.
Прометей
Но кто ж тогда посмеет? Я хочу
Опять услышать звуки заклинанья.
А! Что за страшный шепот пробежал.
Встает, растет! Как будто стрелы молний
Дрожат, готовясь бурно разразиться.
Стихийный голос Духа смутно шепчет,
Он близится ко мне, я с ним сливаюсь.
Скажи мне, Дух, как проклял я его?
Земля
Как можешь ты услышать голос мертвых?
Прометей
Ты - Дух живой. Скажи, как жизнь сама
Сказала бы, ведя со мной беседу.
Земля
Я знаю речь живых, но я боюсь, -
Жестокий Царь Небес меня услышит
И в ярости привяжет к колесу
Какой-нибудь свирепой новой пытки,
Больней, чем та, которую терплю.
В тебе добро, ты можешь все постигнуть,
Твоя любовь светла, - и, если Боги
Не слышат этот голос, - ты услышишь,
Ты более, чем Бог, - ты мудрый, добрый:
Так слушай же внимательно теперь.
Прометей
Как сумрачные тени, быстрым роем,
В моем уме встают и тают мысли,
И вновь трепещут страшною толпой.
Я чувствую, что все во мне смешалось,
Как в том, кто слился с кем-нибудь в объятье;
Но в этом нет восторга.
Земля
Нет, о, нет, -
Услышать ты не можешь, ты бессмертен,
А эта речь понятна только тем,
Кто должен умереть.
Прометей
Печальный Голос!
Но кто же ты?
Земля
Я мать твоя, Земля.
Та, в чьей груди, в чьих жилах каменистых,
Во всех мельчайших фибрах, - до листов,
Трепещущих на призрачных вершинах
Деревьев высочайших, - билась радость,
Как будто кровь в живом и теплом теле,
Когда от этой груди ты воспрянул,
Как дух кипучий радости живой,
Как облако, пронизанное солнцем!
И вняв твой голос, все мои сыны
Приподняли измученные лица,
Покрытые обычной грязной пылью,
И наш Тиран, жестокий и всевластный,
В испуге жгучем стал дрожать, бледнеть,
Пока не грянул гром ему в защиту,
И ты, Титан, прикован был к скале.
И вот взгляни на эти миллионы
Миров, что мчатся в пляске круговой,
Со всех сторон пылая вечным блеском:
Их жители, взирая на меня,
Увидели, что свет мой гаснет в Небе;
И встало Море с ропотом протяжным,
Приподнятое властью странной бури;
И столб огня, невиданного прежде,
Под гневом Неба встал из снежных гор,
Тряся своей мохнатой головою;
В равнинах был Потоп - и стрелы Молний,
Цвели волчцы средь мертвых городов;
В чертогах жабы ползали, и пала
Чума на человека, и зверей,
И на червей, а с ней явился Голод;
И черный веред глянул на растеньях;
И там, где прежде нежились хлеба,
И там, где виноградник был и травы,
Мелькнули ядовитые цветы,
И сорною толпой зашевелились,
И высосали грудь мою корнями,
И грудь моя иссохла от тоски;
Мое дыханье - воздух утонченный -
Мгновенно потемнело, запятналось
Той ненавистью жгучей, что возникла
У матери к врагу ее детей,
К врагу ее возлюбленного чада;
Я слышала проклятие твое,
И если ты теперь его не помнишь, -
Мои моря, пещеры, сонмы гор,
Мои ручьи, и тот далекий воздух,
И ветры, и несчетные громады
Невнятно говорящих мертвецов
Хранят его как талисман заветный.
Мы в радованье тайном размышляем,
Надеемся на страшные слова,
Но вымолвить не смеем.
Прометей
Мать моя!
Все, что живет, что бьется и страдает,
Находит утешенье у тебя,
Цветы, плоды, и радостные звуки,
И сладкую, хоть беглую, любовь;
Не мой удел - изведать это счастье,
Но я свои слова прошу назад,
Отдай их мне, молю, не будь жестокой.
Земля
Ты должен их услышать. Так внимай же!
В те дни, как не был прахом Вавилон,
Мой мудрый сын, кудесник Зороастр,
В саду блуждая, встретил образ свой.
Из всех людей один лишь он увидел
Видение такое. Знай, что есть
Два мира: жизни мир и бледной смерти.
Один из них ты видишь, созерцаешь,
Другой сокрыт в глубинах преисподних,
В туманном обиталище теней
Всех форм, что дышат, чувствуют и мыслят,
Покуда смерть их вместе не сведет
Навек туда, откуда нет возврата.
Там сны людей, их светлые мечтанья,
И все, чему упорно сердце верит,
Чего надежда ждет, любовь желает;
Толпы видений, образов ужасных,
Возвышенных, и странных, и таящих
Гармонию спокойной красоты;
В тех областях и ты висишь, как призрак,
Страданьем искаженный, между гор,
Где бурные гнездятся ураганы;
Все боги там, все царственные силы
Миров неизреченных, сонмы духов,
Теней огромных, властью облеченных,
Герои, люди, звери; Демогоргон,
Чудовищного мрака воплощенье;
И он, Тиран верховный, на престоле
Огнисто-золотом. Узнай, мой сын,
Один из этих призраков промолвит
Слова проклятья, памятного всем, -
Как только воззовешь протяжным зовом,
Свою ли тень, Юпитера, Гадеса,
Тифона или тех Богов сильнейших,
Властителей дробящегося Зла,
Что в мире распложаются обильно,
С тех пор как ты погиб, со дня, как стонут
Мои сыны, поруганные чада.
Спроси, они должны тебе ответить,
Спроси, и в этих призраках бесплотных
Отмщение Всевышнего забьется, -
Как бурный дождь, гонимый быстрым ветром,
Врывается в покинутый чертог.
Прометей
О мать моя, хочу, чтоб злое слово
Не высказано было мной опять
Иль кем-нибудь, в ком сходство есть со мною.
Подобие Юпитера, явись!
Иона
Крылами скрыла я глаза,
Крылами мой окутан слух, -
Но чу! Мне слышится гроза,
Но вот! Встает какой-то Дух.
Сквозь мягких перьев белизну
Я вижу темную волну, -
И свет потух;
О, только б не было вреда
Тебе, чьи боли нам больны,
Чьи пытки видим мы всегда,
С кем мы страдать должны.
Пантея
Подземный смерч гудит вокруг,
Звучит гряда разбитых гор,
Ужасен Дух, как этот звук,
На нем из пурпура убор.
Своею жилистой рукой
Он держит посох золотой.
О, страшный взор!
Свиреп огонь глубоких глаз,
Тот светоч ненависть зажгла,
Он точно хочет мучить нас,
Но сам не терпит зла.
Призрак Юпитера
Зачем сюда веленье тайных сил,
Что властвуют над этим миром странным,
В раскатах бурь закинуло меня
Непрочное пустое привиденье?
Вкруг уст моих какие звуки реют?
Не так во мраке, бледными устами,
Толпа видений шепчет меж собой.
И ты, скажи, страдалец гордый, - кто ты?
Прометей
Ужасный Образ! Вот таков, как ты,
И он, Тиран свирепый, тот, чьей тенью
Ты должен быть. Я враг его, Титан.
Скажи слова, которые услышать
Желал бы я, хотя глухой твой голос
Не будет отраженьем дум твоих.
Земля
Внимайте все, сдержавши голос Эха,
Седые горы, древние леса,
Семья ручьев, цветами окруженных,
Пророческих пещер, ключей, бегущих
Вкруг пышных островков, - ликуйте все.
Внимая звукам страшного заклятья,
Которого не можете сказать.
Призрак Юпитера
Какой-то дух, меня своею силой
Окутавши, беседует во мне.
Он рвет меня, как тучу - стрелы молний.
Пантея
Смотрите! Он глядит могучим взглядом.
Над ним темнеет Небо.
Иона
Если б скрыться!
Куда бы скрыться мне! Он говорит.
Прометей
В его движеньях, гордых и холодных,
Проклятие сквозит. Я вижу взоры,
В них светится бесстрашный вызов, твердость.
Отчаянье и ненависть, - и все
Как будто бы записано на свитке.
О, говори, скорее говори!
Призрак
Заклятый враг! Свирепствуй! Будь готов
Исчерпать все, безумство, злобу, страсти;
Тиран Людского рода и Богов, -
Есть дух один, что выше дикой власти.
Я здесь! Смотри! Бичуй меня
Морозом, язвою огня,
Громи ветрами, градом, бурей,
Как вестник ужаса приди,
За болью боль нагромозди,
Гони ко мне скорей толпу голодных фурий!
А! Сделай все! Тебе запрета нет.
Ты всемогущ, - собой лишь не владеешь,
Да тем, что я хочу. Источник бед!
Ты бременем над миром тяготеешь.
Пытай на медленном огне
Меня и всех, кто дорог мне;
Гонимый злобой вероломной,
Достигни грани роковой,
А я, с поднятой головой,
Взгляну, как будешь ты греметь из тучи темной.
Но помни, Бог и Царь среди Богов,
Ты, чьей душой исполнен мир мучений,
Ты, правящий под громкий звон оков
И жаждущий коленопреклонений,
Тебя, мучитель, проклял я,
С тобою ненависть моя,
Она тебя отравит ядом,
Венец, в котором будет зло,
Тебе наденет на чело,
На троне золотом с тобою сядет рядом.
Будь проклят! Знай: тебе придет пора,
Один ты встретишь вражескую Вечность,
И, зло любя, познаешь власть добра,
Изведаешь мучений бесконечность.
Да будет! Делай зло - и жди,
Потом к возмездию приди, -
Лишенный царского убранства,
Исчерпав бешенство и ложь,
Позорным пленником падешь
В безбрежности времен, в безбрежности пространства.
Прометей
Скажи, о Мать, мои слова то были?
Земля
Твои слова.
Прометей
Мне жаль. Они бесплодны.
Я не хочу, чтоб кто-нибудь страдал.
Земля
О, где для горя взять мне сил!
Теперь Юпитер победил.
Реви, гремучий Океан!
Поля, покройтесь кровью ран!
О Духи мертвых и живых,
Рыдайте в муках огневых,
Земля ответит вам на стон, -
Кто был защитой вам, разбит и побежден!
Первое эхо
Разбит и побежден!
Второе эхо
И побежден!
Иона
Не бойтесь: это лишь порыв,
Титан еще не побежден;
Но там, взгляните за обрыв,
За снежный горный склон:
Воздушный Призрак там спешит,
Под ним лазурь Небес дрожит,
Крутится тучек длинный ряд;
Блестя отделкой дорогой,
Его сандалии горят;
Подъятой правою рукой
Как будто он грозит, - и в ней
Сверкает жезл, и вкруг жезла
То меркнет свет, то вспыхнет мгла, -
Играют кольца змей.
Пантея
Юпитера герольд, спешит Меркурий.
Иона
А там за ним? Несчетная толпа, -
Видения с железными крылами,
С кудрями гидры, - вот они плывут,
Их воплями смущен далекий воздух,
И гневный Бог, нахмурившись, грозит им.
Пантея
Юпитера прожорливые псы,
В раскатах бурь бегущие собаки,
Которых он накармливает кровью,
Когда несется в серных облаках,
Пределы Неба громом разрывая.
Иона
Куда ж они теперь спешат
Неисчислимыми толпами?
Покинув пыток темный ад,
Питаться новыми скорбями!
Пантея
Титан глядит не гордо, но спокойно.
Первая фурия
А! Запах жизни здесь я слышу!
Вторая фурия
Дай мне
Лишь заглянуть в лицо ему!
Третья фурия
Надежда
Его терзать мне сладостна, как мясо
Гниющих тел на стихшем поле битвы
Для хищных птиц.
Первая фурия
Еще ты будешь медлить,
Герольд! Вперед, смелей, Собаки Ада!
Когда же Майи сын нам пищу даст?
Кто может Всемогущему надолго
Угодным быть?
Меркурий
Назад! К железным башням!
Голодными зубами скрежещите
Вблизи потока воплей и огня!
Ты, Герион, восстань! Приди, Горгона!
Химера, Сфинкс, из демонов хитрейший,
Что Фивам дал небесное вино,
Отравленное ядом, - дал уродство
Чудовищной любви, страшнейшей злобы:
Они за вас свершат задачу вашу.
Первая фурия
О, сжалься, сжалься! Мы умрем сейчас
От нашего желанья. Не гони нас.
Меркурий
Тогда лежите смирно и молчите. -
Страдалец грозный, я к тебе пришел
Без всякого желанья, против воли,
Иду, гонимый тягостным веленьем
Всевышнего Отца, дабы свершить
Замышленную пытку новой мести.
Мне жаль тебя, себя я ненавижу
За то, что сделать большего не в силах.
Увы, едва вернусь я от тебя,
Как Небо представляется мне Адом, -
И день и ночь преследует меня
Измученный, истерзанный твой образ,
С улыбкой укоризненной. Ты - мудрый,
Ты - кроткий, добрый, твердый, - но зачем же
Напрасно ты упорствуешь один
В борьбе со Всемогущим? Иль не видишь,
Что яркие светильники небес,
Медлительное время измеряя,
Тебе гласят о тщетности борьбы
И будут вновь и вновь гласить все то же.
И вот опять Мучитель твой, задумав
Тебя подвергнуть пыткам, страшной властью
Облек те силы злые, что в Аду
Неслыханные муки измышляют.
Мой долг - вести сюда твоих врагов,
Нечистых, ненасытных, изощренных
В свирепости, - и здесь оставить их.
Зачем, зачем? Ведь ты же знаешь тайну,
Сокрытую от всех живых существ,
Способную исторгнуть власть над Небом
Из рук того, кто ею облечен,
И дать ее другому; этой тайны
Страшится наш верховный Повелитель:
Одень ее в слова, и пусть она
Придет к его стопам, как твой заступник;
Склони свой дух к мольбе, и будь как тот,
Кто молится в великолепном храме,
Согнув колена, гордость позабыв:
Ты знаешь, что даянье и покорность
Смиряют самых диких, самых сильных.
Прометей
Злой ум меняет доброе согласно
Своей природе. Кто его облек
Могучей властью? Я! А он в отплату
Меня сковал на месяцы, на годы,
На долгие века, - и Солнце жжет
Иссохшую, израненную кожу, -
И холод Ночи снежные кристаллы,
Смеясь, бросает в волосы мои,
В то время как мои любимцы, люди,
Для слуг его потехой стали. Так-то
Тиран платить умеет за добро!
Что ж, это справедливо: злые души
Принять добра не могут: дай им мир, -
В ответ увидишь страх, и стыд, и злобу,
Но только не признательность. Он мстит мне
За ряд своих же низких злодеяний.
Для душ таких добро - больней упрека,
Оно терзает, ранит их, и жалит,
И спать им не дает, твердя о Мести.
Покорности он хочет? Нет ее!
И что сокрыто в том зловещем слове?
Глухая смерть и рабство для людей.
Покорность - сицилийский меч, дрожащий
На волоске над царскою короной, -
Он мог бы взять ее, но я не дам.
Другие пусть потворствуют Злодейству.
Пока оно, бесчинствуя, царит.
Им нечего бояться: Справедливость,
Достигнув торжества, карать не будет,
А только с состраданием оплачет
Мучения свои. И вот я жду.
А час возмездья близится, и даже,
Пока мы речь ведем, он ближе стал.
Но слышишь - то ревут собаки Ада,
Скорей, не медли, Небо омрачилось,
Нахмурился во гневе твой Отец.
Меркурий
О, если б можно было нам избегнуть:
Тебе - страданий, мне - постылой кары
Быть вестником твоих скорбей. Ответь мне,
Ты знаешь, сколько времени продлится
Владычество Юпитера?
Прометей
Одно лишь
Открыто мне: оно должно пройти.
Меркурий
Увы, не можешь ты исчислить, сколько
Еще придет к тебе жестоких мук!
Прометей
Пока царит Юпитер, будут пытки -
Не менее, не более.
Меркурий
Помедли,
Мечтой в немую Вечность погрузись.
Туда, где все, что Время записало,
Все то, что можем в мыслях мы увидеть,
Века, загроможденные веками,
Лишь точкой представляются, - куда
Смущенный ум идти не может больше, -
В пределы, где, уставши от полета,
Он падает и кружится во тьме,
Потерянный, ослепший, бесприютный, -
Быть может, даже там ты счесть не сможешь
Всей бездны лет, которые придут
С бессменным, рядом новых-новых пыток?
Прометей
Быть может, ум бессилен счесть мученья, -
И все ж они проходят.
Меркурий
Если б ты
Мог жить среди Богов, овеян негой!
Прометей
Мне лучше здесь, - висеть в ущелье мертвом,
Не ведая раскаянья.
Меркурий
Увы!
Дивлюсь тебе, и все ж тебя жалею.
Прометей
Жалей рабов Юпитера покорных,
Снедаемых презрением к себе,
Меня жалеть нельзя, мой дух спокоен,
В нем ясный мир царит, как в солнце - пламя.
Но что слова! Зови скорей врагов.
Иона
Сестра, взгляни, огнем бездымно-белым
Разбило ствол того густого кедра,
Окутанного снегом. Что за гнев
Звучит в раскатах яростного грома!
Меркурий
Его словам, а также и твоим
Я должен быть послушен. Как мне трудно!
Пантея
Смотри, ты видишь, там дитя Небес
Бежит, скользит крылатыми ногами
По косвенной покатости Востока.
Иона
Сестра моя, сверни скорее крылья,
Закрой глаза: увидишь их - умрешь:
Они идут, идут, рожденье дня
Несчетными крылами затемняя,
Как смерть, пустыми снизу.
Первая фурия
Прометей!
Вторая фурия
Титан бессмертный!
Третья фурия
Друг Людского рода!
Прометей
Тот, кто здесь слышит этот страшный голос,
Титан плененный, Прометей. А вы,
Чудовищные формы, - что вы, кто вы?
Еще ни разу Ад, всегда кишащий
Уродствами, сюда не высылал
Таких кошмаров гнусных, порожденных
Умом Тирана, жадным к безобразью;
Смотря на эти мерзостные тени,
Как будто бы я делаюсь подобен
Тому, что созерцаю, - и смеюсь,
И глаз не отрываю, проникаясь
Чудовищным сочувствием.
Первая фурия
Мы - слуги
Обманов, пыток, страха, преступленья
Когтистого и цепкого; всегда,
Подобные собакам исхудалым,
Что жадно гонят раненую лань,
Мы гонимся за всем, что плачет, бьется,
Живет и нам дается на забаву,
Когда того захочет высший Царь.
Прометей
О, множество ужаснейших созданий
Под именем одним! Я знаю вас.
И гладь озер, и стонущее Эхо
Знакомы с шумом ваших темных крыл.
Но все ж зачем другой, кто вас ужасней,
Из бездны вызвал ваши легионы?
Вторая фурия
Не знаем. Сестры, сестры, наслаждайтесь!
Прометей
Что может в безобразье ликовать?
Вторая фурия
Влюбленные, взирая друг на друга,
От прелести восторга веселеют:
Равно и мы. И как от ярких роз
Воздушный свет струится, нежно-алый,
На бледное лицо склоненной жрицы,
Для празднества сплетающей венок,
Так с наших жертв, с их мрачной агонии,
Струится тень и падает на нас,
Давая вместе с формой одеянье,
А то бы мы без образа дышали,
Как наша мать, бесформенная Ночь.
Прометей
Смеюсь над вашей властию, над тем,
Кто вас послал сюда для низкой цели.
Презренные! Исчерпайте все пытки!
Первая фурия
Не думаешь ли ты, что мы начнем
Срывать от кости кость и нерв от нерва?
Прометей
Моя стихия - боль, твоя - свирепость.
Терзайте. Что мне в том!
Вторая фурия
Да ты как будто
Узнал, что мы всего лишь посмеемся
В твои глаза, лишенные ресниц?
Прометей
Что делаете вы, о том не мыслю,
А думаю, что вы должны страдать,
Живя дыханьем зла. О, как жестоко
То властное веление, которым
Вы созданы, и все, что так же низко!
Третья фурия
Подумал ли о том, что мы способны
Тобою жить, в тебе, через тебя,
Одна, другая, третья, всей толпой?
И если омрачить не можем душу,
Горящую внутри, - мы сядем рядом,
Как праздная крикливая толпа,
Что портит ясность духа самых мудрых.
В твоем уме мы будем страшной думой,
Желаньем грязным в сердце изумленном
И кровью в лабиринте жил твоих,
Ползущей жгучим ядом агонии.
Прометей
Иначе быть не можете. А я
По-прежнему - владыка над собою
И роем пыток так же управляю,
Как вами - ваш Юпитер.
Хор фурий
От пределов земли, от пределов земли,
Где и Утро и Ночь полусумрак сплели, -
К нам сюда, к нам сюда!
Вы, от возгласов чьих стон стоит на холмах,
В час, когда города рассыпаются в прах,
Вы, что мчитесь меж туч, разрушенье творя,
И бескрылой стопой возмущая моря,
Вы, что гоните смерч, промелькнувший вдали,
Чтоб со смехом губить и топить корабли, -
К нам сюда, к нам сюда!
Бросьте сонных мертвецов,
Тех, что дремлют сном веков;
Дайте отдых лютой злобе,
Пусть до времени она
Спит, как в тихом черном гробе, -
Встанет свежей после сна, -
Радость вашего возврата.
Бросьте, юные умы, -
В них дыхание разврата
Вскормит бешенство чумы.
Пусть безумец тайну Ада
Не измерит силой взгляда;
Страхом собственным смущен,
Будет вдвое мучим он.
К нам сюда, к нам сюда!
Мы бежим из мрачных врат,
Сзади воет шумный Ад,
Мы плывем,
Гром усилил свой раскат,
Вас на помощь мы зовем!
Иона
Сестра, я слышу грохот новых крыльев.
Пантея
Оплоты скал дрожат от этих звуков,
Как чуткий воздух. Сонмы их теней
Рождают мрак темнее черной ночи.
Первая фурия
К нам домчался быстрый зов,
Нас умчал среди ветров,
С красных пажитей войны;
Вторая фурия
Прочь от людных городов;
Третья фурия
Где все улицы полны
Стоном тех, кто хочет есть;
Четвертая фурия
Где всечасно льется кровь,
Где страдающих не счесть;
Пятая фурия
Где пылают вновь и вновь,
В ярком пламени печей,
Белых, жарких -
Одна из фурий
Стой, молчи,
Вмиг прервем поток речей,
Не шепчи:
Если в тайне сохраним,
В чем - страшнейшая беда,
Непокорного тогда
Мы скорее победим,
Мы его поработим,
А теперь, Поборник Мысли, он еще неукротим.
Фурия
Порви покров!
Другая фурия
Он порван, он разорван!
Хор
Встала, выросла беда!
С Неба светит на нее
Утра бледная звезда.
Что, спокойствие свое
Позабыл, Титан?
Ты падешь,
Не снесешь
Новых ран!
Что ж, ты похвалишь то знанье, что в душах людей
пробудил?
Дать им сумел только жажду, - а чем же ты их напоил?
Дал им надежду, желанья, любви лихорадочный бред,
Воды ключей мелководных, - бесплодный вопрос, -
не ответ.
Видишь мертвые поля,
Видишь, видишь, вся Земля
Кровью залита.
Вот пришел один, с душой
Нежной, кроткой и святой,
Молвили уста
Те слова, что будут жить
После смерти этих уст,
Будут истину душить,
Будет мир угрюм и пуст.
Видишь, дальний небосклон
Дымом яростным смущен:
В многолюдных городах
Крик отчаянья и страх.
Плачет нежный дух того,
Кто страдал от слез людских:
Кротким именем его
Губят тысячи других.
Вот взгляни еще, взгляни:
Где ж блестящие огни?
Точно искрится светляк,
Чуть смущая летний мрак.
Тлеют угли, - вкруг углей
Сонм испуганных теней.
Все гладят по сторонам.
Радость, радость, радость нам!
Все века времен прошедших громоздятся вкруг тебя,
Мрак в грядущем, все столетья помнят только про себя,
Настоящее простерлось, как подушка из шипов,
Для тебя, Титан бессонный, для твоих надменных снов.
Первый полухор
Агония верх взяла:
Он трепещет, он дрожит,
С побледневшего чела
Кровь мучения бежит.
Пусть немного отдохнет:
Вот обманутый народ
От отчаянья восстал,
Полднем ярким заблистал,
Правды хочет, Правды ждет,
Воли дух его ведет -
Все как братья стали вновь,
Их зовет детьми Любовь -
Второй полухор
Стой, гляди, еще народ,
Брат на брата, все на всех,
Жатву пышную сберет
Вместе с смертью черный грех:
Кровь, как новое вино,
Шумно бродит, заодно
С горьким страхом, - гибнет мир,
Тлеет, гаснет, - и тиранов, и рабов зовет на пир.
(Все Фурии исчезают, кроме одной.)
Иона
Сестра, ты слышишь, как благой Титан
В мученьях стонет, - тихо, но ужасно, -
Как будто грудь его должна порваться:
Так бурный смерч взрывает глубь морей,
И стонут вдоль по берегу пещеры.
Быть может, ты осмелишься взглянуть,
Как лютые враги его терзают?
Пантея
Смотрела дважды, - больше не могу.
Иона
Что ж видела?
Пантея
Ужасное! Прибитый
К кресту печальный юноша, со взором,
Исполненным терпенья.
Иона
Что еще?
Пантея
Кругом - все небо, снизу - вся земля
Усеяны толпой теней ужасных,
Немых видений смерти человека,
Сплетенных человеческой рукой;
Иные представляются созданьем
Людских сердец: толпы людские гибнут
От одного движенья уст и глаз;
Еще другие бродят привиденья,
На них взглянуть - и после жить нельзя,
Не станем искушать сильнейший ужас,
К чему смотреть, когда мы слышим стоны?
Фурия
Заметь эмблему: кто выносит зло
За человека, кто гремит цепями,
Идет в изгнанье, - тот лишь громоздит
И на себя, и на него страданья
Все новые и новые.
Прометей
Смягчи
Мучительную боль очей горящих;
Пусть губы искаженные сомкнутся;
Пускай с чела, увитого шипами,
Не льется кровь, - мешается она
С росою глаз твоих! О, дай орбитам,
Которые вращаются в испуге,
Узнать недвижность смерти и покоя;
И пусть твоей угрюмой агонией
Не будет сотрясаться этот крест!
И пальцы бледных рук играть не будут
Запекшеюся кровью. Не хочу
Назвать тебя по имени. Ужасно!
Оно проклятьем стало. Вижу, вижу
Возвышенных, и мудрых, и правдивых;
Твои рабы их с ненавистью гонят;
Иных нечистой ложью отпугнули
От очага их собственных сердец,
Оплаканного после - слишком поздно;
Иные цепью скованы с телами,
Гниющими в темницах нездоровых;
Иные - чу! - толпа хохочет дико! -
Прикованы над медленным огнем.
И множество могучих царств проходит, -
Плывут у ног моих, как острова,
Из глубины исторгнутые с корнем;
Их жители - все вместе, в лужах крови,
В грязи, облитой заревом пожаров.
Фурия
Ты видишь кровь, огонь; ты слышишь стоны;
Но худшее, неслышимо, незримо,
Сокрыто позади.
Прометей
Скажи!
Фурия
В душе
У каждого, кто пережил погибель,
Рождается боязнь: высокий духом
Боится увидать, что верно то,
О чем он даже мыслить не хотел бы;
Встает обычай вместе с лицемерьем,
Как капища, где молятся тому,
Что совестью изношено. Не смея
О том, что людям нужно, размышлять,
Они не сознают, чего не смеют.
У доброго нет силы, кроме той,
Что позволяет плакать безнадежно.
У сильных нет того, что им нужнее,
Чем что-нибудь другое, - доброты.
Мудрец лишен любви, а тот, кто любит,
Не знает света мудрости, - и в мире
Все лучшее живет в объятьях зла.
Для многих, кто богат и власть имеет,
Является мечтою справедливость,
А между тем среди скорбящих братьев
Они живут, как будто бы никто
Не чувствовал: не знают, что творят.
Прометей
Твои слова - как туча змей крылатых,
И все же я жалею тех, кого
Не мучают они.
Фурия
Ты их жалеешь?
Нет больше слов!
(Исчезает.)
Прометей
О, горе мне! О, горе!
Тоска всегда! Навеки ужас пытки!
Глаза мои, без слез, закрыты - тщетно:
В душе, терзаньем жгучим озаренной,
Ясней лишь вижу все твои деянья,
Утонченный тиран! В могиле - мир.
В могиле все скрывается благое,
Прекрасное, но я, как Бог, бессмертен
И смерти не хочу искать. О, пусть,
Свирепый царь, ты страшно мстить умеешь.
В отмщенье нет победы. Те виденья,
Которыми ты мучаешь меня,
Моей душе терпенья прибавляют,
И час придет, и призраки не будут
Прообразом действительных вещей.
Пантея
Увы! Что видел ты?
Прометей
Есть два мученья:
Одно - смотреть, другое - говорить;
Избавь меня от одного. И слушай:
В святилищах Природы внесены
Заветные слова, - то клич безгласный,
К высокому и светлому зовущий.
На тот призыв, как человек один,
Сошлись народы, громко восклицая:
"Любовь, свобода, правда!" Вдруг с небес
Неистовство, как молния, упало
В толпу людей - борьба, обман и страх, -
И вторгнулись тираны, разделяя
Добычу меж собою. Так я видел
Тень истины.
Земля
Возлюбленный мой сын,
Я чувствовала все твои мученья,
С той смешанною радостью, что в сердце
Встает от чувства доблести и скорби.
Чтоб дать тебе вздохнуть, я позвала
Прекрасных легких духов, чье жилище -
В пещерах человеческих умов;
Как птицы реют крыльями по ветру,
Так эти духи носятся в эфире;
За нашим царством сумерек они,
Как в зеркале, грядущее провидят;
Они придут, чтоб усладить тебя.
Пантея
О сестра, посмотри, там сбираются духи толпой,
Точно хлопья играющих тучек на утре весны,
Наполняют простор голубой.
Иона
Посмотри, вон еще, как туманы среди тишины,
Что встают с родника, если ветры усталые спят,
И встают, и спешат по оврагу скорей и скорей.
Слышишь? Чт_о_ это? Музыка сосен? Вершины шумят?
Или озеро плещет? Иль шепчет ручей?
Пантея
Это что-то гораздо печальней, гораздо нежней.
Хор духов
С незапамятных времен
Мы не дремлем над толпой
Человеческих племен,
Угнетаемых судьбой.
Мы услада всех скорбей,
Мы защитники людей,
Мы печалимся о них,
Дышим в помыслах людских, -
В нашем воздухе родном;
Если там сгустится тьма,
Если там за летним днем
Встанет бурная зима;
Или все опять светло,
Словно в час, когда река -
Как недвижное стекло,
Где не тают облака;
Легче вольных рыб морских,
Легче птиц в дыханье бурь,
Легче помыслов людских,
Вечно мчащихся в лазурь, -
В нашем воздухе родном
Мы как тучки вешним днем;
Ищем молний и зарниц,
Медлим там, где нет границ.
Мы для всех, кто тверд в борьбе.
Тот завет несем, любя,
Что кончается в тебе,
Начинаясь от тебя.
Иона
Еще, еще приходят друг за другом,
И воздух, окружающий виденья,
Блистателен, как воздух вкруг звезды.
Первый дух
Прочь от яростной борьбы,
Где сошлись на зов трубы
Возмущенные рабы,
Я летел среди зыбей,
Все скорей, скорей, скорей.
Все смешалось там, как сон,
Тень разорванных знамен,
Там глухой протяжный стон
Мчится в меркнущую твердь:
"Смерть! На бой! Свобода! Смерть!"
Но один победный звук,
Выше мрака и могил,
Выше судорожных рук,
Всюду двигался и жил, -
Нежно в яростной борьбе
Тот завет звучал, любя,
Что кончается в тебе,
Начинаясь от тебя.
Второй дух
Замок радуги стоял,
В море снизу бился вал;
Победительно могуч,
Призрак бури прочь бежал,
Между пленных, между туч,
Жгучих молний яркий луч
Пополам их разделял.
Посмотрел я вниз - и вот
Вижу, гибнет мощный флот,
Точно щепки - корабли,
Бьются, носятся вдали,
Вот их волны погребли, -
Точно ад кругом восстал,
Белой пеной заблистал.
Точно в хрупком челноке,
Плыл спасенный, на доске,
Враг его невдалеке,
Обессилев, шел во тьму -
Доску отдал он ему,
Сам, смиряясь утонул,
Но пред смертию вздохнул,
Был тот вздох воздушней грез,
Он меня сюда принес.
Третий дух
У постели мудреца
Я, незримый, молча ждал;
Красный свет огня блистал
Возле бледного лица:
Книгу тот мудрец читал.
Вдруг на пламенных крылах
Начал реять легкий Сон,
Я узнал, что это он,
Тот же самый, что в сердцах
Много лет назад зажег
Вдохновенье и печаль,
Ослепительный намек,
Тень огня, что манит вдаль.
Он меня сюда увлек -
Быстро, быстро, точно взгляд.
Прежде чем настанет день,
Должен он лететь назад,
А не то сгустится тень
В сонных думах мудреца,
И, проснувшись, он весь день
Не прогонит эту тень
С омраченного лица.
Четвертый дух
У поэта на устах,
Как влюбленный, я дремал
В упоительных мечтах;
Он едва-едва дышал.
Он не ищет нег земных,
Знает ласки уст иных,
Поцелуи красоты,
Что живет в глуши мечты;
Любит он лелеять взор, -
Не волнуясь, не ища, -
Блеском дремлющих озер,
Видом пчел в цветах плюща;
Он не знает, чт_о_ пред ним,
Занят помыслом одним:
Из всего он создает
Стройность дышащих теней,
Им действительность дает,
Что прекрасней и полней,
Чем живущий человек,
Долговечней бледных дней
И живет из века в век.
Из видений тех одно
Сна разрушило звено, -
Я скорей умчался прочь,
Я хочу тебе помочь.
Иона
Ты видишь, два видения сюда
От запада летят и от востока,
Создания воздушных высших сфер,
Как близнецы, как голуби, что мчатся
К родимому гнезду, - плывут, скользят,
Ты слышишь звуки нежных песнопений,
Пленительно-печальных голосов,
С любовью в них отчаянье смешалось!
Пантея
Ты говоришь! Во мне слова погасли.
Иона
Их красота дает мне голос. Видишь,
Как светятся изменчивые крылья,
То облачно-пурпурные, то вновь
Лазурные и нежно-золотые;
Улыбкой их окрестный воздух дышит
И светится, как в пламени звезды.
Хор духов
Ты видел нежный лик Любви?
Пятый дух
Летел я над пустыней,
Как облачко, спешил, скользил в пространстве
тверди синей;
И этот призрак ускользал на крыльях искрометных,
Звезда - в челе, восторг живой - в движеньях
беззаботных;
Куда ни ступит, вмиг цветы воздушные блистают,
Но я иду, они за мной, бледнея, увядают.
Зияла гибель позади: безглавые герои,
Толпы безумных мудрецов, страдальцев юных рои
Сверкали в сумраке ночном. Блуждал я в бездне зыбкой,
Пока твой взор, о Царьскорбей, не скрасил все улыбкой.
Шестой дух
О дух родной! Отчаянье живет в нездешней мгле,
Не носится по воздуху, не ходит по земле,
Придет оно без шороха и веяньем крыла
Навеет упования в сердца, что выше зла,
И лживое спокойствие от тех бесшумных крыл
В сердцах, что дышат нежностью, смиряет страстный
пыл,
И музыка воздушная лелеет их тогда,
Баюкает и шепчет им о счастье навсегда,
Зовут они Любовь к себе, - чудовище земли, -
Пробудятся и Скорбь найдут в лохмотьях и в пыли.
Хор
Пусть с Любовью Скорбь - как тень,
Пусть за ней, и ночь, и день,
Гибель мчится по пятам,
Белокрылый скачет конь,
Вестник Смерти, весь - огонь,
Смерть всему, цветам, плодам,
Воплощенью красоты
И уродливым чертам.
Пусть! Но час пробьет, - и ты
Укротишь безумный бег.
Прометей
Вам открыто, чт_о_ придет?
Хор
Если тает вешний снег,
Если стаял вешний лед, -
Опадает старый лист,
Мягкий ветер нежит слух,
Воздух ласков и душист,
И блуждающий пастух,
Торжествуя смерть зимы,
Уж предчувствует и ждет,
Что шиповник зацветет;
Так и там, где дышим мы,
Правда, Мудрость и Любовь,
Пробуждаясь к жизни вновь,
Нам, не дремлющим в борьбе,
Тот завет несут, любя,
Что кончается в тебе,
Начинаясь от тебя.
Иона
Куда же скрылись Духи?
Пантея
Только чувство
От них осталось в сердце, - словно чары
От музыки, в те светлые мгновенья,
Когда утихнет лютня, смолкнет голос,
Но отзвуки мелодии немой
В душе глубокой, чуткой, лабиринтной
Еще живут и будят долгий гул.
Прометей
Пленительны воздушные виденья,
Но, чувствую, напрасны все надежды.
Одна любовь верна; и как далеко
Ты, Азия, чье сердце предо мной,
В былые дни, открытое, горело,
Как искристая чаша, принимая
Душистое и светлое вино.
Все тихо, все мертво. Тяжелым гнетом
Висит над сердцем сумрачное утро;
Я стал бы спать теперь, хотя с тревогой,
Когда бы можно было мне уснуть.
О, как хотел бы я свершить скорее
Свое предназначенье - быть опорой,
Спасителем страдальца-человека;
А то - уснуть, безмолвно потонуть
В первичной бездне всех вещей, - в пучине,
Где нет ни сладких нег, ни агонии,
Где нет утех Земли и пыток Неба.
Пантея
А ты забыл, что около тебя
Всю ночь, в холодной мгле, тревожно дышит
Одна, чьи очи только и сомкнутся,
Когда над ней тень духа твоего
Наклонится с заботливостью нежной.
Прометей
Я говорил, что все надежды тщетны,
Одна любовь верна: ты любишь.
Пантея
Правда!
Люблю глубоко. Но звезда рассвета
Бледнеет на востоке. Я иду.
Ждет Азия - там, в Индии далекой,
Среди долин изгнанья своего, -
Где раньше были дикие утесы,
Подобные морозному ущелью,
Свидетели твоих бессменных пыток,
Теперь же дышат нежные цветы,
Вздыхают травы, отклики лесные,
И звуки ветра, воздуха и вод,
Присутствием ре преображенных, -
Все чудные создания эфира,
Которые живут слияньем тесным
С твоим дыханьем творческим. Прощай!
6. ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
7. СЦЕНА ПЕРВАЯ
Утро. - Красивая долина в Индийском Кавказе. - Азия (одна).
Азия
Во всех дыханьях неба ты нисходишь,
Как дух, как мысль, - Весна, дитя ветров! -
В глазах застывших нежно будишь слезы,
В пустынном сердце, жаждущем покоя,
Биенья ты рождаешь, - о Весна,
Питомица, взлелеянная бурей!
Приходишь ты внезапно, точно свет
Печальных дум о сладком сновиденье;
Ты - гений, ты - восторг, с лица земли
Встающий сонмом тучек золотистых
В пустыне нашей жизни. Ночь проходит.
Вот время, день и час. Я жду тебя,
Сестра моя, желанная, ты медлишь,
С рассветом ты должна ко мне прийти,
Я жду тебя, приди, приди скорее!
Едва ползут бескрылые мгновенья,
Еще трепещет бледный лик звезды,
Над алыми вершинами, в просвете
Растущей ввысь оранжевой зари;
Смотря в провал разорванных туманов,
В зеркальной глади озера дрожит
Стыдливая звезда, бледнеет, гаснет -
Опять горит в прозрачной ткани тучек -
И нет ее! И сквозь вершины гор,
С их облачно-воздушными снегами,
Трепещет розоватый свет зари.
Чу! Слышу вздох Эоловых мелодий, -
То звук ее зеленоватых крыл,
С собою приносящих алость утра.
(Входит Пантея.)
Я чувствую глаза твои. Я вижу
Лучистый взор, - в слезах улыбка меркнет,
Как свет звезды, потопленный в туманах
Серебряной росы. Сестра моя,
Любимая, прекрасная! С тобою
Приходит тень души, которой я
Живу. Зачем ты медлила так долго?
Уж солнца светлый шар взошел по морю.
Мой дух надеждой ранен был, пред тем
Как воздух, где ничьих следов не видно,
Почувствовал движенье крыл твоих.
Пантея
Прости сестра! Полет мой был замедлен
Восторгом вспоминаемого сна,
Как медленный полет ветров полдневных,
Впивающих дыхание цветов.
Всегда спала я сладко, пробуждалась
Окрепшею и свежей, до того
Как пал Титан священный, и любовью
Несчастною меня ты научила
Соединять страданье и любовь.
Тогда в пещерах древних Океана
Спала я меж камней зелено-серых,
В пурпурной колыбели нежных мхов;
Тогда, как и теперь, меня Иона
Во сне рукою нежной обнимала,
Касаясь темных ласковых волос,
Меж тем как я закрытыми глазами
К ее груди волнистой прижималась,
Вдыхая свежесть юности ее.
Теперь не то, теперь я словно ветер,
Что падает, стихая от мелодий
Твоих речей безмолвных; я дрожу,
Мой сон смущен какой-то сладкой негой,
Как будто слышу я слова любви;
А только сон уйдет, - приходит мука,
Заботы угнетают.
Азия
Подними
Опущенный свой взор, - прочесть хочу я
Твой сон.
Пантея
Я говорю: у ног его
Спала я вместе с нашею сестрою,
Океанидой. Горные туманы,
Вняв голос наш, сгустились под луной
И хлопьями пушистыми покрыли
Колючий лед, чтоб спать нам не мешал.
Два сна тогда пришли. Один не помню.
В другом я увидала Прометея,
Но не был он изранен, изнурен, -
И ожил вдруг лазурный сумрак ночи
От блеска этой формы, что живет -
Внутри не изменяясь. Прозвучали
Его слова, как музыка, - такая,
Что ум от счастья гаснет, задыхаясь
В восторге опьянения: "Сестра
Той, чьи шаги воздушные рождают
Цветы и чары, - ты, что всех прекрасней,
Лишь менее прекрасна, чем она, -
О тень ее, взгляни!" И я взглянула:
Бессмертный призрак высился, блистая
Любовью ослепительной; и весь -
В своих воздушных членах, в гармоничных
Устах, порывом страсти разделенных,
В пронзительных и меркнущих глазах, -
Весь, весь горел он пламенем подвижным;
Дыханьем всемогущей сладкой власти
Окутал он меня, и я тонула,
Я таяла, - как облачко росы,
Блуждающей в эфире, тает, тонет
В дыханье теплых утренних лучей:
Не двигаясь, не слыша и не видя,
Я вся жила присутствием его,
Он в кровь мою вошел, со мной смешался.
И он был - мной, и жизнь его - моей,
Моя душа в его душе исчезла.
Потом огонь погас, и я опять
Во тьме ночной сама собою стала,
Как сумрачный туман, что в час заката
На соснах собирается и плачет
В дрожащих каплях; мысли вновь зажглись,
И я могла еще услышать голос,
Еще дрожали звуки, замирая,
Как слабый вздох мелодии ушедшей,
Но между смутных звуков только имя
Твое, сестра, могла я разобрать.
Напрасно слух я снова напрягала,
Глухая ночь в безмолвии замкнулась.
Иона, пробудившись ото сна,
Сказала мне: "Не можешь ты представить,
Что в эту ночь встревожило меня!
Всегда я прежде знала, что мне нужно,
Чего хочу; ни разу не вкушала
Блаженства неисполненных желаний.
Чего теперь ищу - сказать не в силах;
Не знаю; только сладкого чего-то,
Затем что даже сладко мне желать;
Ты, верно, посмеялась надо мною,
Негодная сестра, ты, верно, знаешь
Каких-нибудь старинных чар восторги:
С их помощью похитивши мой дух,
Покуда я спала, с своим смешала:
Когда с тобой сейчас мы целовались,
Внутри твоих разъединенных губ
Услышала я сладостный тот воздух,
Что был во мне; живительная кровь,
Без теплоты которой я томилась,
Дрожала в наших членах в миг объятья".
Звезда Востока между тем бледнела,
И я, сестру оставив без ответа,
Скорей к тебе направила полет.
Азия
Слова твои - как воздух; не могу я
Проникнуть в них. О, подними свой взор,
Хочу в твоих глазах увидеть цельность
Его души.
Пантея
Взгляну, как ты желаешь,
Хотя к земле склоняются они
Под тяжестью невыраженных мыслей.
Что можешь ты увидеть в них иное,
Как не свою прекраснейшую тень?
Азия
Твои глаза подобны безграничным
Глубоким темно-синим небесам;
Их обрамляют длинные ресницы;
Я вижу в круге - круг, в черте - черту,
Все вместе сплетено в одну безмерность,
Далекую, неясную.
Пантея
Зачем
Ты смотришь так, как будто дух прошел?
Азия
В твоих глазах свершилась перемена:
Там далеко, в их глубине заветной,
Я вижу призрак, образ: это - Он,
Украшенный пленительным сияньем
Своих улыбок, льющих нежный свет,
Как облачко, скрывающее месяц.
Твой образ, Прометей! Еще помедли!
Не говорят ли мне твои улыбки,
Что мы опять увидимся с тобою
В роскошном и блистательном шатре,
Который будет выстроен над миром
Из их лучей нетленных? Сон поведан.
Но что за тень возникла между нами?
Грубеет ветер, только прикоснувшись
К кудрям суровым; взор поспешно-дик;
Но то - созданье воздуха: сквозь ткани
Одежды серой искрится роса,
Не выпитая полднем светозарным.
Сон
Иди за мной!
Пантея
Мой сон другой!
Азия
Он скрылся.
Пантея
Он шествует теперь в моей душе.
Казалось мне, пока мы здесь сидели,
Вдруг вспыхнули гирляндами цветы
На дереве миндальном, что разбито
Ударом грозовым; поспешный ветер...
С пустынь седых, от Скифии, примчался.
Лицо земли избороздил морозом
И все листы сорвал; но каждый лист,
Как синий колокольчик Гиацинта
О муках Аполлона повествует,
В себе хранил слова: "ИДИ ЗА МНОЙ!"
Азия
Пока ты говоришь мне, понемногу
Из слов твоих рождаются виденья
И формами своими заполняют
Мой собственный забытый сон. Мне снилось,
Бродили мы с тобой среди долин,
В седом рассвете дня; по горным склонам
Чуть шли стада рунообразных туч,
Густой толпой, лениво повинуясь
Медлительным веленьям ветерка;
И белая роса висела, молча,
На листьях чуть пробившейся травы;
И многое, - чего я не припомню.
Но вдоль пурпурных склонов сонных гор,
На теневых изображеньях тучек,
Забрезжились слова: "ИДИ ЗА МНОЙ!"
Когда они, блеснувши, стали таять,
Переходя к траве, на каждый лист,
С себя стряхнувший блеск росы небесной,
Поднялся ветер, в соснах зашумел,
И музыкой звенящей он наполнил
Сквозную сеть их веток, - и тогда,
Звуча, переливаясь, замирая,
Как стон: "Прости!" - исторгнутый у духов,
Послышалось: "ИДИ! ИДИ ЗА МНОЙ!"
Я молвила: "Пантея, посмотри!"
Но в глубине очей, желанных сердцу,
Все видела: "ИДИ ЗА МНОЙ!"
Эхо
За мной!
Пантея
Смеясь между собою вешним утром,
Утесы вторят нашим голосам:
Подумать можно, будто их устами
Вещает дух.
Азия
Вкруг этих скал нависших
Какое-то витает существо.
Струятся звуки ясные! О, слушай!
Отзвуки эха, незримые
Мы отзвуки Эха,
Мы вечно бежим,
Для жизни и смеха
Рождаться спешим, -
Дитя Океана!
Азия
Чу! Меж собою духи говорят.
Еще не смолкли плавные ответы
Воздушных уст. Сестра, ты слышишь?
Пантея
Слышу.
Отзвуки эха
О, следуй призывам,
За мной, за мной!
К пещерным извивам,
По чаще лесной!
(Более отдаленно.)
О, следуй призывам,
За мной, за мной!
Звуки тают и плывут,
Улетают и зовут,
Вслед за ними поспеши
В чащу леса, где в тиши
Еле дышит меж листов
Сладкий сон ночных цветов,
Где не держит путь пчела,
Где и в полдень вечно мгла,
Где в пещерах лишь ручьи
Льют сияния свои,
Где нежней твоих шагов
Наш воздушный странный зов, -
Дитя Океана!
Азия
Не следовать ли нам за роем звуков?
Они уходят вдаль, они слабеют.
Пантея
Чу! Ближе к нам опять плывет напев!
Отзвуки эха
В безвестном молчанье
Спит мертвая речь,
Лишь ты в состоянье
Тот голос зажечь, -
Дитя Океана!
Азия
Отхлынул ветер, с ним слабеют звуки.
Отзвуки эха
О, следуй призывам,
За мной, за мной!
К пещерным извивам,
По чаще лесной!
Звуки тают и плывут,
Улетают и зовут,
В глушь лесную, где - роса,
Где чуть видны небеса,
Где в ущелье древних гор
Блещет зеркало озер,
Где с уклона на уклон
От ключей нисходит звон,
Где когда-то _Он_, скорбя,
Удалился от тебя,
Чтоб теперь обняться вновь,
Принести любви любовь, -
Дитя Океана!
Азия
О милая Пантея, дай мне руку,
Иди за мной, пока напев не смолк.
8. СЦЕНА ВТОРАЯ
Лес, перемежающийся утесами и пещерами, В него входят Азия и Пантея. Два
молодых Фавна сидят на скале и слушают.
Первый полухор духов
Прошла прекрасная чета,
И путь ее покрыт тенями;
Сокрыта неба красота,
Как сеть нависшими ветвями;
Здесь кедры, сосны, вечный тис
Одной завесою сплелись.
Сюда ни солнце, ни луна,
Ни дождь, ни ветер не заходят;
Здесь медлит вечная весна
И росы дышащие бродят,
Растут лавровые кусты,
Глядят их бледные цветы.
На миг восставши ото сна,
Здесь тотчас вянет анемона;
Звезда случайная, одна,
Сюда заглянет с небосклона;
Но небо мчится, мчится прочь,
И ту звезду сокрыла ночь.
Второй полухор
Здесь в час полудня соловьи
Поют о неге сладострастья.
Сперва один мечты свои
Расскажет в звуках, полных счастья, -
Всего себя изливши, вдруг
Он гаснет, полный сладких мук.
Тогда в плюще, среди ветвей,
Следя за звуком уходящим.
Другой рокочет соловей, -
И полон рокотом звенящим,
И полон жаждою чудес,
Внимает чутко смутный лес.
И кто, войдя в тот лес, молчит,
Он крыльев быстрый плеск услышит,
И будто флейта прозвучит,
И он, волнуясь, еле дышит,
Его зовет куда-то вдаль
До боли сладкая печаль.
Первый полухор
Здесь нежный сон заворожен,
Звеня, кружатся отголоски,
Им Демогоргон дал закон,
Чтоб вечно пели переплески;
И власть он дал им - всех вести
На сокровенные пути.
Когда сугробы стают с гор, -
Поток растет среди тумана,
Ладья спешит в морской простор,
В неизмеримость Океана;
Так душу, полную забот,
Неясный голос вдаль зовет.
И тех, кому настал предел,
Как будто ветер приподнимет,
От их вседневных тусклых дел
Умчит и звуками обнимет;
И ум не знает, отчего
Так легок быстрый бег его.
Они спешат своим путем,
Плывут в просторе незнакомом,
И звуки падают дождем,
И гимн внезапно грянет громом,
И ветер мчит их в полумгле, -
Умчит к таинственной скале.
Первый фавн
Не можешь ли сказать мне, где живут
Те духи, что мелодией певучей
Звенят в лесах? Заходим мы в пещеры,
Где мало кто бывает - в глушь лесов, -
И знаем эти странные созданья,
И часто слышим голос их, но встретить
Не можем никогда, - они дичатся.
Где прячутся они?
Второй фавн
Нельзя узнать.
От тех, кто видел много разных духов.
Такой рассказ я слышал: чары солнца
Проходят с высоты на дно затонов,
На илистое дно лесных озер,
Там бледные подводные растенья
Цветут, и с их цветков лучи дневные
Впивают сок воздушных пузырей;
Вот в этих-то шатрах, таких прозрачных,
В зеленой золотистой атмосфере,
Которую засвечивает полдень,
Пройдя сквозь ткань листов переплетенных,
Те духи гармоничные живут;
Когда же их жилища разлетятся
И воздух, распаленный их дыханьем,
Из этих замков светлых мчится к небу, -
Они летят на искрах, гонят их,
И вниз полет блестящий направляют,
И вновь скользят огнем в подводной мгле.
Первый фавн
О, если так, тогда другие духи
Живут иною жизнью? В лепестках
Гвоздики, в колокольчиках лазурных,
Растущих на лугах? Внутри фиалок
Иль в их душистой смерти - в аромате?
Иль в капельках сверкающей росы?
Второй фавн
И множество еще придумать можем
Для них жилищ. Но если будем мы
Стоять и так болтать, - Силен сердитый,
Увидев, что до полдня не доили
Мы коз его, начнет на нас ворчать
За то, что мы поем святые гимны
О Хаосе, о Боге, о судьбе,
О случае, Любви и о Титане,
Как терпит он мучительную участь,
Как будет он освобожден, чтоб сделать
Единым братством землю, - те напевы,
Которые мы в сумерки поем,
Смягчая одиночество досуга
И заставляя смолкнуть соловьев,
Не знающих, что есть на свете зависть.
9. СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Вершина скалы между гор. Азия и Пантея.
Пантея
Сюда привел нас звук, на выси гор,
Где царствует могучий Демогоргон.
Встают врата, подобные жерлу
Вулкана, извергающего искры
Падучих звезд; на утре дней, блуждая,
Здесь люди одинокие впивают
Дыхание пророческих паров,
Зовут их добродетелью, любовью,
Восторгом, правдой, гением, - и пьют
Хмельной напиток жизни, до подонков,
Пока не опьянят себя, - и громко
Кричат, как рой вакханок: "Эвоэ!" -
Для мира заразителен тот голос.
Азия
Престол, достойный Власти! Что за пышность!
Земля, о как прекрасна ты! И если
Ты только тень прекраснейшего духа,
И если запятнала язва зла
Красивое и слабое созданье, -
Я все-таки готова ниц упасть
И перед ним и пред тобой молиться.
И даже в этот миг моя душа
Готова обожать. О, как чудесно!
Взгляни, сестра, пока еще пары
Твой ум не затуманили: под нами
Немая ширь волнистых испарений,
Как озеро в какой-нибудь долине
Среди Индийских гор, под небом утра
Сверкающее блеском серебра!
Смотри, равнина этих испарений,
Подобная могучему приливу,
Плывет, и верх скалы, где мы стоим, -
Как остров одинокий, посредине;
А там, кругом, как пояс исполинский,
Цветущие и темные леса,
Прогалины, окутанные мглою,
Пещеры, озаренные ключами,
И ветром зачарованные формы
Кочующих и тающих туманов;
А дальше, с гор, прорезавших лазурь,
От их остроконечностей воздушных,
Встает заря, как брызги светлой пены,
Разбившейся об остров, где-нибудь
В Атлантике, по ветру Океана
Рассыпавшей играющие блестки;
Их стены опоясали долину;
От их обрывов, тронутых теплом,
Ревущие струятся водопады
И грохотом тяжелым насыщают
Заслушавшийся ветер; долгий гул,
Возвышенный и страшный, как молчанье!
Снег рушится! Ты слышишь? Это - солнце
Лавину пробудило; те громады,
Просеянные трижды горной бурей,
По хлопьям собирались; так в умах,
На суд зовущих небо, возникает
За думой дума властная, пока
Не вырвется на волю песня правды,
И долгим эхом вторят ей народы.
Пантея
Взгляни, прибой туманов беспокойных
Рассыпался у самых наших ног
Багряной пеной! Ширится все выше,
Как волны Океана, повинуясь
Волшебной чаре месяца.
Азия
Обрывки
Огромных туч развеялись кругом;
И ветер, что разносит их, ворвался
В волну моих волос; мои глаза
Как будто слепнут: ум - в водовороте;
Ряд образов прозрачных предо мной!
Пантея
Я вижу - вдаль зовущую улыбку!
И в золоте кудрей огонь лазурный!
За тенью тень! Они поют! Внимай!
Песнь духов
Вниз, туда, где глубина,
Вниз, вниз!
Где у Смерти, в царстве сна,
С Жизнью вечная война.
Дальше, сквозь обман вещей,
Бросив кладбище теней,
Где миражи обнялись, -
Вниз, вниз!
Неустанно звук спешит
Вниз, вниз!
От собаки лань бежит;
В туче молния дрожит;
Смерть к отчаянью ведет;
За любовью мука ждет;
Мчится все, и ты умчись
Вниз, вниз!
К бездне вечной и седой, -
Вниз, вниз!
Где ни солнцем, ни звездой
Не зажжется мрак пустой,
Где всегда везде - Одно,
Тем же все Одним полно, -
В эту бездну устремись, -
Вниз, вниз!
В глубь туманной глубины, -
Вниз, вниз!
Для тебя сохранены
Чар властительные сны, -
Ценный камень в рудниках,
Голос грома в облаках,
Заклинанью подчинись, -
Вниз, вниз!
Мы тебя очаровали,
Заклинанием связали, -
Вниз, вниз!
С утомленьем без печали
Сердцем кротким не борись!
О, в Любви такая сила,
Что ее не победила
Неуступчивость Судьбы,
И Бессмертный, Бесконечный
Эту кротость к жизни вечной
Пробудил от сна борьбы!
10. СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ
Пещера Демогоргона. - Азия и Пантея.
Пантея
Какая форма, скрытая покровом,
Сидит на том эбеновом престоле?
Азия
Покров упал.
Пантея
Я вижу мощный мрак,
Он дышит там, где место царской власти,
И черные лучи струит кругом, -
Бесформенный, для глаз неразличимый;
Ни ясных черт, ни образа, ни членов;
Но слышим мы, что это Дух живой.
Демогоргон
Спроси о том, что хочешь знать.
Азия
Что можешь
Ты мне сказать?
Демогоргон
Все, что спросить посмеешь.
Азия
Кто создал мир живущий?
Демогоргон
Бог.
Азия
Кто создал
Все, что содержит он, - порыв страстей,
Фантазию, рассудок, волю, мысль?
Демогоргон
Бог - Всемогущий Бог.
Азия
Кто создал чувство,
Что в меркнущих глазах рождает слезы,
Светлей, чем взор неплачущих цветов,
Когда весенний ветер, пролетая,
К щеке прильнет случайным поцелуем,
Иль музыкой желанной прозвучит
Любимый голос, - то немое чувство,
Что целый мир в пустыню превращает,
Когда, мелькнув, не хочет вновь блеснуть?
Демогоргон
Бог, полный милосердия.
Азия
Кто ж создал
Раскаянье, безумье, преступленье
И страх, и все, что, бросив цепь вещей,
Влачась, вползает в разум человека
И там над каждым помыслом висит,
Идя неверным шагом к смертной яме?
Кто создал боль обманутой надежды,
И ненависть - обратный лик любви,
Презрение к себе - питье из крови,
И крик скорбей, и стоны беспокойства,
И Ад иль острый ужас Адских мук?
Демогоргон
Он царствует.
Азия
Скажи мне только имя, -
Лишь имени его хотят страдальцы,
Проклятия его повергнут ниц.
Демогоргон
Он царствует.
Азия
Я вижу, знаю. Кто?
Демогоргон
Он царствует.
Азия
Кто царствует? Вначале
Повсюду были - Небо и Земля,
Любовь и Свет; потом Сатурн явился,
С его престола Время снизошло,
Завистливая тень. В его правленье
Все духи первобытные земли
Спокойствием и радостью дышали,
Как те цветы, которых не коснулся
Ни ветер иссушающий, ни зной,
Ни яд червей полуживых; но не дал
Он права им - рождать себе подобных.
Ни знания, ни власти, ни уменья
Повелевать движеньями стихий,
Ни мысли, проникающей, как пламя,
В туманный мир, ни власти над собою,
Ни стройного величия любви,
Чего им так хотелось. И тогда-то
Юпитеру дал мудрость Прометей,
А мудрость - власть; и лишь с одним законом -
"Пусть вечно будет вольным человеком!" -
Ему все Небо сделал он подвластным.
Не ведать ни закона, ни любви,
Ни веры; быть всесильным, не имея
Друзей, - то значит царствовать; и вот
Юпитер царствовал; угрюмым роем
На род людской с небес низверглись беды;
Свирепый голод, темный ряд забот,
Несчастия, болезни и раздоры,
И страшный призрак смерти, не известный
Дотоле никому: попеременно
То зной, то холод, сонмом стрел своих,
В безвременное время бесприютных
Погнал к пещерам горным: там себе
Нашли берлогу бледные народы;
И в их сердца пустынные послал он
Кипящие потребности, безумство
Тревоги жгучей, мнимых благ мираж,
Поднявший смуту войн междоусобных
И сделавший приют людей - вертепом.
Увидев эти беды, Прометей
Своим призывом ласковым навеял
Дремоту многоликих упований,
Чье ложе - Элизийские цветы,
Нетленный Амарант, Нипенсис, Моли.
Чтоб эти пробужденные надежды,
Прозрачностью небесно-нежных крыл,
Как радугой, закрыли призрак Смерти.
Послал Любовь связать единой сетью
Сердца людей, - побеги винограда,
Дающего напиток бытия,
Смирил огонь, - и пламя, точно зверь,
Хоть хищный, но ручной, резвиться стало
От одного движенья глаз людских;
И золото с железом, знаки власти,
Ее рабы, сокрытые в земле,
Покорны стали воле человека, -
И ценные каменья, и яды,
И сущности тончайшие, что скрыты
В воде и в недрах гор; он человеку
Дал слово, а из слова мысль родилась,
Что служит измерением вселенной;
И Знание, упорный враг преград,
Поколебало мощные оплоты
Земли и Неба; стройный ум излился
В пророческих напевах; дух того,
Кто слушал вздохи звуков гармоничных,
Возвысился, пока не стал блуждать
По светлой зыби музыки, изъятый
Из тьмы забот, из смертного удела.
Как Бог; и стали руки человека
Ваяния из камня создавать,
Сначала зримым формам подражая.
Потом превосходя их так высоко,
Что мрамор стал печатью Божества.
Ключей и трав сокрытую целебность
Истолковал, - Недуг вкусил и спал.
И смерть, как сон, являться людям стала.
Он изъяснил запутанность орбит,
Разоблачил пути светил небесных,
И все сказал он - как меняет солнце
Прибежище свое в скитаньях вечных,
Какая власть чарует бледный месяц,
Когда его мечтательное око
Не смотрит на подлунные моря;
Он научил людей, как нужно править
Крылатой колесницей Океана,
И Кельт узнал Индийца. В эти дни
Воздвиглись города; чрез их колонны,
Сверкающие снежной белизной,
Повеяли ласкающие ветры,
С высот на них глядел эфир лазурный,
Вдали виднелось море голубое,
Тенистые холмы. Такие были
Дарованы услады Прометеем,
Чтоб человек имел иной удел;
И вот за это он висит и терпит
Назначенные пытки. Кто же в мире
Является владыкой темных зол,
Чумы неизлечимой, той отравы,
Которая, - лишь стоит человеку
Великое создать и поглядеть
С божественным восторгом на созданье, -
Спешит скорей клеймом его отметить
И делает скитальцем, отщепенцем,
Отверженным посмешищем земли?
Юпитер? Нет: когда, от гнева хмурясь,
Он небо сотрясал, когда противник
Его в своих цепях алмазных проклял, -
Он сам дрожал как раб. Молю, открой же,
Кто господин его? И раб ли он?
Демогоргон
Все духи - если служат злу - рабы.
Таков иль нет Юпитер, - можешь видеть.
Азия
Скажи, кого ты Богом называешь?
Демогоргон
Я говорю, как вы. Юпитер - высший
Из всех существ, которые живут.
Азия
Кому подвластен раб?
Демогоргон
Возможно ль бездне
Извергнуть сокровенность из себя!
Нет образа у истины глубокой,
Нет голоса, чтоб высказать ее.
И будет ли тебе какая польза,
Когда перед тобой весь мир открою
С его круговращением? Заставлю
Беседовать Судьбу, Удачу, Случай,
Изменчивость и Время?
Им подвластно
Все, кроме нескончаемой Любви.
Азия
Так много вопрошала я, - и в сердце
Всегда ответ такой же находила,
Как ты давал; для этих истин каждый
В себе самом найти оракул должен.
Еще одно спрошу я, и ответь,
Как мне моя душа ответ дала бы,
Когда бы знала то, о чем прошу я.
В урочный час восстанет Прометей
И будет солнцем в мире возрожденном.
Когда же этот час придет?
Демогоргон
Смотри!
Азия
Раздвинулся утес, в багряной ночи
Я вижу - быстро мчатся колесницы,
На радужных крылах несутся кони
И топчут мрак ветров; их гонят вдаль
Возницы с удивленными глазами,
С безумным взором; тот глядит назад.
Как будто враг за ним заклятый мчится,
Но сзади только - лики ярких звезд;
Другие, с лучезарными очами,
Вперед перегибаются - и жадно
Впивают ветер скорости своей,
Как будто тень, что так для них желанна,
Пред ними - тут - несется - и они
Ее сейчас обнимут - обнимают;
Их локоны блестящие струятся,
Как вспыхнувшие волосы комет
И все, легко скользя, стремятся дальше,
Все дальше.
Демогоргон
То бессмертные Часы,
О них ты вопрошала за минуту.
Один с тобою хочет говорить.
Азия
С лицом ужасным, дух один замедлил
Полет поспешный темной колесницы
Над бездною разорванных утесов.
Ты, страшный, ты, на братьев непохожий,
Скажи мне, кто ты? Дай мне знать, куда
Меня умчишь?
Дух
Я тень предназначенья,
Страшнейшего, чем этот вид ужасный.
И не зайдет еще вон та планета,
Как черный мрак, со мною восходящий,
Неумолимой ночью обоймет
Небесный трон, царя небес лишенный.
Азия
Что хочешь ты сказать?
Пантея
Тот страшный призрак
Сплывает вверх с престола своего,
Как всплыл бы над равниною морскою
Зловеще-синий дым землетрясенья,
Дыхание погибших городов.
Смотри: на колесницу он восходит.
Объяты страхом, кони понеслись.
Смотри, как путь его меж звезд небесных
Чернеет в черной ночи!
Азия
То - ответ.
Не странно ли!
Пантея
Взгляни: у края бездны
Другая колесница; в перламутре
Играет алый пламень, изменяясь
По краю этой раковины нежной,
Как кружево сквозное; юный дух,
Сидящий в ней, глядит, как дух надежды;
Улыбка голубиных глаз его
Притягивает душу; так во мраке
Лампада манит бабочек ночных.
Дух
Поспешностью молний лучистых
Пою я проворных коней,
С зарею, меж туч золотистых,
Купаю их в море огней.
Быстрота! Что сравняется с ней!
Улетим же, о дочь Океана!
Я жажду: и полночь блистает;
Боюсь: от Тифона уйдем;
И с Атласа туча не стает,
Как землю с луной обогнем.
От скитаний мы в полдень вздохнем.
Улетим же, о дочь Океана!
11. СЦЕНА ПЯТАЯ
Колесница останавливается в облаке на вершине снежной торы. Азия, Пантея и
Дух Часа.
Дух
Где рассвет и ночная прохлада,
Там был отдых всегда для коня.
Но Земля прошептала, что надо
Гнать коней с быстротою огня, -
Пусть дыхание пьют у меня!
Азия
Ты дышишь в ноздри им, но я могла бы,
Вздохнув, придать им больше быстроты.
Дух
Увы! Нельзя.
Пантея
Скажи, о Дух, откуда
Свет в облаке? Ведь солнце не взошло!
Дух
Оно взойдет сегодня только в полдень.
На небе Аполлон удержан чудом,
И этот свет, подобный легкой краске
В воде - от роз, глядящихся в фонтан,
Исходит от твоей сестры могучей.
Пантея
Да, чувствую, что...
Азия
Что с тобой, сестра?
Бледнеешь ты.
Пантея
О, как ты изменилась!
Не смею на тебя взглянуть. Не вижу,
Лишь чувствую тебя. Почти не в силах
Переносить сиянье красоты.
Я думаю, в стихиях совершилась
Благая перемена, если могут
Они терпеть присутствие твое,
Не скрытое покровом. Нереиды
Рассказывали мне, что в день, когда
Раздвинулась прозрачность океана
И ты стояла в раковине светлой,
По глади вод хрустальных уплывая,
Меж островов Эгейских, к берегам,
Что носят имя Азия, - любовью,
Внезапно засверкавшей от тебя,
Наполнился весь мир, как светом солнца,
И небо, и земля, и океан,
И темные пещеры, - до тех пор,
Пока печаль - в душе, откуда встала, -
Не создала затмения; теперь
Не я одна, твоя сестра, подруга,
Избранница, а целый мир со мной
В тебе найти сочувствие хотел бы.
Ты слышишь звуки в воздухе? То весть
Любви всех тех, в ком есть душа и голос.
Ты чувствуешь, что даже мертвый ветер
К тебе любовью страстной дышит? Чу!
(Музыка.)
Азия
Твои слова - как эхо слов его;
По нежности одним лишь им уступят.
Но всякая любовь нежна, - и та,
Что ты даешь, и та, что получаешь;
Любовь - для всех, как свет, и никогда
Ее знакомый голос не наскучит;
Как даль небес, как все хранящий воздух,
Она червя равняет с Божеством.
И кто внушит любовь, тот сладко счастлив,
Как я теперь; но кто полюбит сам,
Насколько он счастливей, после скорби,
Как скоро буду я.
Пантея
О, слушай! Духи!
Голос в воздухе, поющий
Жизни Жизнь! Любовью дышит
Воздух между губ твоих;
Счастлив тот, кто смех твой слышит.
Спрячь его в глазах своих;
Кто туда свой взгляд уронит,
В лабиринте их потонет.
Чадо Света! Твой покров
Светлых членов не скрывает;
Так завесу облаков
Блеск рассвета разрывает;
И куда бы ты ни шла,
Вкруг тебя растает мгла.
Красота твоя незрима,
Только голос внятен всем,
Ты для сердца ощутима,
Но не видима никем,
Души всех с тобой, как звенья, -
Я, погибшее виденье.
Свет Земли! Везде, где ты,
Тени, в блеске, бродят стройно,
В ореоле красоты
По ветрам идут спокойно
И погибнут, - не скорбя,
Ярко чувствуя тебя.
Азия
Моя душа, - как лебедь сонный
И как челнок завороженный,
Скользит в волнах серебряного пенья.
А ты, как ангел белоснежный,
Ладью влечешь рукою нежной,
И ветры чуть звенят, ища забвенья.
Тот звук вперед ее зовет,
И вот душа моя плывет
В реке, среди излучин длинных,
Средь гор, лесов, средь новых вод,
Среди каких-то мест пустынных.
И мне уж снится Океан,
И я плыву, за мной - туман,
И сквозь волненье,
Сквозь упоенье,
Все ярче ширится немолкнущее пенье,
И я кружусь в звенящей мгле забвенья.
Все выше мчимся мы, туда,
Где свет гармонии всегда,
Где небеса всегда прекрасны.
И нет течений, нет пути,
Но нам легко свой путь найти,
Мы чувству музыки подвластны,
И мы спешим. От лучших снов,
От Элизийских островов,
Ты мчишь ладью моих желаний
В иные сферы бытия, -
Туда, где смертная ладья
Еще не ведала скитаний, -
В тот светлый край, где все любовь.
Где чище волны, ветры тише,
Где землю, узренную вновь,
Соединим мы с тем, что всех предчувствий выше.
Покинув Старости приют,
Где льды свой блеск холодный льют,
Мы Возмужалость миновали,
И Юность, ровный океан,
Где все - улыбка, все - обман,
И детство, чуждое печали.
Сквозь Смерть и Жизнь - к иному дню,
К небесно-чистому огню, -
Чтоб вечно дали голубели!
В Эдем уютной красоты,
Где вниз глядящие цветы
Струят сиянье в колыбели, -
Где мир, где места нет борьбе,
Где жизнь не будет сном докучным,
Где тени, близкие тебе,
Блуждают по морям с напевом сладкозвучным!
12. ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
13. СЦЕНА ПЕРВАЯ
Небо. - Юпитер на престоле, Фетида и другие Божества.
Юпитер
Союз, подвластный мне, - о силы неба,
Вы делите со мною власть и славу,
Ликуйте! Я отныне всемогущ.
Моей безмерной силе все подвластно,
Лишь дух людской, огнем неугасимым,
Еще горит, взметаясь к небесам,
С упреками, с сомненьем, с буйством жалоб,
С молитвой неохотной, - громоздя
Восстание, способное подрыться
Под самые основы нашей древней
Монархии, основанной на вере
И страхе, порожденном вместе с адом.
Как хлопья снега в воздухе летят,
К утесу прилипая, - так в пространстве
Бесчисленность моих проклятий людям
Пристала к ним, заставила взбираться
По скатам жизни, ранящим их ноги,
Как ранит лед лишенного сандалий, -
И все-таки они, превыше бед,
Стремятся ввысь, но час паденья близок:
Вот только что родил я чудо мира,
Дитя предназначенья, страх земли,
И ждет оно медлительного часа,
Чтоб с трона Демогоргона примчать
Чудовищную силу вечных членов,
Которой этот страшный дух владеет, -
Оно сойдет на землю и растопчет
Мятежный дух восстанья.
Ганимед,
Налей вина небесного, наполни
Как бы огнем Дедаловые чаши.
И ты, союз торжественных гармоний,
Воспрянь в цветах от пажитей небесных,
Все пейте, все, - покуда светлый нектар
В крови у вас, о Гении бессмертья,
Не поселит дух радости живой,
И шумная восторженность прорвется
В одном протяжном говоре, подобном
Напевам Элизийских бурь.
А ты,
Блестящий образ вечности, Фетида,
Взойди и сядь на трон со мною рядом,
В сиянии желания, которым
И я, и ты сливаемся в одно.
Когда кричала ты: "О всепобедный
Бог, пощади меня! Изнемогаю!
Присутствие твое - огонь палящий;
Я таю вся, как тот, кого сгубила
Отравой Нумидийская змея", -
В то самое мгновение два духа
Могучие, смешавшись, породили
Сильнейшего, чем оба; он теперь
Невоплощенный между нас витает
Невидимо; он ждет, чтобы к нему
От трона Демогоргона явилось
Живое вогогощенье! Чу! Грохочут
Среди ветров колеса из огня!
Победа! Слышу гром землетрясенья.
Победа! В быстролетной колеснице
Тот мощный дух спешит на высь Олимпа.
(Приближается колесница духа Часа. Демогоргон сходит и направляется к трону
Юпитера.)
Чудовищная форма, кто ты?
Демогоргон
Вечность.
Не спрашивай названия страшнее.
Сойди и в бездну уходи со мною.
Тебя Сатурн родил, а ты меня,
Сильнейшего, чем ты, и мы отныне
С тобою будем вместе жить во тьме.
Не трогай молний. В небе за тобою
Преемника не будет. Если ж хочешь,
С червем полураздавленным сравняйся, -
Он корчится, покуда не умрет. -
Что ж, будь червем.
Юпитер
Исчадье омерзенья!
В глубоких Титанических пещерах
Тебя я растопчу. Вот так! Ты медлишь?
Пощады, о, пощады! Нет ее!
Ни жалости, ни капли снисхожденья!
О, если б враг мой был моим судьей,
Хоть там, где он висит в горах Кавказа,
Прикованный моею долгой местью,
Не так бы он судил меня. Скажи мне,
Он кроткий, справедливый и бесстрашный,
Монарх вселенной? Кто же ты? Скажи!
Ответа нет.
Так падай же со мною.
В угрюмых зыбях гибели умчимся,
Как коршун с истощенною змеей,
Сплетенные в одном объятье схватки,
Низвергнемся в безбрежный океан,
Пусть адское жерло испустит пламя,
Пусть в эту бездну огненную рухнет
Опустошенный мир, и ты, и я,
И тот, кто побежден, и победитель,
И выброски ничтожные того,
Из-за чего была борьба.
О, горе!
Не слушают меня стихии. Вниз!
Лечу! Все ниже, ниже! Задыхаюсь!
И, словно туча, враг мой торжеством
Темнит мое падение. О, горе!
14. СЦЕНА ВТОРАЯ
Устье широкой реки на острове Атлантиде. - Океан, склонившийся около берега.
- Аполлон возле него.
Океан
Ты говоришь: он пал? Низвергнут в бездну
Под гневом победителя?
Аполлон
Да! Да!
И лишь борьба, смутившая ту сферу,
Что мне подвластна, кончилась, и звезды
Недвижные на небе задрожали, -
Как ужас глаз его кровавым светом
Все небо озарил, и так он пал
Сквозь полосы ликующего мрака
Последней вспышкой гаснущего дня,
Горящего багряной агонией
По склону неба, смятого грозой.
Океан
Он пал в туманность бездны?
Аполлон
Как орел,
Застигнутый над высями Кавказа
Взорвавшеюся тучей, в буре бьется,
И с вихрем обнимается крылами, -
И взор очей, глядевших прямо в солнце,
От блеска ярко-белых молний слепнет,
А град тяжелый бьет его, пока
Он вниз не устремится, точно камень,
Облепленный воздушным цепким льдом.
Океан
Отныне под мятежными ветрами
Поля морей, куда глядится Небо,
Не будут подниматься тяжело,
Запятнанные кровью; нет, как нивы,
Едва шумя в дыханье летних дней,
Они чуть слышно будут волноваться;
Мои потоки мирно потекут
Вокруг материков, кишащих жизнью,
Вкруг островов, исполненных блаженства;
И с тронов глянцевитых будет видно
Протею голубому, влажным нимфам,
Как будут плыть немые корабли;
Так смертные, подняв глаза, взирают
На быструю ладью небес - луну,
С наполненными светом парусами
И с рулевым - вечернею звездой,
Влекомой в быстрой зыби, по отливу
Темнеющего дня; мои валы
В скитаниях не встретят криков скорби,
Не встретят ни насилия, ни рабства,
А лики - в глубь глядящихся - цветов,
Дыхание пловучих ароматов
И сладостных напевов музыкальность,
Какая духам грезится.
Аполлон
А я
Не буду видеть темных злодеяний,
Мрачащих дух мой скорбью, как затменье
Подвластную мне сферу омрачает.
Но чу! Звенит серебряная лютня,
То юный дух на утренней звезде
Из струн воздушных гимны исторгает.
Океан
Спеши. Твои недремлющие кони
Под вечер отдохнут. Пока прощай.
Морская глубь зовет меня протяжно,
Чтоб я питал ее лазурной негой,
Что в урнах изумрудных, в преизбытке.
Скопляется у трона моего.
Смотри, из волн зеленых Нереиды
Возносят по теченью, как по ветру,
Волнующихся членов красоту,
Приподняты их руки к волосам,
Украшенным гирляндами растений,
Морскими звездоносными цветами,
Они спешат приветствовать восторг
Своей сестры могучей.
(Слышен звук волн.)
Это - море
Спокойной неги жаждет. Подожди же,
Чудовище. Иду! Прощай.
Аполлон
Прощай.
15. СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Кавказ. - Прометей, Геркулес, Иона, Земля, Духи, Азия и Пантея несутся в
колеснице вместе с Духом Часа.
Геркулес освобождает Прометея; Прометей сходит вниз.
Геркулес
Славнейший в царстве духов! Так должна
Служить, как раб, властительная сила
Пред мудростью, пред долгою любовью
Пред мужеством, - перед тобой, в чьем сердце
Всех этих светлых качеств совершенство.
Прометей
Твои слова желанней для меня,
Чем самая свобода, о которой
Так долго, так мучительно мечтал я.
Внемлите мне - ты, Азия моя,
Свет жизни, тень неузренного солнца,
Вы, сестры-нимфы, сделавшие мне
Года жестоких пыток сном чудесным,
Любовью вашей скрашенным навек, -
Отныне мы не будем разлучаться.
Здесь есть пещера; вся она кругом
Обвита сетью вьющихся растений,
Семьей цветов, - преградою для дня;
Мерцает пот отливом изумруда,
Звучит фонтан, как песни пробужденья;
С изогнутого верха сходят вниз,
Как серебро, как снег, как бриллианты,
Холодные спирали, слезы гор,
Струят вокруг неверное сиянье;
И слышен здесь всегда подвижный воздух,
От дерева он к дереву спешит,
С листа на лист; тот рокот - вне пещеры;
И слышно пенье птиц, жужжанье пчел;
Повсюду видны мшистые сиденья,
И камни стен украшены травой,
Продолговатой, сочной; здесь мы будем
В жилище невзыскательном сидеть,
Беседовать о времени, о мире,
О том, как в нем приливы и отливы
Проходят целым рядом перемен,
Меж тем как мы от века неизменны, -
О том, как человека уберечь
От уз его изменчивости вечной.
Вздохнете вы, и я вам улыбнусь,
А ты, Иона, слух наш зачаруешь,
Припомнив звуки музыки морской, -
Пока из глаз моих не брызнут слезы,
Чтоб вы улыбкой стерли их опять.
Переплетем лучи, цветы и почки,
Сплетем из повседневности узоры,
Нежданные по странности своей,
Как то доступно детям человека
В рассвете их невинности; мы будем
Упорством слов любви и жадных взглядов
Искать сокрытых мыслей, восходя
От светлого к тому, в чем больше света,
И, точно лютни, тронутые в бурю
Воздушным поцелуем, создадим
Все новых-новых звуков гармоничность,
Из сладостных различий без вражды;
Со всех концов небес примчатся с ветром, -
Как пчелы, что с цветов воздушных Энны
Летят к своим знакомым островам,
Домам в Химере, - отзвуки людские,
Почти неслышный тихий вздох любви,
И горестное слово состраданья,
И музыка, сердечной жизни эхо,
И все, чем человек, теперь свободный,
Смягчается и делается лучшим;
Красивые видения, - сперва
Туманные, блистательные позже.
Как ум, в который брошены лучи
От тесного объятья с красотою, -
Прибудут к нам: бессмертное потомство,
Чьи светлые родители - Ваянье,
И Живопись, и сказочный восторг
Поэзии, и многие искусства,
Что в эти дни неведомы мечте,
Но будут ей открыты; рой видений,
Призывы, откровения того,
Чем будет человек, - восторг предчувствий,
Связующих зиждительной любовью
Людей и нас, - те призраки и звуки,
Что быстро изменяются кругом,
Становятся прекрасней и нежнее,
В то время как добро сильней растет
Среди людей, бегущих от ошибок.
Таких-то чар исполнена пещера
И все вокруг нее.
(Обращаясь к Духу Часа.)
Прекрасный Дух,
Еще одно сверши предназначенье.
Дай раковину светлую, Иона,
Которую из моря взял Протей
Для Азии, как свадебный подарок:
Дыша в нее, он вызовет в ней голос,
Тобою скрытый в травах под скалой.
Иона
Желанный Час, из всех Часов избранник,
Вот раковина тайная, возьми;
Играют в ней мистические краски,
Лазурь, бледнея, чистым серебром
Ее живит и нежно одевает:
Неправда ли, она как тот напев,
Что дремлет в ней, мечтою убаюкан?
Дух
Да, в водах Океана нет другой,
Чтоб с ней могла сравниться; в ней, конечно,
Сокрыт напев - и сладостный, и странный.
Прометей
Спеши, лети над сонмом городов,
Пусть кони ветроногие обгонят
Стремительное солнце, вкруг земли
Свершающее путь; буди повсюду
Горящий воздух; в раковине светлой
Могучесть звуков скрытых воззови, -
На этот гром Земля ответит эхом,
Потом вернись и будешь вместе с нами
В пещере жить. А ты, о Мать-Земля -
Земля
Я слышу, слышу уст родных дыханье,
Твое прикосновение доходит
До центра бриллиантового мрака,
Что бьется в нервах мраморных моих.
О жизнь! О радость! Чувствую дыханье
Бессмертно-молодое! Вкруг меня
Как будто мчатся огненные стрелы.
Отныне в лоне ласковом моем
Все детища мои, растенья, рыбы,
Животные, и птицы, и семья
Ползучих форм и бабочек цветистых,
Летающих на радужных крылах,
И призраки людские, что отраву
В груди моей увядшей находили, -
Теперь взамену яда горьких мук
Найдут иную сладостную пищу;
Все будут для меня - как антилопы,
Рожденные одной красивой самкой,
Все будут нежно-чистыми, как снег,
И быстрыми, как ветер беспокойный,
Питаемый шумящею рекой
Средь белых лилий; сон мой будет реять
Росистыми туманами над миром, -
Бальзам для всех, кто дышит в царстве звезд;
Цветы, свернув листки свои во мраке,
Найдут во сне таинственные краски,
Что раньше им не грезились; а люди
И звери, в сладкой неге снов ночных,
Для зреющего дня найдут блаженство
Нетронутых, нерасточенных сил;
И будет смерть - объятием последним
Той матери, что жизнь дала ребенку
И шепчет: "Милый, будь со мной всегда".
Азия
Зачем ты вспоминаешь имя смерти?
Скажи, родная, тот, кто умирает,
Перестает глядеть, дышать, любить?
Земля
Могу ли я ответить? Ты бессмертна,
А эта речь понятна только тем,
Кто мертвое хранит молчанье, мертвый;
Смерть есть покров, который в царстве жизни
Зовется жизнью: если ж тот, кто жил,
Уснет навек, - покров пред ним приподнят;
А между тем в разнообразье нежном,
Проходят смены осени, зимы,
Весны и лета; радугой обвиты,
Спешат дожди, воздушно шепчут ветры,
И стрелы метеоров голубых
Пронизывают ночь, и солнце светит
Всезрящим, вечно творческим огнем,
И льется влажный блеск спокойствий лунных;
Влияния зиждительные всюду,
В лесах, в полях и даже в глубине
Пустынных гор, лелеющих растенья.
Но слушай! Есть пещера, где мой дух
Изнемогал от горести безумной,
Дыша твоим мученьем, - и другие,
Дышавшие тем воздухом со мной,
Испытывали также бред безумья:
Построив храм, воздвигли в нем оракул
И множество кочующих народов
К войне междоусобной подстрекнули;
Теперь в местах, где реял дух вражды,
Вздыхает дуновение фиалок,
Сиянье безмятежное поит
Прозрачный воздух злостью чудесной;
Живут леса, уклоны гор; змеится
Зеленый виноград; плетет узоры
Причудливый, замысловатый плющ;
Цветы - в бутонах, в пышности расцвета,
С увядшим благовонием - вздыхают,
Звездятся в ветре вспышками цветными;
Висят плоды округло-золотые
В своих родных зеленых небесах,
Среди листов с их тканью тонких жилок;
Среди стеблей янтарных дышат чащи
Пурпуровых цветов, блестя росою,
Напитком духов; с шепотом о счастье
Кругом чуть веют крылья снов полдневных,
Блаженных, потому что с нами - ты.
Иди в свою заветную пещеру.
Явись! Восстань!
(Дух появляется в образе крылатого ребенка.)
Мой факельщик воздушный,
Он в древности светильник погасил,
Чтоб в те глаза смотреть, откуда снова
Достал огня сверкающей любви,
В твои глаза, о дочь моя, в которых
Действительно горит огонь лучистый.
Беги вперед, шалун, веди собранье
Все дальше, за Вакхическую Нису,
Пристанище Менад, - за выси Инда
С подвластной свитой рек, топчи потоки
Извилистых ручьев, топчи озера
Своими неустанными ногами, -
Иди туда, туда, где мирный дол,
К стремнине зеленеющей, где дремлет
На глади неподвижного прудка,
Среди кристальной влаги, образ храма,
Стоящего в прозрачной высоте,
С отчетливою стройностью узоров
Колонн и архитрава и с похожей
На пальму капителью, с целым роем
Праксителевых форм, созданий мысли,
Чьи мраморные кроткие улыбки
Притихший воздух вечно наполняют
Бессмертием немеркнущей любви.
Тот храм теперь покинут, но когда-то
Твое носил он имя, Прометей;
Там юноши в пылу соревнованья
Сквозь мрак священный в честь твою несли
Твою эмблему - светоч; вместе с ними
Другие проносили тот же факел,
Светильник упования, сквозь жизнь
Идя в могилу, - как и ты победно
Пронес его сквозь тьму тысячелетий
К далекой цели Времени. Прощай.
Иди в тот храм, иди к своей пещере!
16. СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ
ее. - На заднем фоне пещера. - Прометей, Азия, Пантея, Иона и Дух Земли.
Иона
Сестра! Но это что-то неземное!
Как он легко над листьями скользит!
Над головой его горит сиянье.
Какая-то зеленая звезда;
Сплетаются с воздушными кудрями,
Как пряди изумрудные, лучи;
Он движется, и вслед за ним на землю
Ложатся пятна снега. Кто б он был?
Пантея
Прозрачно-нежный дух, ведущий землю
Сквозь небо. С многочисленных созвездий
Издалека он виден всем, и нет
Другой планеты более прекрасной;
Порою он плывет вдоль пены моря,
Проносится на облаке туманном,
Блуждает по полям и городам,
Покуда люди спят; он бродит всюду,
На высях гор, по водам рек широких,
Средь зелени пустынь, людьми забытых, -
Всему дивясь, что видит пред собой.
Когда еще не царствовал Юпитер,
Он Азию любил, и каждый час,
Когда освобождался от скитаний,
Он с нею был, чтоб пить в ее глазах
Лучистое и влажное мерцанье.
Ребячески он с ней болтал о том,
Что видел, что узнал, а знал он много,
Хотя о всем по-детски говорил.
И так как он не знал - и я не знаю, -
Откуда он, всегда он звал ее:
"О мать моя!"
Дух Земли (бежит к Азии)
О мать моя родная!
Могу ли я беседовать с тобою?
Прильнуть глазами к ласковым рукам,
Когда от счастья взоры утомятся?
И близ тебя резвиться в долгий полдень,
Когда в безмолвном мире нет работы?
Азия
Люблю тебя, о милый, нежный мой,
Теперь всегда тебя ласкать я буду;
Скажи мне, чт_о_ ты видел: речь твоя
Была утехой, будет наслажденьем.
Дух Земли
О мать моя, я сделался умнее,
Хоть в этот день ребенок быть не может
Таким, как ты, - и умным и счастливым.
Ты знаешь, змеи, жабы, червяки,
И хищные животные, и ветви,
Тяжелые от ягод смертоносных,
Всегда преградой были для меня,
Когда скитался я в зеленом мире.
Ты знаешь, что в жилищах человека
Меня пугали грубые черты,
Вражда холодных взглядов, гневность, гордость.
Надменная походка, ложь улыбок,
Невежество, влюбленное в себя,
С усмешкою тупой, - и столько масок.
Которыми дурная мысль скрывает
Прекрасное создание, - кого
Мы, духи, называем человеком;
И женщины, - противнее, чем все,
Когда не так они, как ты, свободны,
Когда не так они чистосердечны, -
Такую боль мне в сердце поселяли,
Что мимо проходить я не решался,
Хотя я был незрим, они же спали;
И вот, последний раз, мой путь лежал
Сквозь город многолюдный, к чаще леса,
К холмам, вокруг него сплетенным цепью;
Дремал у входа в город часовой;
Как вдруг раздался возглас, крик призывный, -
И башни в лунном свете задрожали:
То был призыв могучий, нежный, долгий,
Он кончиться как будто не хотел;
Вскочив с постелей, граждане сбежались,
Дивясь, они глядели в Небеса,
А музыка гремела и гремела;
Я спрятался в фонтан, в тенистом сквере,
Лежал, как отражение луны,
Под зеленью листов, на зыбкой влаге,
И вскоре все людские выраженья,
Пугавшие меня, проплыли мимо
По воздуху бледнеющей толпой.
Развеялись, растаяли, исчезли;
И те, кого покинули они,
Виденьями пленительными стали,
Ниспала с них обманчивая внешность;
Приветствуя друг друга с восхищеньем,
Все спать пошли; когда же свет зари
Забрезжился, - не можешь ты представить, -
Вдруг змеи, саламандры и лягушки,
Немного изменивши вид и цвет,
Красивы стали; все преобразилось;
В вещах дурное сгладилось; и вот
Взглянул я вниз на озеро и вижу -
К воде склонился куст, переплетенный
С ветвями белладонны: на ветвях
Уселись два лазурных зимородка
И быстрыми движениями клюва
Счищали гроздья светлых ягод амбры,
Их образы виднелись в глади вод,
Как в небе, видя всюду перемены,
Счастливые, мы встретились опять,
И в этой новой встрече - верх блаженства.
Азия
И больше мы не будем разлучаться,
Пока твоя стыдливая сестра,
Ведущая непостоянный месяц -
Холодную луну, - не взглянет с лаской
На более горячее светило,
И сердце у нее, как снег, растает,
Чтоб в свете вешних дней тебя любить.
Дух Земли
Не так ли, как ты любишь Прометея?
Азия
Молчи, проказник. Что ты понимаешь?
Ты думаешь, взирая друг на друга,
Вы можете самих себя умножить,
Огнями напоить подлунный воздух?
Дух Земли
Нет, мать моя, пока моя сестра
Светильник свой на небе оправляет,
Идти впотьмах мне трудно.
Азия
Тсс! Гляди!
(Дух Часа входит.)
Прометей
Мы чувствуем, чт_о_ видел ты, и слышим,
Но все же говори.
Дух Часа
Как только звук,
Обнявший громом землю с небесами,
Умолк, - свершилась в мире перемена.
Свет солнца вездесущий, тонкий воздух
Таинственно везде преобразились,
Как будто в них растаял дух любви
И слил их с миром в сладостном объятье.
Острее стало зрение мое,
Я мог взглянуть в святилища вселенной;
Отдавшись вихрю, вниз поплыл я быстро,
Ленивыми крылами развевая
Прозрачный воздух; кони отыскали
На солнце место, где они родились,
И там отныне будут жить, питаясь
Цветками из растущего огня.
Там встану я с своею колесницей,
Похожей на луну, увижу в храме
Пленительные Фидиевы тени -
Тебя, себя, и Азию с Землей,
И вас, о нимфы нежные, - глядящих
На ту любовь, что в наших душах блещет;
Тот храм воскреснет в память перемен,
Вздымаясь на двенадцати колоннах,
Глядя открыто в зеркало небес
Немым собором, с фресками-цветами;
И змеи-амфисбены...
Но увы!
Увлекшись, ничего не говорю я
О том, что вы хотели бы узнать.
Как я сказал, я плыл к земле, и было
До боли сладко двигаться и жить.
Скитаясь по жилищам человека,
Я был разочарован, не увидев
Таких же полновластных перемен,
Какие ощутил я в мире внешнем.
Но это продолжалось только миг.
Увидел я, что больше нет насилий,
Тиранов нет, и нет их тронов больше,
Как духи, люди были меж собой,
Свободные; презрение, и ужас,
И ненависть, и самоуниженье
Во взорах человеческих погасли,
Где прежде в страшный приговор сплетались,
Как надпись на стене у входа в ад:
"Кто в эту дверь вошел, оставь надежду!"
Никто не трепетал, никто не хмурил
Очей угрюмых; с острым чувством страха
Никто не должен был смотреть другому
В холодные глаза и быть игрушкой
В руках тиранов, гонящих раба
Безжалостно, покуда не падет он,
Как загнанная лошадь; я не видел,
Чтоб кто-нибудь с усмешкой спутал правду,
Храня в своей душе отраву лжи;
Никто огня любви, огня надежды
В своем остывшем сердце не топтал,
Чтобы потом, с изношенной душою,
Среди людей влачиться, как вампир,
Внося во все своей души заразу:
Никто не говорил холодным, общим,
Лишенным содержанья языком,
Твердящим нет на голос утвержденья,
Звучащий в сердце; женщины глядели
Открыто, кротко, с нежной красотою,
Как небо, всех ласкающее светом, -
Свободные от всех обычных зол,
Изящные блистательные тени,
Они легко скользили по земле,
Беседуя о мудрости, что прежде
Им даже и не снилась, - видя чувства,
Которых раньше так они боялись, -
Сливаясь с тем, на что дерзнуть не смели,
И землю обращая в небеса;
Исчезли ревность, зависть, вероломство
И ложный стыд, торчащий из всего,
Что портило восторг любви - забвенье.
Суды и тюрьмы, все, что было в них,
Все, что их спертым воздухом дышало,
Орудья пыток, цепи, и мечи,
И скипетры, и троны, и тиары,
Тома холодных, жестких размышлений,
Как варварские глыбы, громоздились,
Как тень того, чего уж больше нет, -
Чудовищные образы, что смотрят
С бессмертных обелисков, поднимаясь
Над пышными гробницами, дворцами
Тех, кто завоевал их, - ряд эмблем,
Намек на то, что прежде было страхом, -
Видения, противные - и богу,
И сердцу человека; в разных формах
Они служили диким воплощеньем
Юпитера, - мучителя миров, -
Народности, окованные страхом,
Склонялись перед ними, как рабы,
С разбитым сердцем, с горькими слезами,
С мольбою, оскверненной грязью лести -
Тому, к кому они питали страх;
Теперь во прахе идолы; распались:
Разорван тот раскрашенный покров,
Что в дни былые жизнью назывался
И был изображением небрежным
Людских закоренелых заблуждений;
Упала маска гнусная; отныне
Повсюду будет вольным человек,
Брат будет равен брату, все преграды
Исчезли меж людьми; племен, народов,
Сословий больше нет; в одно все слились,
И каждый полновластен над собой;
Настала мудрость, кротость, справедливость;
Душа людская страсти не забудет,
Но в ней не будет мрака преступленья,
И только смерть, изменчивость и случай
Останутся последнею границей,
Последним слабым гнетом над движеньем
Души людской, летящей в небеса, -
Туда, где высший лик звезды блистает
В пределах напряженной пустоты.
17. ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Сцена. - Часть леса вблизи пещеры Прометея. - Пантея и Иона спят; в течение
первой песни они постепенно пробуждаются.
Голос незримых духов
Звезды, бледнея, ушли,
Свет их потух;
Солнце вдали,
Их быстрый пастух,
В выси голубой
Блеском своим
Гонит стада их домой, -
Встает в глубине рассвета,
Метеоры гаснут за ним
В волнах голубого света,
И близкие звезды к далекой звезде
Спешат, отдаваясь предутренним играм,
Толпятся, как лани пред тигром.
Но где же вы? Где?
Длинный ряд темных форм и теней смутно проходит с пением.
Идем мы к забвенью,
Несем к погребенью
Отца отошедших годов;
Уносим мы в вечность
Времен бесконечность,
Мы тени погибших Часов!
Не зеленью тиса,
Не сном кипариса,
А мрачностью мертвых цветов, -
Не светлой росою, -
Почтите слезою
Царя отошедших Часов!
Скорее, скорее!
Как тени, бледнея,
Бегут пред сиянием дня,
Небесной пустыней,
Бездонной и синей,
Развеются в брызгах огня, -
Так пеной мы таем,
Бежим, пропадаем
Пред чадами лучшего дня;
И ветры за нами
Чуть плещут крылами,
Чуть плещут, крылами звеня!
Иона
Кто там шествует толпой?
Пантея
То минувшие Часы
Мчатся длинною тропой
В свете гаснущей росы.
Иона
Где же все они?
Пантея
Ушли.
Вон уж там, вдали, вдали,
Обогнали молний свет, -
Лишь сказали мы, их нет.
Иона
Ушли, но куда? К Небесам? Или к морю огромному?
Пантея
Ушли навсегда к невозвратному, к мертвому, к темному.
Голос незримых духов
Сбираются тучи и тают,
И звездные росы блистают,
Редеет туман,
Высоты безмолвны,
Встал Океан,
Пляшут шумящие волны;
В синей воде
Рождается грохот,
Панический хохот.
Но где же вы? Где?
Бессмертные сосны-громады
Поют вековые баллады;
Их голос могуч,
Звенят их вершины;
Плещется ключ,
Музыке внемлют долины,
Радость везде,
В восторге истомы
Рождаются громы.
Но где же вы? Где?
Иона
Кто они?
Пантея
Где они?
Полухор Часов
Заклятия духов Земли и Лазури
Порвали узорное кружево сна;
Мы спали глубоко в дыхании бури.
Голос
Глубоко?
Полухор второй
Глубоко: где спит глубина.
Полухор первый
Над нами во мраке склонялись виденья,
Бежали столетья, враждою полны,
И мы открывали глаза на мгновенье,
Чтоб встретиться с правдой -
Полухор второй
Страшнее, чем сны.
Полухор первый
Любовь позвала нас, и мы задрожали.
Внимали мы лютне Надежды во сне,
И, веянье Власти услышав, бежали -
Полухор второй
Как утром волна убегает к волне.
Хор
Носитесь, кружитесь по склонам зефира,
Пронзайте напевом немой небосвод,
Чтоб день торопливый не скрылся из мира
В пещере полночной, за дымкою вод.
Когда-то Часы беспощадной толпою,
Голодные, гнали испуганный день;
Теперь он не будет долиной, ночною
Бежать, как бежит полумертвый олень.
Сплетем же, сплетем полнотою певучей
И песни и пляски в живое звено,
Чтоб духи блаженства, как радуга с тучей,
С Часами сливались.
Голос
Сливались в одно.
Пантея
Толпятся Духи разума людского,
Закутаны, как в светлую одежду,
В гармонию напевов неземных!
Хор Духов
В восторге своем
Мы пляшем, поем,
И дикие вихри свистят;
Так с птичьей толпой
Над бездной морской
Летучие рыбы летят.
Хор Часов
Откуда вы мчитесь? Безумен ваш взгляд!
На ваших сандалиях искры горят,
Стремительны крылья, как мысли полет,
Во взорах любовь никогда не умрет!
Хор Духов
Из людского ума,
Где сгущалася тьма,
Где была слепота без просвета;
Там растаял туман,
Там теперь океан,
Небеса безграничного света.
Из глубоких пучин,
Где лишь свет - властелин,
Где дворцы и пещеры - хрустальны,
Где с воздушных высот
Вьется Дум хоровод,
Где Часы навсегда беспечальны.
Из немых уголков,
Где в прозрачный альков
Никогда не заглянут измены;
Из лазурной тиши,
Где улыбки Души
Зачаруют, как песня сирены.
Где Поэзии свет,
Где Скульптуры привет,
Где Наука, вздохнув от усилья,
Ключевою водой
И росой молодой
Освежает Дедаловы крылья.
За годами года
Нам грозила беда,
И с тоскою мы ждали блаженства,
Но в траве островов
Было мало цветов,
Полумертвых цветов совершенства.
А теперь наш полет
Человеческий род
Орошает бальзамом участья,
И любовь из всего
Создает торжество,
Создает Элизийское счастье.
Хор Духов и Часов
Сплетемте ж узоры мелодий певучих;
С небесных глубин, от пределов земли,
Придите, о Духи восторгов могучих,
Чтоб песни и пляски устать не могли;
Как дождь между молний проворных и жгучих,
Мы будем блистать в золотистой пыли,
Мы будем как звуки поющего грома,
Как волны, как тысячи брызг водоема.
Хор Духов
Мы закрытую дверь
Отомкнули теперь,
Мы свободны, свободны, как птицы;
По высотам летим,
За звездою следим,
Догоняем сверканье зарницы.
Мы уходим за грань;
Многозвездную ткань
Разрываем в бездонной лазури;
Смерть, и Хаос, и Ночь
Устремляются прочь,
Как туман от грохочущей бури.
Наш могучий полет
Всем Дыханье дает,
И Любовь улыбается Неге;
Звезд играющий рой,
Свет и Воздух с Землей
Сочетаются в огненном беге.
В пустоте мы поем
И чертог создаем,
Будет Мудрость царить в нем, светлея;
Возрожденья хотим,
Новый мир создадим,
Назовем его сном Прометея.
Хор Часов
Рассыпьте, как жемчуг, гармонию слов,
Одни оставайтесь, умчитесь другие;
Полухор первый
Нас манит за небо, за ткань облаков;
Полухор второй
Нас держат, к нам ластятся чары земные;
Полухор первый
Мы быстры, мы дики, свободны во всем,
Мы новую землю мечтой создаем,
У неба не просим ответа;
Полухор второй
Мы шествуем тихим и ясным путем,
И Ночь обгоняем, и День мы ведем,
Мы - Гении чистого света;
Полухор первый
Мы вьемся, поем, - и являются сном
Деревья, и звери, и тучи кругом,
И в хаосе дышат виденья;
Полухор второй
Мы вьемся вокруг океанов земли,
И горы, как тени, под нами легли, -
Созвучия нашего пенья.
Хор Часов и Духов
Рассыпьте, как жемчуг, гармонию слов,
Одни оставайтесь, умчитесь другие;
Для нежной любви мы сплетаем покров,
Мы всюду несем откровения снов,
Несем облака дождевые.
Пантея
Они ушли!
Иона
Но разве ты не слышишь,
Как дышит сладость нежности минувшей?
Пантея
О, слышу! Так зеленые холмы
Смеются миллионом светлых капель,
Когда гроза, промчавшись, отзвучит.
Иона
И вновь, пока беседа наша длится,
Кругом встают иные сочетанья
Певучих звуков.
Пантея
То напев чудесный.
То музыка грохочущего мира,
Летящего по воздуху немому
И в ветре зажигающего звуки
Эоловых мелодий.
Иона
Слушай, слушай!
Еще звучат стихающие звуки,
Пронзительно-сребристые напевы,
Чаруют душу, с чувствами живут
Одним созвучьем братским, точно звезды,
Что в воздухе зимы кристальной светят,
Глядя на лик свой в зеркале морей,
Пантея
Но видишь, там, среди ветвей нависших,
Раздвинулись прогалины в лесу,
Средь мхов густых, с фиалками сплетенных,
Один ручей раскинул два теченья,
И два ключа спешат, как две сестры,
Чтоб встретиться с улыбкой после вздохов.
Там два виденья в блеске непонятном
Плывут в волнах магических мелодий,
Что все звончей, настойчивей звучат
Во мгле земли в безветрии лазури.
Иона
Я вижу, колесница быстро мчится,
Как та ладья тончайшая, в которой
По тающим волнам глубокой ночи
Мать месяцев уносится на Запад,
Когда встает от междулунных снов,
Обвеянных покровом нежной дымки.
И темные холмы, леса, долины
Отчетливо из этой мглы растут,
Как тени в светлом зеркале у мага;
Ее колеса - тучи золотые,
Подобные громадам разноцветным,
Что гении громов молниеносных
Над морем озаренным громоздят
В тот час, как солнце ринется за волны;
Как будто ветром внутренним гонимы,
Они растут, и катятся, и блещут;
Внутри сидит крылатое дитя,
Его лицо блистает белизною
Нетронутого снега; перья крыльев -
Как пух мороза в солнечных лучах;
Сквозь складки перламутровой одежды
Воздушно-белой дышит красота
Лучисто-белых членов; кудри - белы,
Как белый свет, рассыпанный по струнам,
Но взор двух глаз - два неба влажной тьмы,
Как будто Божество туда излилось,
Как буря изливается из туч,
И стрельчатых ресниц густые тени
Холодный светлый воздух умягчают;
В руке того крылатого дитяти -
Дрожащий лунный луч; с его конца,
Как кормчий, сходит правящая сила,
Ведя по тучам эту колесницу,
Меж тем как тучи мчатся над травой,
Над царством волн, цветов, и будят звуки
Нежней, чем звон поющего дождя.
Пантея
А из другой прогалины стремится,
С гармонией кружащихся циклонов,
Иная сфера, - сотни тысяч сфер
Как будто в ней вращаются, - кристаллы
Могли бы с ней по плотности сравниться,
Но сквозь нее, как сквозь простор пустой,
Плывет сиянье, музыка: я вижу,
Как тысячи кругов, один в другом,
Один легко летящий из другого,
Сплетаются, пурпурно-золотые,
Лазурные, играющие светом.
То белым, то зеленым; сфера в сфере;
И каждое пространство между ними
Населено нежданными тенями,
Какие снятся духам в глубине
Безжизненных просторов, чуждых света;
Но каждая из тех теней прозрачна,
И все они вращаются, кружатся,
В богатстве направлений разнородных,
На тысяче незримых тонких осей,
И с силой быстроты, в себе самой
Рождающей и гибель и начало,
Настойчиво, торжественно стремятся,
И смешанностью звуков зажигают
Разумность слов, безумие напевов;
Вращением могучим сложный шар,
Как жерновом, захватывает воды
Блестящего ручья, дробит их мелко,
Из них лазурный делает туман -
На свет похожей тонкости стихийной;
И дикий аромат лесных цветов,
Богатство песен воздуха, деревьев,
Живых стеблей, листов переплетенных,
С их светом переливно-изумрудным,
Вкруг этой напряженной быстроты,
В себе самой преграду находящей,
Сливаются легко в одну воздушность,
Где тонут чувства. В самом центре шара,
Склонясь на алебастровые руки,
Свернувши крылья, кудри разметав,
Забылся Дух Земли в дремоте сладкой,
Усталое и нежное дитя,
Едва лепечут маленькие губы,
В неверном свете собственных улыбок,
И чудится, что шепчет он о том,
Что любит в сновидении.
Иона
Он только
Гармонии всей сферы подражает.
Пантея
С его чела звезда струит лучи,
Подобные мечам огнисто-синим
И копьям золотым, переплетенным
С листами кроткой мирты - символ мира
Земли и неба, слитых воедино, -
Огромные лучи, как будто спицы
Колес незримых, - кружатся они
С круженьем сферы; молнии трепещут,
Летят, бегут, пространство заполняют,
Здесь косвенны они, а там отвесны,
Огнем пронзают сумрачную почву,
И грудь земли разоблачает тайны;
Виднеются без счета рудники,
В них слитки золотые, бриллианты,
Игра камней невиданных, бесценных,
Пещеры на столбах из хрусталя,
С отделкой из серебряных растений,
Бездонные колодцы из огня:
Ключи прозрачной влажности, кормильцы
Своих детей - морей необозримых,
Сплетающих свои пары в узоры -
Царям земли, вершинам гор, покрытым
Воздушностью нетронутых снегов,
Одеждою из царских горностаев;
Лучи горят, и в блеске их встают
Умерших циклов скорбные руины;
Вон якори, обломки кораблей;
Вон доски, превратившиеся в мрамор;
Колчаны, шлемы, копья: ряд щитов,
С верхушками - как голова Горгоны;
Украшенные режущей косою
Военные повозки; целый мир
Знамен, трофеев, битвенных животных,
Вкруг чьей толпы смеялась смерть; эмблемы
Погибшие умерших разрушений;
Развалина в развалине! Обломки
Обширных населенных городов,
Чьи жители, засыпанные прахом,
Когда-то были, двигались и жили
Толпой нечеловеческой, хоть смертной;
Лежат изображенья страшных дел,
Раскинуты их грубые скелеты,
Их статуи, их капиша, дома;
Объятые седым уничтоженьем,
Чудовищные формы, друг на друге,
Друг другом сжаты, стиснуты, разбиты,
В угрюмой, беспощадной глубине;
Другие сверху видятся скелеты
Крылатых и неведомых существ,
Скелеты рыб, что были островами
Подвижной чешуи, - цепей когтистых,
Гигантских змей, - одни из них свились
Вкруг черных скал, - другие, в смертных муках
Своею извивающейся мощью
Испепелив железные утесы,
Застыли в грудах праха; в высоте
Виднеются зубчатый аллигатор
И землю потрясавший бегемот:
Среди зверей они царями были
И, точно черви в летний день на трупе,
Плодились в вязком иле, размножались
На берегах, средь исполинских трав,
До той поры, когда потоп, сорвавшись
Со свода голубого, задушил их
Одеждою текучей, между тем как,
Раскинув пасть, они пугали воздух
Пронзительным, протяжно-диким воплем,
Иль, может быть, до той поры, когда
Промчался Бог какой-нибудь по небу,
На огненной комете пролетел
И крикнул: "Да не будет их!" - И вот уж,
Как этих слов, их в мире больше нет.
Земля
Восторг, безумье, счастье, торжество!
Безбрежен блеск блаженства моего!
Я вся горю, дрожу от исступленья!
Во мне для муки места нет,
Меня, как тучу, обнял свет,
Уносит бури дуновенье.
Луна
О счастливая сфера земли,
Брат, спокойно бегущий вдали,
От тебя устремляется Дух из огня,
Он певуч, он могуч, он, подобно ручью,
Проникает в замерзшую сферу мою,
Он проходит, любя, и дыша, и звеня,
Сквозь меня, сквозь меня!
Земля
Мои пещеры, долы, склоны гор,
Мои ключи, бегущие в простор,
Грохочут победительностью смеха;
Вулканы вторят им, горя,
Пустыни, тучи и меря
Им шлют хохочущее эхо.
Они кричат: Проклятие всегда
Пугало нас; нам грезилась беда,
Зловещая угроза разрушенья,
Земля дрожала, и над ней
Из туч свергался дождь камней,
Живому нес уничтоженье.
Чума плыла везде, во все концы,
Соборы, обелиски, и дворцы,
И сонмы гор, окутанных лавиной,
Листы, прильнувшие к ветвям,
Леса, подобные морям,
Казались мертвенной трясиной.
О, счастье! Уничтоженьем зло
Исчерпано; растаяло; прошло;
Все выпито, как стадом ключ в пустыне;
И небеса уже не те,
И в беспредельной пустоте
Любовь - любовь горит отныне.
Луна
Снега на моих помертвелых горах
Превратились в ручьи говорящие,
Мои океаны сверкают в лучах,
Гремят, как напевы звенящие.
Дух загорелся в груди у меня,
Что-то рождается, нежно звеня,
Дух твой, согретый в кипучем огне,
Дышит на мне, -
На мне!
В равнинах моих вырастают цветы,
И зеленые стебли качаются,
В лучах изумрудных твоей красоты
Влюбленные тени встречаются.
Музыкой дышит мой воздух живой,
Море колышет простор голубой,
Тучи, растаяв, сгущаются вновь,
Это любовь, -
Любовь!
Земля
Все камни, весь гранит проникнут ей,
Узлы глубоких спутанных корней,
Листы, что чуть трепещут на вершинах;
Она проносится в ветрах,
Живет в забытых мертвецах,
В никем не знаемых долинах.
И как гроза из облачной тюрьмы
Гремит, встает, взрывается из тьмы, -
Болото мысли, спавшее от века,
Огнем любви возмущено,
И страх с тоскою заодно
Бегут, бегут от человека.
Многосторонним зеркалом он был
И столько отражений извратил;
Теперь любовь не смята в нем обманом,
Теперь душа с душой людской,
Как небо с бездною морской,
Горят единым океаном.
Ребенок зачумленный так идет
За зверем заболевшим, все вперед,
К расщелине, где ключ целебный блещет,
И возвращается домой,
Здоровый, розовый, живой,
И мать рыдает и трепещет.
Теперь душа людей слилась в одно
Любви и мысли мощное звено
И властвует над сонмом сил природных,
Как солнце в бездне голубой
Царем блистает над толпой
Планет и всех светил свободных.
Из многих душ единый дух возник,
В себе самом всему нашел родник,
В нем все течет, сливаясь на просторе.
Как все потоки, все ручьи
Несут течения свои
В неисчерпаемое море.
Обычных дел знакомая семья
Живет в зеленой роще бытия,
И новые в них краски заблистали;
Никто не думал никогда,
Чтоб скорбь и тягости труда
Когда-нибудь так легки стали.
Людская воля, страсти, мрак забот
Слились, преображенные, и вот
Корабль крылатый мчится океаном,
Любовь на нем, как рулевой,
Волна звучит, растет прибой
И манит к новым диким странам.
Все в мире признает людскую власть,
На мраморе запечатлелась страсть.
И в красках спят людских умов мечтанья,
Из светлых нитей - для детей -
Сплетают руки матерей
Живые ткани одеянья.
Людской язык - Орфический напев,
И мысли внемлют звукам, присмирев,
Растут по зову стройных заклинаний,
И гром из дальних облаков
Гремит в ответ на звучный зов
И ждет послушно приказаний.
И взором человека сочтены
Все звезды многозвездной глубины,
Они идут покорными стадами;
И бездна к небу говорит:
"И твой, и твой покров раскрыт!
Людская мысль царит над нами!"
Луна
Наконец от меня отошла
Белой смерти упорная мгла, -
Мой могильный покров
Мертвых снов и снегов;
И в зеленой пустыне моей молодой,
Обнимаясь, идет за счастливой четой
Молодая чета;
И хоть в детях твоих дышит высшая власть,
Но в сердцах у моих - та же нега, и страсть,
И одна красота.
Земля
Как теплое дыхание зари,
Обняв росу, живит ее кристаллы,
И золотом пронзает янтари,
И ласки дня властительны и алы,
И мчится ввысь крылатая роса,
Скитается, воздушна и лучиста,
До вечера не бросит небеса,
Весь день висит руном из аметиста, -
Луна
Так и ты лежишь, объята
Блеском радостей беспечных -
Своего же аромата
И своих улыбок вечных.
Сколько есть светил небесных,
Все тебе струят сиянье,
Из лучей плетут чудесных
Золотое одеянье.
И богатством светлой сферы
Ты струишь поток огня,
Ты лучи свои без меры
Проливаешь на меня.
Земля
Вращаюсь я под пирамидой ночи,
Она горит в лазури гордым сном,
Глядит в мои восторженные очи,
Чтоб я могла упиться торжеством;
Так юноша, в любовных снах вздыхая,
Лежит под тенью прелести своей,
И нежится, и слышит песни Рая
Под греющей улыбкою лучей.
Луна
Когда на влюбленных дрожащих устах
В затмении сладком с душою сойдется душа,
Темнеет огонь в лучезарных глазах,
И гордое сердце дрожит, не дыша;
Когда на меня упадет от тебя
Широкая тень, я твоей красотой смущена,
Молчу и дрожу, замираю, любя!
Тобою полна! О, до боли полна!
Сфера жизни, ты блистаешь
Самой светлой красотой,
Ты вкруг солнца пролетаешь
Изумрудною звездой;
Мир восторгов повсеместных
И непознанных чудес,
Меж светильников небесных
Ты избранница небес;
Притягает лучезарный,
Победительный твой вид,
Как влечет Эдем полярный
И любимых глаз магнит;
Под тобою я кристальна,
Я невестой создана,
От блаженных снов печальна,
До безумья влюблена;
Ненасытно я взираю
На тебя со всех сторон,
Как Вакханка, умираю,
Мой восторг заворожен;
Так в исполненных прохлады,
Дивных Кадмовых лесах
Собиралися Менады
И кружились в сладких снах.
О, куда бы ты ни мчалась,
Я должна спешить вослед,
Лишь бы ты мне улыбалась,
Лишь бы твой увидеть свет;
В беспредельности пространства
Я приют себе нашла,
От тебя свое убранство,
Красоту свою взяла,
От тебя мой блеск исходит,
Я слилась с душой твоей, -
Как влюбленная походит
На того, кто дорог ей, -
Как, в окраске изменяясь,
Вечно слит хамелеон
С тем, где дышит он, скрываясь, -
С тем, на что взирает он, -
Как фиалка голубеет,
Созерцая даль небес, -
Как туман речной темнеет,
Если смолк вечерний лес,
Если солнце отблистает
И на склонах гор темно.
Земля
И угасший день рыдает,
Отчего так быть должно.
Луна! Луна! Твой голос негой дышит,
Моя душа его с отрадой слышит,
И в тот же миг волна ладью колышет
Средь островов, навек спокойных.
Луна! Луна! С мелодией кристальной
Пришел покой к моей пещере дальней,
Бальзам отрады сладостно-печальной,
Для вспышек тигровых и знойных.
Пантея
Мне чудится, я только что купалась
Меж темных скал, среди лазурной влаги,
Игравшей переливами сиянья,
В потоке звуков.
Иона
Милая сестра,
Мне больно, - звуки прочь от нас умчались,
И правда, можно было бы подумать,
Что вышла ты из тех певучих волн:
Твои слова струятся нежной, ясной
Росой, как капли с влажных членов нимфы,
Когда она выходит из воды.
Пантея
Молчи, молчи! Властительная Сила,
Как мрак, встает из самых недр земли,
И с неба ночь густым дождем струится,
Нахлынуло из воздуха затменье,
И светлые видения, в чьем лоне
Бродили с пеньем радостные духи,
Горят, подобно бледным метеорам
В дождливую погоду.
Иона
Чувство слов
Дрожит в моих ушах.
Пантея
То звук всемирный!
Как бы слова, что говорят: внемли.
Демогоргон
Земля, спокойно-светлая держава,
Теней и звуков стройная краса,
Блаженная, божественная слава,
Любовь, чьим светом полны небеса!
Земля
Я слышу твой призыв: я меркну, как роса!
Демогоргон
Луна, чей взгляд взирает с удивленьем
На землю в час ночной, когда она
Исполнена спокойным восхищеньем,
Увидя, как светло горит Луна!
Луна
Я слышу: я, как лист дрожащий, смущена!
Демогоргон
Цари светил, Воздушные Престолы,
Союз Богов и Демонов, пред кем
Раскинуты безветренные долы,
Пустынных звезд заоблачный Эдем!
Голос с высоты
Мы слышим твой призыв: равно мы светим всем!
Демогоргон
Герои отошедших лет, немые,
Должны ль вы были в смерти утонуть,
Как часть вселенной, или как живые -
Голос снизу
Меняемся и мы, уходим в новый путь!
Демогоргон
Вы, Гении стихийные, чьи хоры,
Умы людей звездою заменив,
Уносятся в небесные соборы,
На дне морей питают волн порыв!
Смутный голос
Мы слышим: пробудил Забвенье твой призыв!
Демогоргон
Вы, Духи, чьи дома - живое тело!
Вы, звери, птицы, рыбы, рой цветов,
Туманы, тучи дальнего предела,
Стада падучих звезд, услышьте зов!
Голос
Твой клич для нас звучит, как долгий шум лесов!
Демогоргон
Ты, Человек, мучитель и страдалец,
От древних дней обломок, глубока
Была твоя печаль, ты был скиталец,
Сквозь мрак ночной тебя вела тоска.
Все
Пророчествуй: тебе внимают все века!
Демогоргон
Вот день, избранник времени счастливый!
Его заклятьем вызвал Сын Земли,
Чтоб люди видеть счастие могли;
Любовь с престола власти терпеливой,
Победоносная, сошла
И собрала свои усилья.
Из крайней пытки создала
Благословенье изобилья.
Простерла надо всем врачующие крылья.
Терпенье, Мудрость, Нежность, Доброта -
Печать над тем, в чем скрыто Разрушенье;
И если Вечность, мать Уничтоженья,
Растворит дверь, где дремлет темнота,
Освободит змею измены
И кинет в мир чуму, как бич,
Желайте лучшей перемены,
Пошлите в воздух звучный клич;
Вот чары, чтоб опять гармонии достичь, -
Не верить в торжество несовершенства;
Прощать обиды, черные, как ночь;
Упорством невозможность превозмочь;
Терпеть, любить; и так желать блаженства,
Что Солнце вспыхнет сквозь туман
И обессилеет отрава, -
Над этим образ твой, Титан,
Лишь в этом Жизнь, Свобода, Слава,
Победа Красоты, лучистая Держава!
18. КОММЕНТАРИИ
Написана в 1819 году.
К. Бальмонт писал: "Эта драма во многих отношениях является самым
крупным и наиболее ценным созданием Шелли. Он дал здесь свой догмат, и этот
догмат гласит о неизбежной победе Человечества над всем, что называют злом и
что, может быть, вернее было бы назвать болью. По представлениям Шелли, зло
не составляет неизбежной принадлежности мироздания. Оно может и должно быть
устранено через посредство воли... Прометей в конце концов - победитель, ибо
с ним, не боящимся самопожертвования, сливаются воедино Демогоргон, дух
Мировой Справедливости, приводящий через устранение космического
противоречия к мировой гармонии, с ним Иона, юный дух стремленья, Пантея,
дух проникновенной мудрости, Азия, дух любви и красоты; с ним принадлежащая
ему планета Земля, которая со свитоф всех своих созданий, окруженная духами
Часов, неудержимо мчится к Свету и к полной победе Света".
Предисловие.
..."Освобожденный Прометей" Эсхилла... - Заключительная часть трилогии
Эсхила о Прометее, дошедшая до наших дней в отрывках.
...это Сатана... - Шелли анализирует образ Сатаны из поэмы Джона
Мильтона "Потерянный рай" (1667), мятежника против деспотической власти
Бога.
...на горных развалинах терм Каракаллы... - При императоре Каракалле
(211-217) были воздвигнуты общественные бани (термы), руины которых
сохранились.
..."страстное желание преобразовать мир"... - Шелли цитирует
сочинение "Принципы морали" (1805) шотландского публициста Роберта Фортсита
(1766-1846).
Л. Володарская
Перси Биши Шелли. Ченчи
2. ТРАГЕДИЯ
3. ПОСВЯЩЕНИЕ ЛЕЙ ГПНТУ
Мой милый друг,
в далеком краю, после разлуки, месяцы которой показались мне годами, я
ставлю ваше имя над последнею из моих литературных попыток. Мои писания,
опубликованные до сих пор, были, главным образом, не чем иным, как
воплощением моих собственных представлений о прекрасном и справедливом. И
теперь я уже могу видеть в них литературные недостатки, связанные с
молодостью и нетерпеливостью; они были снами о том, чем им нужно было быть
или чем бы они могли быть. Драма, которую я предлагаю вам теперь,
представляет из себя горькую действительность: здесь я отказываюсь от всякой
притязательной позы человека поучающего и довольствуюсь простым изображением
того, что было, - в красках, заимствуемых мною из моего собственного сердца.
Если бы я знал кого-нибудь более одаренного, чем вы, всем тем, чем
должен обладать человек, я постарался бы прибегнуть к его имени, чтобы
украсить это произведение. Но я никогда не знал никого, кто с своею
деликатностью сочетал бы столько достоинства, прямодушия и смелости; никого,
кто, будучи сам свободен от зла, относился бы с такою удивительною
терпимостью ко всем, в чьих делах и мыслях - злое; никого, кто так умел бы
принять или оказать услугу, хотя он не может не делать так, чтобы последнее
не превышало первого; я не знал, наконец, никого, чья жизнь была бы более
простою и более чистою в самом высоком смысле этого слова. А я уже был
счастлив в дружбе, когда к числу имен мне дорогих присоединилось ваше.
Пусть же эта упорная и непримиримая вражда ко всякому семейному и
общественному произволу и обману, которою украшена ваша жизнь и которая
украсила бы мою, будь у меня для этого талант и здоровье, не расстается с
вами никогда, пусть с нею мы живем и умрем, поддерживая друг друга в нашей
задаче.
Будьте же счастливы!
Искренно преданный вам друг ваш,
Перси Б. Шелли.
Рим, 29 мая, 1819.
4. ПРЕДИСЛОВИЕ
Во время моего путешествия по Италии мне сообщили манускрипт, который
был скопирован из архивов палаццо Ченчи в Риме и содержал подробный
рассказ об ужасах, окончившихся гибелью одной из самых благородных и богатых
римских фамилий в эпоху правления Папы Климента VIII, в 1599 году. Рассказ
заключается в том, что некий старик, прожив жизнь в распутстве и
беззакониях, в конце концов проникся неумолимою ненавистью к своим
собственным детям; по отношению к одной из дочерей это чувство выразилось в
форме кровосмесительной страсти, отягченной всякого рода жестокостями и
насилием. Дочь его, после долгих и напрасных попыток избегнуть того, что она
считала неизгладимым осквернением души и тела, задумала наконец, с своею
мачехой и братом, убить общего их притеснителя. Молодая девушка, побужденная
к такому страшному поступку известным душевным движением, которое пересилило
его ужас, была, несомненно, кротким и прекрасным существом, созданным для
того, чтобы быть любимым и обожаемым, и, таким образом, она была
насильственно отброшена от своей мягкой натуры неотвратимою силой
обстоятельств и убеждения. Преступление было быстро обнаружено, и, несмотря
на самые настойчивые просьбы, с которыми обращались к Папе наиболее
высокопоставленные лица в Риме, виновные были казнены. Старик Ченчи в
продолжение своей жизни неоднократно покупал у Папы, за сумму в сто тысяч
крон, прощение своим преступлениям, для которых нет слов, - так они
чудовищны; поэтому смертная казнь для его жертв вряд ли может быть объяснена
любовью к правосудию. Среди других побудительных мотивов к строгости Папа,
вероятно, чувствовал, что, кто бы ни убил графа Ченчи, во всяком случае
убийца лишал его казну верного и богатого источника доходов. Папское
правительство предприняло крайние меры предосторожности против опубликования
фактов, являющихся таким трагическим доказательством собственного его
беззакония и слабости; так что пользование манускриптом, до последнего
времени, было связано с известными затруднениями. Сообщить читателю такие
события, представив ему все чувства тех, кто был в них некогда действующими
лицами, изобразить их надежды и опасения, их уверенность в успехе и
предчувствие темного исхода, их разнородные интересы, страсти и мнения,
связанные взаимодействием и соперничеством, но в своей разнородности как бы
вступившие в один тайный заговор и ведущие к одному страшному концу,
изобразить все это - значит бросить полосы света в самые сокровенные области
человеческого сердца и сделать явным то, что есть тайного в его темных
пещерах.
По приезде в Рим я заметил, что, находясь в итальянском обществе,
нельзя упомянуть об истории фамилии Ченчи, без того чтобы не вызвать
глубокого захватывающего интереса; я заметил также, что в итальянцах
неизменно проявляется романтическая жалость к той, чье тело два столетия
тому назад смешалось с общим прахом, и страстное оправдание ужасного
поступка, к которому она была вынуждена своими обидами. Представители самых
разнородных слоев общества знали фактическую канву рассказа и неизменно
отзывались на его подавляющий интерес, который, по-видимому, с магическою
силой может завладевать человеческим сердцем. У меня была с собой копия с
портрета Беатриче, сделанного Гвидо и хранящегося в палаццо Колонна, и мой
слуга тотчас же узнал его как портрет La Cenci {Портрет Беатриче Ченчи,
сделанный Гвидо Рени, находится теперь и палаццо Барберини, зал III, Э 85.}.
Этот национальный и всеобщий интерес, который данное повествование в
течение двух столетий вызывало и продолжает вызывать среди всех слоев
общества, в большом городе, где воображение вечно чем-нибудь занято, внушил
мне мысль, что данный сюжет подходит для драмы. В действительности это была
уже готовая трагедия, получившая одобрение и снискавшая успех благодаря
своей способности пробуждать и поддерживать сочувствие людей. Нужно было
только, как мне думалось, облечь ее таким языком, связать ее таким
действием, чтобы она показалась родною для воспринимающих сердец моих
соотечественников. Глубочайшие и самые возвышенные создания трагической
фантазии, _Король Лир_ и две драмы, излагающие рассказ об Эдипе, были
повествованиями, уже существовавшими в предании, как предмет народной веры и
народного сочувствия, прежде чем Шекспир и Софокл сделали их близкими для
симпатии всех последующих поколений человечества.
Правда, эта история Ченчи в высшей степени ужасна и чудовищна:
непосредственное изображение ее на сцене было бы чем-то нестерпимым. Тот,
кто взялся бы за подобный сюжет, должен был бы усилить идеальный и уменьшить
реальный ужас событий, так чтобы наслаждение, проистекающее из поэзии,
связанной с этими бурными страстями и преступлениями, могло смягчить боль
созерцания нравственного уродства, служащего их источником. Таким образом, в
данном случае отнюдь не следует пытаться создать зрелище, служащее тому, что
на низком просторечии именуется моральными задачами. Высшая моральная
задача, к которой можно стремиться в драме высшего порядка, это - через
посредство человеческих симпатий и антипатий - научить человеческое сердце
самопознанию: именно в соответствии с теми или иными размерами такого знания
каждое человеческое существо, в той или иной мере, может быть мудрым,
справедливым, искренним, снисходительным и добрым. Если догматы могут
сделать больше, - прекрасно; но драма вовсе не подходящее место, чтобы
заняться их подкреплением. Нет сомнения, что никакой человек не может быть в
действительности обесчещен тем или иным поступком другого; и лучший ответ на
самые чудовищные оскорбления - это доброта, сдержанность и решимость
отвратить оскорбителя от его темных страстей силою кроткой любви. Месть,
возмездие, воздаяние - не что иное, как зловредное заблуждение. Если бы
Беатриче думала так, она была бы более мудрою и хорошей, но она никогда не
могла бы явить из себя характер трагический: те немногие, кого могло бы
заинтересовать подобное зрелище, не были бы в состоянии обусловить
драматический замысел, за отсутствием возможности снискать сочувствие к их
интересу в массе людей, их окружающих. Эта беспокойная анатомизирующая
казуистика, с которою люди стараются оправдать Беатриче, в то же время
чувствуя, что она сделала нечто нуждающееся в оправдании; этот суеверный
ужас, с которым они созерцают одновременно ее обиды и ее месть, - и
обусловливают драматический характер того, что она совершила и что она
претерпела.
Я попытался изобразить характеры с возможной исторической верностью,
такими, какими они, вероятно, были, и старался избегнуть ошибочного желания
заставить их действовать согласно с моими собственными представлениями о
справедливом и несправедливом, истинном и ложном, ибо в этом случае под
сквозным покровом имен и деяний шестнадцатого века выступили бы холодные
олицетворения известных черт моего собственного ума. Герои моей драмы
представлены как католики, и как католики, глубоко проникнутые религиозным
чувством. Протестантское чувство увидит нечто неестественное в этом
настойчивом и беспрерывном ощущении связи между Богом и человеком, которым
проникнута трагедия Ченчи. Оно в особенности будет поражено соединением
несомненной убежденности в истинности общепринятой религии с холодным и
решительным упорством в осуществлении чудовищного преступления. Но религия в
Италии не является, как в странах протестантских, нарядом, который носят в
особенные дни, или паспортом, избавляющим от притеснений, или мрачной
страстью к разгадыванию непроницаемых тайн нашего бытия, которая лишь пугает
того, кто обладает ею, приводя его к краю темной бездны. В уме
католика-итальянца религия, так сказать, сосуществует с верой в то,
относительно чего все люди имеют самое достоверное сведение. Она переплетена
здесь со всем строем жизни. Это - обожание, вера, подчиненность,
раскаяние, слепое восхищение; не правило нравственного поведения. Она не
имеет необходимой связи с какой-либо добродетелью. В Италии самый
отъявленный негодяй может быть вполне набожным человеком и признавать себя
таковым, не оскорбляя этим установившуюся веру. Религия здесь напряженным
образом проникает весь общественный строй и представляет из себя, согласно с
тем или иным темпераментом, страсть, убеждение, извинение, прибежище, -
никогда не препятствие. Сам Ченчи выстроил часовню в честь св. Фомы Апостола
и установил мессы для успокоения своей души. Так точно в первой сцене
четвертого действия Лукреция, после того как она подлила Ченчи опиума,
подвергает себя всем последствиям пререканий с ним, лишь бы только добиться,
посредством вымышленной истории, чтобы он исповедался перед смертью, что
считается католиками существенным для спасения души, и она только тогда
отказывается от своего намерения, когда видит, что ее настойчивость может
подвергнуть Беатриче новым оскорблениям.
Когда я писал эту драму, я тщательно избегал введения в нее того
элемента, который носит название чистой поэзии, и я надеюсь, что в ней
едва-едва найдется какое-нибудь отдельное уподобление или описание такого
рода, если только не считать, вложенное в уста Беатриче, описание пропасти,
где, по уговору, должно произойти убиение ее отца {Идея этого монолога была
внушена одним из самых возвышенных мест в драме Кальдероно El Purgatorio de
San Patricia (Чистилище святого Патрикка) - единственный плагиат, который я
умышленно допустил в этой пьесе. - Шелли.}.
В драматическом произведении воображение и страсть должны взаимно
проникать друг друга, так чтобы первое служило всецело для полного развития
и освещения второй. Воображение - это как бы бессмертный Бог, Который должен
принять телесную оболочку, чтобы принести освобождение от смертных страстей.
Таким путем как самые отдаленные от обычного, так и самые повседневные
образы одинаково могут служить целям драматического искусства, когда их
применяют к освещению сильного чувства, которое возвышает то, что низко, и
ставит в один уровень с пониманием то, что возвышенно, набрасывая на все
тень своего собственного величия. В других отношениях я менее стеснял себя
какими-либо соображениями, т.е. писал без чрезмерной разборчивости и
учености в выборе слов. В данном случае я совершенно схожусь с теми из
современных критиков, которые утверждают, что нужно употреблять самый
простой человеческий язык, чтобы вызвать истинную симпатию, и что наши
великие предки, старые английские поэты, были писателями, изучение которых
должно побуждать нас сделать для нашего века то, что они сделали для своего.
Но тогда язык поэзии должен быть реальным языком людей вообще, а не того
отдельного класса, к которому писатель случайно принадлежит. Все это я
говорю о том, что я пытался сделать: излишнее прибавлять, что успех - дело
уже другое; в особенности успех того, чье внимание лишь с недавнего
времени было обращено на изучение драматической литературы.
Во время своего пребывания в Риме я старался ознакомиться с
памятниками, которые, относясь к данному сюжету, доступны для иностранца.
Портрет Беатриче в палаццо Колонна представляет из себя превосходнейшее
произведение искусства: Гвидо сделал его в то время, когда она была
заключена в тюрьму {Это легенда, отвергнутая последними изысканиями.}.
Вместе с тем портрет этот в высшей степени интересен, как верное изображение
одного из прекраснейших созданий природы. В неподвижных чертах бледного лица
чувствуется спокойная гармония: она, по-видимому, печальна и удручена, но
отчаяние, застывшее в ее выражении, смягчено изящною кротостью терпения. Ее
голова задрапирована белым тюрбаном, из-под складок которого выбиваются
светлые пряди золотых волос, падающих вокруг ее шеи. Очертания лица ее в
высшей степени деликатны; брови разделены и дугообразно приподняты; губы
отмечены тою яркою и определенною выразительностью воображения и
впечатлительности, которой не подавило страдание и сама смерть, по-видимому,
не могла бы погасить. Лоб широкий и открытый: глаза, которые, как
передают, были замечательны по своей живости, опухли от слез и лишены
блеска, но они исполнены прекрасной нежности и ясности. Во всем лице
чувствуется простота и достоинство, производящие несказанно-патетическое
впечатление, в соединении с изысканным оча рованием и глубокою скорбью.
По-видимому, Беатриче Ченчи была одною из тех редких личностей, в которых
энергия и грация уживаются вместе, не умаляя одна другую: ее натура была
простою и глубокой. Преступления и беды, в чьих сетях пришлось ей быть
действующим и страдающим лицом, являются как бы маской и мантией, которыми
обстоятельства облекли ее для ее индивидуальной роли на мировой сцене.
Палаццо Ченчи по размерам своим очень обширно; и, хотя оно частью
модернизировано, в нем еще остается обширная и мрачная масса феодальной
архитектуры, в том самом состоянии, в каком она была, когда здесь
разыгрывались ужасающие сцены, явившиеся сюжетом этой трагедии. Палаццо
расположено в одном из мрачных уголков Рима, вблизи Еврейского квартала: из
верхних его окон можно видеть обширные руины Палатинского Холма, наполовину
скрытые под навесом пышной растительности. В одной части палаццо есть двор,
- быть может, тот самый, где Ченчи выстроил часовню в честь св. Фомы:
окруженный гранитными колоннами и украшенный античными фризами тонкой
работы, он замкнут в то же время, согласно со старинным итальянским вкусом,
балконами над балконами, в виде открытых лож. Одни из ворот Палаццо,
выстроенные из огромных камней и ведущие темным и высоким переходом к
угрюмым подземным комнатам, поразили меня совершенно особенным образом.
О замке Петрелла я не мог получить никаких сведений, кроме тех, которые
находятся в манускрипте.
5. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Граф Франческо Ченчи.
Джакомо
его сыновья.
Бернардо
Кардинал Камилло.
Орсино, прелат.
Савелла, папский легат.
Олимпио
убийцы.
Марцио
Андреа, слуга Ченчи.
Нобили, судьи, стражи, слуги.
Лукреция, жена Ченчи и мачеха его детей.
Беатриче, его дочь.
Сцена главным образом в Риме; во время четвертого действия она переносится в
Петреллу, замок среди Апулийских Апеннин.
Эпоха: папство Климента VIII.
6. ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
7. СЦЕНА ПЕРВАЯ
Комната в палаццо Ченчи. Входят граф Ченчи и кардинал Камилло.
Камилло
Мы можем это дело об убийстве
Замять совсем, но только вам придется
Отдать его Святейшеству поместье,
Которое за Пинчио лежит.
Чтоб в этом пункте вынудить у Папы
Согласие, я должен был прибегнуть
К последнему ресурсу - опереться
На все мое влияние в конклаве,
И вот его Святейшества слова:
"Граф Ченчи покупает за богатства
Такую безнаказанность, что в ней
Великая скрывается опасность;
Уладить два-три раза преступленья.
Свершаемые вами, - это значит
Весьма обогатить святую Церковь
И дать возможность гибнущей душе
Раскаяться и жить, избегнув Ада:
Но честь его высокого престола
Не может допустить, чтоб этот торг
Был вещью ежедневной, прикрывая
Обширный сонм чудовищных грехов,
Которых и скрывать вы не хотите
От возмущенных взоров глаз людских".
Ченчи
Треть всех моих владений, - что ж, недурно!
Идет! Как слышал я, племянник Папы
Однажды архитектора послал,
Чтоб выстроить недурненькую виллу
Средь пышных виноградников моих,
В ближайший раз, как только я улажу
Свои дела с его почтенным дядей.
Не думал я, что так я попадусь!
Отныне ни свидетель, ни лампада
Не будут угрожать разоблачить
Все, что увидел этот раб негодный,
Грозивший мне. Он щедро награжден, -
Набил ему я глотку цепкой пылью.
И кстати, все, что видел он, лишь стоит
Того, что стоит жизнь его. Печально. -
"Избегнуть Ада!" - Пусть же Сатана
Поможет душам их избегнуть Неба!
Сомненья нет, что с Папою Климентом
Любезные племянники его,
Склонив колена, молятся усердно
Апостолу Петру и всем святым,
Чтоб ради их он дал мне долгой жизни,
Чтоб дал мне силы, гордости, богатства
И чувственных желаний, - чтобы мог я
Творить поступки, служащие им
Чудесным казначеем. Пусть же знают
Мои доброжелатели, что много
Еще владений есть у графа Ченчи,
К которым прикоснуться им нельзя.
Камилло
О, много, и достаточно, с избытком,
Чтоб честно жить и честно примириться
С своей душой, и с Богом, и с людьми.
Подумайте, какой глубокий ужас:
Деянья сладострастия и крови,
Прикрытые почтенностью седин!
Вот в этот час могли бы вы спокойно
Сидеть в кругу семьи, среди детей,
Но страшно вам, в их взорах вы прочтете
Позор и стыд, написанные вами.
Где ваша молчаливая жена?
Где ваша дочь? Своим прозрачным взглядом
На что она, бывало, ни посмотрит,
Все делалось как будто веселей.
Быть может, мог бы взор ее прекрасный
Убить врага, гнездящегося в вас.
Зачем она живет в уединенье,
Беседуя с одной своей тоской,
Не находящей слов для выраженья?
Откройтесь мне, вы знаете, что я
Желаю вам добра. Я видел близко,
Как юность ваша бурная прошла,
Исполненная дымного пожара;
Я видел близко дерзкий бег ее,
Как тот, кто видит пламя метеора,
Но в вас не гаснет этот жадный блеск;
Я видел близко вашу возмужалость,
В которой вместе с бешенством страстей,
Шла об руку безжалостность; и ныне
Я вижу обесчещенную старость,
Согбенную под бременем грехов,
Со свитою бесстыдных преступлений.
А я все ждал, что в вас проглянет свет.
Что вы еще исправитесь, - и трижды
Я спас вам жизнь.
Ченчи
За что Альдобрандино
Вам земли дает близ Пинчио. Еще
Прошу вас, кардинал, одно заметить,
И можем столковаться мы тогда:
Один мой друг заговорил сердечно
О дочери и о жене моей;
Он часто навещал меня; и что же!
Назавтра после той беседы теплой
Его жена и дочь пришли ко мне
Спросить, - что не видал ли я их мужа
И нежного отца. Я улыбнулся.
Мне помнится, с тех пор они его
Не видели.
Камилло
Несчастный, берегись!
Ченчи
Тебя? Помилуй, это бесполезно.
Пора нам знать друг друга. А насчет
Того, что преступлением зовется
Среди людей, - насчет моей привычки
Желания свои осуществлять,
К обману и к насилью прибегая, -
Так это ведь ни для кого не тайна, -
К чему ж теперь об этом говорить?
Я чувствую спокойную возможность
Сказать одно и то же, говоря
Как с вами, так и с собственной душою.
Ведь вы же выдаете, будто вы
Меня почти исправили, - так, значит,
Невольно вам приходится молчать,
Хотя бы из тщеславия, притом же,
Я думаю, и страх побудит вас
Не очень обо мне распространяться.
Все люди услаждаются в разврате;
Всем людям месть сладка; и сладко всем
Торжествовать над ужасом терзаний,
Которых не испытываешь сам,
Ласкать свой тайный мир чужим страданьем.
Но я ничем другим не наслаждаюсь,
Я радуюсь при виде агонии,
Я радуюсь при мысли, что она
Другому смерть, а мне - одна картина.
И нет укоров совести в душе,
И мелочного страха я не знаю,
Всего, в чем грозный призрак для других.
Такие побужденья неразлучны
Со мной, как крылья с коршуном, - и вечно
Мое воображение рисует
Передо мной одни и те же формы.
Одни и те же алчные мечтанья.
И только те, которые других,
Подобных вам, всегда заставят дрогнуть.
А мне, как яство сладкое, как сон
Желанный, - ждешь его и не дождешься.
Камилло
Не чувствуешь, что ты из жалких жалкий?
Ченчи
Я жалкий? Нет. Я только - то, что ваши
Теологи зовут ожесточенным,
Иначе закоснелым называют;
Меж тем как если кто и закоснел,
Так это лишь они в своем бесстыдстве,
Позоря так особенный мой вкус.
Не скрою, я счастливей был когда-то,
В те дни, как все, о чем я ни мечтал,
Сейчас же мог исполнить, как мужчина.
Тогда разврат манил меня сильнее,
Чем месть; теперь мои затеи меркнут;
Мы все стареем, да; таков закон.
Но есть еще заветное деянье,
Чей ужас может страсти пробудить
И в том, кто холодней меня, я жажду
Его свершить - свершу - не знаю что.
В дни юности моей я думал только
О сладких удовольствиях, питался
Лишь медом: но, клянусь святым Фомой,
Не могут люди вечно жить, как пчелы;
И я устал; но до тех пор, пока
Я не убил врага и не услышал
Его стенаний жалких и рыданий
Его детей, не знал я, что на свете
Есть новая услада, о которой
Теперь я мало думаю, любя
Не смерть, а дурно-скрытый ужас смерти,
Недвижные раскрытые глаза
И бледные, трепещущие губы,
Которые безмолвно говорят,
Что скорбный дух внутри залит слезами
Страшнее, чем кровавый пот Христа.
Я очень-очень редко убиваю
То тело, в чьей мучительной темнице
Заключена плененная душа,
Покорная моей жестокой власти
И каждый миг питаемая страхом.
Камилло
Нет, даже самый черный адский дух,
Ликуя в опьяненье преступленья,
Не мог так говорить с самим собою,
Как в этот миг ты говоришь со мной.
Благодарю Создателя за то, что
Он позволяет мне тебе не верить.
(Входит Андреа.)
Андреа
Вас, господин мой, хочет увидать
Какой-то дворянин из Саламанки.
Ченчи
Проси его в приемный зал.
(Андреа уходит.)
Камилло
Прощай.
Я буду умолять Творца Благого,
Чтоб слух Он не склонял к твоим речам,
Обманным и безбожным, чтоб тебя Он
Не предал тьме.
(Камилло уходит.)
Ченчи
Треть всех моих владений!
Я должен сократить свои расходы,
Не то богатство, меч преклонных лет,
Уйдет навек из рук моих иссохших.
Еще вчера пришел приказ от Папы,
Чтоб содержанье я учетверил
Проклятым сыновьям моим: нарочно
Из Рима я послал их в Саламанку,
Быть может, с ними что-нибудь случится,
Быть может, мне удастся умертвить
Голодной смертью их. О Боже мой,
Молю Тебя, пошли им смерть скорее!
Бернардо и жене моей теперь уж
Не лучше, чем в аду; а Беатриче...
(Подозрительно оглядывается кругом.)
Я думаю, что там меня не слышат,
Да если б даже слышали! Но все же
Не нужно говорить, хотя в словах
Ликует торжествующее сердце.
Не нужно! О немой безгласный воздух,
Ты не узнаешь тайных дум моих.
Вы, каменные плиты, по которым
Я шествую, идя в ее покои,
Пусть ваше эхо шепчется тревожно
О том, как властен шаг мой, не о том,
Что думаю! - Андреа!
(Входит Андреа.)
Андреа
Господин мой!
Ченчи
Поди скажи, чтоб в комнате своей
Меня ждала сегодня Беатриче
В вечерний час, - нет, в полночь, и одна.
(Уходит.)
8. СЦЕНА ВТОРАЯ
Сад, примыкающий к палаццо Ченчи. Входят Беатриче и Орсино, продолжая свой
разговор.
Беатриче
Не искажайте истины, Орсино.
Вы помните, мы с вами говорили
Вон там. Отсюда видно это место.
С тех пор прошло два года, - столько дней!
Апрельской ночью лунной, там, под тенью
Развалин Палатинского Холма,
Я вам открыла тайные мечтанья.
Орсино
Вы мне сказали: "Я тебя люблю".
Беатриче
Священнический сан стоит меж нами,
Не говорите больше о любви.
Орсино
Но получить могу я разрешенье
От Папы. Он позволит мне жениться.
Вы думаете, может быть, что после
Того, как принял я духовный сан,
Ваш образ не стоит передо мною.
Во тьме ночной и в ярком свете дня?
Беатриче
Я снова повторяю вам, Орсино:
Не говорите больше о любви.
И если б разрешенье вы имели,
Оно для вас, отнюдь не для меня.
Могу ли я покинуть дом печали,
Пока Бернардо бедный в нем и та,
Чьей кротости обязана я жизнью
И всем, что есть хорошего во мне!
Пока есть силы, я должна терзаться.
И самая любовь, что прежде я
К вам чувствовала, стала горькой мукой.
Увы, Орсино! Юный наш союз
Действительно был только юной грезой.
И кто ж его разрушил, как не вы,
Приняв обет, который уничтожить
Не может Папа. Я еще люблю,
Еще любить я вас не перестану,
Но только как сестра или как дух;
И в верности холодной я клянусь вам.
Быть может, это даже хорошо,
Что нам нельзя жениться. В вас я вижу
Какую-то неискренность и скрытность,
Что мне не нравится. О, горе мне!
Куда, к кому должна я обратиться?
Вот даже и теперь, глядя на вас,
Я чувствую, что вы не друг мне больше,
И вы, как будто сердцем отгадав,
Что в сердце у меня теперь, смеетесь
Притворною улыбкой, точно я
Несправедлива в этом подозренье.
О, нет, простите! Это все не то!
Меня печаль казаться заставляет
Такой жестокой, - в сердце нет того,
Чем я кажусь. Я вся изнемогаю
От бремени глубоко-скорбных дум,
Которые как будто предвещают
Какое-то несчастье... Впрочем, что же
Случиться может худшего еще?
Орсино
Все будет хорошо. Готова просьба?
Вы знаете, как сильно, Беатриче,
Внимание мое к желаньям вашим.
Не сомневайтесь, я употреблю
Все рвенье, все умение, и Папа
Услышит вашу жалобу.
Беатриче
Вниманье
К желаниям моим, уменье, рвенье...
О, Боже, как вы холодны ко мне!
Скажите мне одно лишь слово...
(в сторону.)
Горе!
Мне не к кому пойти, а я стою
И ссорюсь здесь с моим последним другом!
(К Орсино.)
Орсино, мой отец сегодня ночью
Готовит пышный пир. Из Саламанки
Он добрые известья получил
От братьев, и наружною любовью
Он хочет скрыть, с насмешкой, ту вражду,
Которая в его душе гнездится.
Он дерзкий лицемер. Скорей, я знаю,
Он стал бы смерть их праздновать, о чем,
Как слышала сама я, он молился.
О Боже мой! Кого должна я звать
Своим отцом! - Для пира все готово.
Он созвал всех родных и всех главнейших
Из лучшей римской знати. Приказал мне
И матери запуганной моей
Одеться в наши лучшие одежды.
Бедняжка! Ей все чудится, что с ним
Какая-то случится перемена,
Надеется, что в черный дух его
Прольется луч какой-то просветленья.
Я ничего не жду. Во время пира
Ходатайство свое я вам отдам.
Теперь же - до свиданья.
Орсино
До свиданья.
(Беатриче уходит.)
Я знаю, если Папа согласится
Обет мой уничтожить, вместе с тем
Он уничтожит все мои доходы
С епархий. Беатриче, я хочу
Тебя купить дешевле. Не прочтет он
Твое красноречивое посланье.
А то, пожалуй, выдал бы он замуж
Тебя за одного из неимущих
Приспешников племянника шестого,
Как это сделал он с твоей сестрой.
Тогда "прости" навек мои расчеты.
Да правда и насчет того, что будто
Отец ее терзает, это все
Весьма преувеличено. Конечно,
Брюзгливы старики и своевольны.
Почтенный человек убьет врага,
Замучает прислужника, - вот важность!
Немножко позабавится насчет
Вина и женщин, поздно возвратится
В свой скучный дом и в скверном настроенье
Начнет бранить детей, ругать жену,
А дочери и жены называют
Все это - нестерпимой тиранией.
Я был бы счастлив, если б у меня
На совести грехов не тяготело
Важней, чем те, что связаны невольно
С затеями любви моей. Из этой
Искусной сети ей не ускользнуть.
И все ж мне страшен ум ее пытливый.
Глубокий взгляд ее внушает страх.
Все скрытое во мне он обличает.
Все мысли потаенные провидит,
И поневоле должен я краснеть.
Но нет! Она одна и беззащитна,
Во мне ее последняя надежда.
Я был бы непростительным глупцом,
Когда бы я позволил ускользнуть ей;
Я был бы так же страшно глуп, как если б
Пантера, увидавши антилопу,
Почувствовала ужас.
(Уходит.)
9. СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Великолепный зал в палаццо Ченчи. Пир. Входят Ченчи, Лукреция, Беатриче,
Орсино, Камилло, Нобили.
Ченчи
Привет вам всем, мои друзья, родные,
Основа церкви - принцы, кардиналы,
Вам всем, своим присутствием почтившим
Наш праздник, - самый искренний привет.
Я слишком долго жил анахоретом,
И в эти дни, как был лишен я вас,
Насчет меня распространились слухи
Нелестные, как, верно, вам известно,
Но я надеюсь, добрые друзья,
Что вы, приняв участье в нашем пире,
Узнав его достойную причину
И чокнувшись со мною два-три раза,
Увидите, что я похож на вас,
Что я, как вы, родился человеком,
Конечно, не безгрешным; но, увы,
Нас всех Адам соделал таковыми.
Первый гость
О граф, у вас такой веселый вид,
Вы с нами так приветливы, что слухи,
Конечно, лгут, приписывая вам
Деянья недостойные.
(К своему соседу.)
Смотрите,
Какой прямой, какой веселый взгляд!
Второй гость
Скажите нам скорее о желанном
Событии, порадовавшем вас, -
И радость будет общей.
Ченчи
Да, признаться,
Для радости достаточно причин.
Когда отец взывает неустанно,
Из глубины родительского сердца,
К Всевышнему Родителю всего, -
Когда одну мольбу он воссылает,
Идя ко сну, вставая ото сна, -
Когда лелеет он одно желанье,
Всегда одну заветную мечту,
И с той мечтою связаны два сына, -
Когда внезапно, даже сверх надежды,
Его мольба услышана вполне, -
О, так вполне, что греза стала правдой,
Еще б ему тогда не ликовать,
Еще бы не сзывать на пир веселый
Своих друзей, как сделал это я.
Беатриче (к Лукреции)
О Боже! Что за ужас! Верно, братьев
Постигло что-то страшное.
Лукреция
Не бойся.
Его слова звучат чистосердечно.
Беатриче
Мне страшно от чудовищной улыбки,
Играющей вкруг глаз его, в морщинах,
Что стягивают кожу до волос.
Ченчи
Вот здесь письмо ко мне из Саламанки,
Пусть мать твоя узнает, Беатриче,
Чт_о_ пишут мне. Прочти его. Господь,
Благодарю Тебя! Незримой дланью
Исполнил Ты желание мое
В короткий срок одной и той же ночи.
Уж нет в живых моих детей мятежных,
Упрямых, непослушных! Нет в живых!
Что значит это странное смущенье?
Вы, кажется, не слышите: мои
Два сына приказали долго жить,
И больше им не нужно ни одежды,
Ни пищи, - только траурные свечи,
Что будут озарять их темный путь,
Послужат их последнею издержкой.
Я думаю, что Папа не захочет,
Чтоб в их гробах я стал их содержать.
Так радуйтесь - я счастлив, я ликую.
(Лукреция в полуобмороке; Беатриче поддерживает ее.)
Беатриче
Не может быть! Приди в себя, молю,
Не может быть, ведь есть же Бог на Небе,
Ему не мог бы Он позволить жить
И милостью такою похваляться.
Ты лжешь, бесчеловечный, ты солгал.
Ченчи
Поистине, солгал, как сам Создатель.
Зову теперь в свидетели Его:
Не только смерть, но самый род их смерти -
Порука в благосклонности ко мне
Святого Провиденья. Сын мой Рокко
С шестнадцатью другими слушал мессу:
Вдруг свод церковный рухнул, все спаслись,
Погиб лишь он один. А Кристофано
Случайно, по ошибке, был заколот
Каким-то там стремительным ревнивцем,
В то время как жена его спала
С любовником. И это все случилось
В единый час одной и той же ночи.
И это есть свидетельство, что Небо
Особенно заботится о мне.
Прошу моих друзей, во имя дружбы.
Отметить этот день в календаре.
Число двадцать седьмое. Новым дивным
Обогатился праздником декабрь.
Хотите, может быть, меня проверить?
Вот вам письмо, пожалуйста, прочтите.
(Все присутствующие смущены, некоторые из гостей встают.)
Первый гость
Чудовищно! Я ухожу.
Второй гость
И я!
Третий гость
Постойте, я уверен, это шутка,
Хоть он и шутит слишком уж серьезно.
Я думаю, что сын его обвенчан
С инфантой или, может быть, нашел
Он копи золотые в Эльдорадо, -
Он хочет эту весть преподнести
С пикантною приправой, - посмотрите,
Он только насмехается.
Ченчи
(наполняя кубок вином и поднимая его)
О, ты,
Веселое вино, чей блеск багряный
Играет, пенясь, в кубке золотом,
Как дух мой, веселящийся при вести
О смерти этих гнусных сыновей!
Когда б не ты, а кровь их здесь блистала,
Я выпил бы ее благоговейно,
Как кровь Святых Даров, и, полный смеха,
Приветствовал бы я заздравным тостом
Могучего владыку Сатану.
Он должен ликовать в моем триумфе,
Коль правда, как свидетельствуют люди,
Что страшное отцовское проклятье
За душами детей, на быстрых крыльях,
Летит и тащит их в глубокий Ад,
Хотя б от самого престола Неба!
Ты лишнее, вино мое: я пьян
От пьяности восторга - в этот вечер
Другой мне хмель не нужен.
Эй, Андреа,
Неси скорее кубок круговой!
Первый гость (вставая)
Несчастный! Неужели между нами
Не будет никого, кто б удержал
Позорного мерзавца?
Камилло
Ради Бога,
Позвольте мне, я распущу гостей,
Вы вне себя! Смотрите, будет худо!
Второй гость
Схватить его!
Первый гость
Связать его!
Третий гость
Смелее!
Ченчи
(с жестом угрозы обращаясь к тем, которые встают)
Тут кто-то шевелится? Кто-то шепчет?
(Обращаясь к сидящим за столом.)
Нет, ничего. Прошу вас, веселитесь.
И помните, что мщенье графа Ченчи -
Как царский запечатанный приказ,
Который убивает, но никто
По имени не назовет убийцу.
(Пир прерывается; некоторые из гостей уходят.)
Беатриче
О гости благородные, прошу вас,
Останьтесь здесь, молю, не уходите;
Чт_о_ в том, что деспотизм бесчеловечный
Отцовскими сединами прикрыт?
Чт_о_ в том, что он, кто дал нам жизнь и сердце,
Пытая нас, хохочет, как палач?
Чт_о_ в том, что мы, покинутые всеми,
Его родные дети и жена,
С ним скованы неразрушимой связью?
Ужель за нас не вступится никто?
Ужели в целом мире нет защиты?
Подумайте, какую бездну мук
Должна была я вынести, чтоб в сердце,
Исполненном немого послушанья,
Погасло все - любовь, и стыд, и страх?
Подумайте, я вытерпела много!
Ту руку, что гнела меня к земле,
Я целовала кротко, как святыню,
И думала, что, может быть, удар
Был карою отеческой, не больше!
Я много извиняла, сомневалась,
Потом, поняв, что больше нет сомнений,
Старалась я терпеньем без конца
И ласкою смягчить его; когда же
И это оказалось бесполезным,
В тиши бессонных тягостных ночей
Я падала с рыданьем на колени,
Молясь душой Всевышнему Отцу.
И видя, что молитвы не доходят
До Неба, все же я еще терпела,
Ждала, - пока на этот подлый пир
Не созвал он вас всех, чтоб веселиться
Над трупами моих погибших братьев.
О принц Колонна, ты нам самый близкий,
О кардинал, ты - Папский камерарий,
И ты, Камилло, ты судья верховный:
Возьмите нас отсюда!
Ченчи
(в то время, когда Беатриче произносила первую половину своего монолога,
разговаривал с Камилло; услышав заключительные слова Беатриче, он
приближается)
Я надеюсь,
Что добрые друзья не захотят
Послушать эту дерзкую девчонку, -
О собственных заботясь дочерях
Иль, может быть, свое пощупав горло.
Беатриче
(не обращая внимания на слова Ченчи)
Что ж, даже вы не взглянете никто?
Вы даже мне ответить не хотите?
Один тиран способен победить
Толпу других, умнейших и добрейших?
Иль я должна ходатайство свое
В законной точной форме вам представить?
О Господи, зачем я не в земле,
Не с братьями! Цветы весны увядшей
Теперь бы над моей могилой гасли,
И мой отец один бы пир устроил
Над общим гробом!
Камилло
Горькое желанье
В устах таких невинно-молодых!
Не можем ли мы чем-нибудь помочь им?
Колонна
Мне кажется, ничем помочь нельзя.
Граф Ченчи враг опасный. Но... я мог бы.
Другого поддержать...
Кардинал
И я... охотно...
Ченчи
Иди отсюда в комнату свою, -
Ты, дерзкое создание!
Беатриче
Нет, ты
Иди отсюда, изверг богохульный!
Сокройся, пусть никто тебя не видит.
Ты хочешь послушанья? Нет его!
Мучитель! О, заметь, что, если даже
Ты властвуешь над этою толпой,
Из злого может выйти только злое.
Не хмурься на меня! Спеши, исчезни,
Не жди, чтоб тени братьев отошедших
Виденьями возникли пред тобой
Со взорами, исполненными мести!
Закрой свое лицо от смертных взглядов,
Дрожи, когда услышишь звук шагов,
Найди себе прибежище во мраке,
В каком-нибудь безмолвном уголке,
И там, склонивши голову седую,
Коленопреклоненный, ниц пади
Пред Господом, тобою оскорбленным,
Мы тоже ниц падем и вкруг тебя
Молиться будем Богу всей душою,
Чтоб Он не погубил тебя и нас!
Ченчи
Друзья мои, мне жаль, что пир веселый
Испорчен сумасшедшею девчонкой.
Прощайте; доброй ночи. Не хочу
Вам больше досаждать глупейшей скукой
Домашних наших сцен. Итак, надеюсь,
До скорого свиданья.
(Уходят все, кроме Ченчи и Беатриче.)
Дать мне кубок!
Мой ум скользит.
(К Беатриче.)
Ты, милая ехидна!
Прекрасный, страшный зверь! Я знаю чары,
Чья власть тебя заставит быть ручной.
Прочь с глаз моих теперь!
(Беатриче уходит.)
Сюда, Андреа,
Наполни кубок греческим вином!
Сегодня не хотел я пить ни капли, -
Я должен; как ни странно, я робею
При мысли о решении своем.
(Пьет вино.)
Да будешь ты в моих застывших жилах -
Как быстрая решимость юных дум,
Как твердое упорство зрелой воли,
Как мрачный и утонченный разврат
Распутной престарелости. О, если б
Действительно ты не было вином,
А кровью сыновей моих проклятых,
Чтоб мог я утолить себя! Вот так!
Я слышу; чары действуют. Мечта
Должна быть свершена. Она свершится!
(Уходит.)
10. ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
11. СЦЕНА ПЕРВАЯ
Комната в палаццо Ченчи. Входят Лукреция и Бернардо.
Лукреция
Не плачь, мой милый мальчик, он ведь только
Меня ударил; я терпела больше.
И право, если б он меня убил,
Он лучше б сделал. Боже Всемогущий,
Взгляни на нас, другой нам нет защиты!
Не плачь же. Если даже я тебя
Люблю как своего родного сына,
Тебе я не родная.
Бернардо
Больше, больше,
Чем может быть для собственного сына
Родная мать! И если бы он не был
Отец мне, разве стал бы я рыдать?
Лукреция
Ну, что ж еще ты мог бы, мальчик бедный?
(Входит Беатриче.)
Беатриче
(Торопливым голосом)
Он здесь прошел? Вы видели его?
А! Нет! Вот-вот, на лестнице я слышу
Его шаги, все ближе, вот теперь
Его рука уже на ручке двери.
О мать моя, спаси меня, спаси,
Коль я тебе всегда была послушной!
Ты, Господи, чей образ на земле
Есть лик отца, и Ты меня покинул?
А! Он идет! Я вижу. Дверь открыта.
Он хмурится на всех, и только мне
Смеется, улыбается, как ночью.
(Входит слуга.)
О, Господи, благодарю Тебя,
Ты милосерд. Слуга Орсино это.
Что нового?
Слуга
Меня сюда послал
Мой господин; Святой отец обратно
Ходатайство вернул, не распечатав.
(Отдает бумагу.)
Мой господин еще велел спросить,
В каком часу он может без помехи
Прийти опять?
Лукреция
Мы ждем к Ave Maria.
(Слуга уходит.)
Так, дочь моя. Последняя надежда
Нам изменила. Боже, что с тобой?
Как ты бледна! Ты вся дрожишь, о чем-то
Задумалась так страшно и глубоко.
Как будто ты не можешь совладать
С какой-то мыслью: взор твой полон блеска
Холодного. О милое дитя.
Ответь мне, если можешь! Ты лишилась
Рассудка? О, скажи мне!
Беатриче
Нет, ты видишь,
Я говорю. Я не сошла с ума.
Лукреция
Что сделал твой отец сегодня ночью,
Что после пира страшного он мог
Еще страшнее сделать? Как ужасно
Воскликнул он: "Их больше нет в живых!"
И каждый посмотрел в лицо соседа,
Чтоб видеть, так ли бледен он, как все.
Как только слово первое сказал он,
Вся кровь мне к сердцу хлынула, и я
Лишилась чувств; когда ж опять очнулась,
Кругом все были ужасом объяты,
И только ты, бесстрашная, стояла
И речью укоризненною в нем
Смирила необузданную гордость.
Я видела, как демон, в нем живущий,
Затрепетал. И ты всегда была
Меж нами и отцом твоим жестоким
Единственной посредницей: в тебе
Мы находили верную защиту,
Прибежище. Что ж так могло теперь
Тебя поработить? Откуда этот
Печальный взгляд, сменивший твой испуг?
Беатриче
О мать моя, что хочешь ты сказать мне?
Я думала, что лучше, может быть,
С несчастьем не бороться. Были люди,
Такие же, как мой отец, грешили
И совершали страшные дела,
Но никогда... О, прежде чем случится
То, худшее, не лучше ль умереть!
Со смертью все кончается.
Лукреция
Не надо
Так говорить, о милое дитя!
Скажи мне лучше, что отец твой сделал,
Что он сказал тебе? Ведь после пира
Проклятого он в комнату твою
Не заходил. Скажи.
Бернардо
Сестра, сестра,
Ответь нам, умоляю.
Беатриче
(говоря очень медленно с насильственным спокойствием)
Это было
Одно лишь слово, мать моя, так, слово;
Один лишь взгляд, одна улыбка.
(Дико.)
А!
А! Он не раз меня топтал ногами, -
И по щекам моим струилась кровь,
Давал нам пить гнилую воду, мясо
Больных быков давал нам есть, со смехом,
И говорил, чтоб ели мы, и пили.
Не то умрем, - и ели мы и пили.
Он силой заставлял меня глядеть,
Как на руках у милого Бернардо,
От ржавых, крепко стянутых цепей
Росли и до костей врастали язвы.
Я никогда себе не позволяла
Отчаянью предаться - но теперь!
Что я сказать хотела?
(Овладевая собою.)
Нет, не то,
Все это ничего. Страданья наши
Меня лишили разума. Он только
Меня ударил, мимо проходя,
Он мне послал какое-то проклятье,
Он посмотрел, он мне сказал, он сделал -
Все то же, что всегда, - но я смутилась
Сильней обыкновенного. Увы!
Обязанность свою я позабыла,
Я ради вас спокойной быть должна.
Лукреция
Молю, не падай духом, Беатриче,
Уж если кто отчаяться бы должен,
Так это я: когда-то я его
Любила, и теперь должна с ним жить,
Пока Господь не сжалится над нами
И отзовет его или меня.
А пред тобой замужество, улыбки;
Пройдут года, и на твоих коленях
Усядутся смеющиеся дети,
И я, тогда уж мертвая, и все,
Что пережили мы, весь ужас пыток,
Сковавший нас мучительным кольцом,
Перед тобой предстанет сном далеким.
Беатриче
Не говори о муже, о семье!
Когда скончалась мать моя, не ты ли
Была заменой ей? Не ты ль была
Защитой мне и этому ребенку?
Мой милый брат, как я его люблю!
И кто нам в детстве был заветным другом,
Кто ласками и кротостью своей
Склонил отца, чтоб нас не убивал он?
И мне тебя покинуть! Пусть душа
Моей умершей матери восстанет
И будет мстить моей душе, когда я
Покину ту, кто выказал любовь
Сильней любви и ласки материнской!
Бернардо
И я во всем с моей сестрой согласен!
В такой беде нам нужно быть с тобой.
И если б даже Папа разрешил мне
Свободно жить средь солнечных лучей,
На воздухе, питаться нежной пищей,
Играть с другими, тех же лет, как я,
Тебя я не покинул бы, родная!
Лукреция
О дети, дети милые мои!
(Входит Ченчи внезапно.)
Ченчи
Как, Беатриче здесь! Поди сюда!
(Она отступает и закрывает лицо руками.)
Нет, нет! Не прячь лицо. Оно прекрасно!
Смотри смелей! Ведь ты вчера смотрела
Так дерзко и упрямо на меня,
Стараясь разгадать суровым взглядом,
Что я хотел сказать, меж тем как я
Старался скрыть намеренье - напрасно.
Беатриче
(шатаясь, в безумном смущении направляется к двери)
О Господи, сокрой меня! Земля,
Раскройся предо мной!
Ченчи
Тогда не ты,
Я говорил бессвязными словами,
Дрожащими шагами я старался
От твоего присутствия бежать,
Как ты теперь бежишь отсюда. Стой же,
Стой, говорят тебе, и знай: отныне,
От этого решительного часа,
Бесстрашным взглядом, видом превосходства
И этими прекрасными губами,
Что созданы природою самой,
Чтоб целовать иль выражать презренье,
Всем этим, говорю я, никогда уж
Не сможешь ты заставить замолчать
Последнего среди людей, тем меньше
Меня. Ступай теперь отсюда прочь!
(К Бернардо.)
И ты еще, двойник противно-мерзкий
Твоей проклятой матери, с лицом
Молочно-белым, мягким, - прочь отсюда!
(Беатриче и Бернардо уходят.)
(В сторону.)
Так много уже было между нами,
Что я могу быть смелым, а она
Должна бояться. Страшно прикоснуться
К задуманному мною злодеянью;
Так человек на влажном берегу
Дрожит и воду пробует ногами,
Раз там, - какой восторг, какая нега!
Лукреция
(боязливо приближаясь к нему)
Супруг мой, не сердись на Беатриче,
Дурного в мыслях не было у ней.
Ченчи
Как не было и у тебя, быть может?
Как не было у этого чертенка,
Которого ты азбуке учила,
Читая по складам - отцеубийство?
Джакомо также, верно, не хотел
Дурного ничего, равно как эти
Два выродка, поссорившие Папу
Со мною, - слава Богу, Он прибрал их
Одновременно. Агнцы! Ничего
Дурного нет в их мыслях! Значит, вы
Здесь не вступали и заговор, не так ли?
О том вы ничего не говорили,
Чтоб в сумасшедший дом меня упрятать?
Или судом преследовать меня,
Добиться смертной казни? Если ж это
Не выгорит, - тогда нанять убийц
Иль всыпать яд в мое питье ночное?
Иль задушить, когда упьюсь вином?
Ведь нет судьи иного, кроме Бога,
А Он меня давно приговорил,
И, кроме вас, здесь на земле, кому же
Исполнить этот смертный приговор,
Внесенный в списки в Небе?
Лукреция
Видит Бог,
Я никогда не думала об этом!
Ченчи
Коль ты вторично так солжешь, тебя я
Убью. Не ты велела Беатриче
Испортить пир вчерашний? Ты хотела
Поднять моих врагов и убежать,
Чтоб досыта над тем поиздеваться,
Пред чем теперь твой каждый нерв дрожит!
Не так-то люди смелы: промахнулась.
Немногие безумцы захотят
Встать между мной и собственной могилой.
Лукреция
Клянусь тебе, - о, не смотри так страшно!
Клянусь моим спасеньем, - ничего
Не знала я о планах Беатриче,
И думаю, что даже у нее
Их не было, пока не услыхала
Она о смерти братьев.
Ченчи
Снова лжешь
И в ад пойдешь за это богохульство!
Но я вас всех возьму с собой туда,
Где вам придется к каменному полу
Припасть, прося, чтоб он освободил вас.
Там нет ни одного, кто б не решился
На все, - на все, что я ни прикажу.
Я выезжаю в эту среду. Знаешь
Тот мрачный замок на скале, Петреллу?
Он славно укреплен, окопан рвами,
Подземными темницами снабжен,
И каменные стены плотных башен
Не выдали ни разу тайн своих
И людям ничего не говорили,
Хоть видели и слышали такое,
Что мертвый камень мог заговорить.
Чего ж ты ждешь? Иди скорей, сбирайся,
Чтоб не было задержек у меня!
(Лукреция уходит.)
Еще горит всевидящее солнце,
И шум людской на улицах не смолк;
В окно глядит светящееся небо.
Назойливый, широкий, яркий день;
Он смотрит подозрительно, он полон
Ушей и глаз; и в каждом уголке,
И в каждой чуть заметной тонкой щели
Стоит и не уходит наглый свет.
Приди же, тьма! - Но что мне день, когда я
Задумал совершить такое дело,
Которое смутит и день, и ночь.
О да, не я - она пойдет на ощупь
В слепом тумане ужаса: и если
Взойдет на небо солнце, - не дерзнет
Она взглянуть на свет и не услышит
Тепла его лучей. Так пусть она
Желает темной ночи; для меня же
Деяние мое погасит все:
В себе ношу я мрак страшней, мертвее,
Чем тень земли, чем междулунный воздух,
Чем звезды, потонувшие во мгле
Мрачнейшей тучи; в этой бездне черной
Незримо и спокойно я иду
К намеченной и неотступной цели.
О, только бы скорей достичь ее!
(Уходит.)
12. СЦЕНА ВТОРАЯ
Комната в Ватикане. Входят Камилло и Джакомо, разговаривая.
Камилло
Да, есть такой закон, - недостоверный,
Совсем забытый; если вы хотите,
Он вам доставит пищу и одежду,
В размерах скудных...
Джакомо
Это все? Увы,
Я знаю, скудно будет содержанье,
Которое прикажет мне давать
Расчетливый закон, платить же станет
Косящаяся пасмурная скупость.
Зачем отец не научил меня
Хоть одному из тех ремесел, в которых
Нашел бы я свой хлеб дневной, не зная
Потребностей моих высокородных?
Да, старший сын в любом хорошем доме -
Наследник неспособностей отца.
Желаний много, их насытить - нечем.
Скажите, кардинал, когда б внезапно
Вас кто-нибудь лишил тройных перин,
Шести дворцов, и сотни слуг, и пищи
Изысканной, - и если б вас к тому лишь,
Что требует природа, низвели?
Камилло
Кто говорит, мне было б очень трудно;
Есть правда в ваших доводах.
Джакомо
Так трудно,
Что только очень твердый человек
Способен это вынести. Притом же
Я не один, со мной моя жена.
Она привыкла к роскоши и неге,
В несчастный час приданое ее
Я дал взаймы отцу, не взяв расписки,
И не было свидетелей при этом.
Приходится отказывать и детям
Решительно во всем, а между тем
Они, как мать их, любят жить в довольстве.
И я от них упреков не слыхал.
Скажите, кардинал, быть может Папа
Захочет нам помочь и оказать
Влиянье свыше точных слов закона?
Камилло
Хоть случай ваш особенный, - я знаю,
Что Папа не захочет отступить
От буквы непреложного закона.
С Святейшеством его я говорил
О том, как пир устроен был безбожный,
О том, что надо чем-нибудь сдержать
Такой жестокий гнет руки отцовской;
Но он нахмурил брови и сказал:
"Всегда и всюду дети непослушны,
Изранить, до безумья довести
Родительское сердце - что им в этом!
Они всегда презреньем буйным платят
За долгий ряд отеческих забот.
Всем сердцем я жалею графа Ченчи:
Он, верно, оскорблен был очень горько
В своей любви, и вот теперь он мстит,
И ненависть - любви его замена.
В великой и кощунственной войне
Меж молодым и старым я, который
Сединами украшен, телом дряхл,
Хочу, по меньшей мере, быть нейтральным"
(Входит Орсино.)
Вы были там, Орсино, подтвердите
Его слова.
Орсино
Слова? Какие?
Джакомо
Нет,
Прошу не повторяйте их. Довольно.
Так, значит, нет защиты для меня, -
Нет, кроме той, которую найду я
В себе самом, уж раз меня пригнали
На край обрыва. Но еще скажите,
Невинная сестра моя и брат
Доведены до крайности и гибнут
В руках у бессердечного отца.
Я знаю, летописные страницы
Италии укажут имена
Мучителей известных, Галеаццо,
Висконти, Эццелино, Борджиа.
Но никогда своих рабов последних
Так не терзали эти палачи,
Как собственных детей терзает Ченчи.
Что ж, им, как мне, защиты нет?
Камилло
Зачем же, -
Пусть подадут они прошенье Папе,
Я думаю, что он им не откажет;
Но он не хочет только ослаблять
Отеческую власть, он видит в этом
Пример опасный, так как власть отца
Есть как бы тень его верховной власти.
Прошу вас извинить меня. Я занят,
И дело неотложное.
(Уходит.)
Джакомо
Но вы,
Орсино, - для чего ж вы задержали
Ходатайство?
Орсино
Я представлял его,
Сопровождая просьбами, мольбами,
Он даже не ответил на него.
Я думаю, что ужас злодеяний,
Описанных в прошении (и правда,
Кто мог бы в них поверить), перенес
Весь гнев его Святейшества с злодея
На тех, кто был страдательным лицом.
Так разумею я из слов Камилло.
Джакомо
О друг мой, этот дьявол, что блуждает
Во всех дворцах и носит имя - деньги,
Молчанье нашептал Отцу Святому.
Что ж нам осталось? Быть как скорпион,
Когда он сжат огнем кольцеобразным,
Убить себя? Ведь тот, кто наш мучитель,
Прикрыт священным именем отца, -
А то бы...
(Резко умолкает.)
Орсино
Что ж ты смолк? Скажи, не бойся.
Понятье - только звук, когда оно
Не совпадает с точным содержаньем.
Когда служитель Бога вероломно
Со словом Бог соединяет ложь, -
Когда судья неправым приговором
Невинность заставляет трепетать, -
Когда хитрец, надев личину друга,
Как если б я теперь хитрил с тобой,
Дает советы с тайной личной целью -
И, наконец, когда свирепый деспот
Скрывается под именем отца, -
Из этих каждый только осквернитель
Того, чем быть он должен.
Джакомо
Не могу я
Сказать тебе, чт_о_ в мыслях у меня.
Наш ум готов нередко против воли
Измыслить то, чего он не хотел бы;
Воображенью нашему нередко
Мы доверяем ужасы, которых
Вложить в слова не смеем; взор души,
На них взглянув, смущается и слепнет.
Я слышу в сердце ропот возмущенья,
В ответ на мысль, встающую в уме.
Орсино
Но сердце друга то же, что заветный
Укромный угол нашей же души,
Где скрыты мы от светлых взоров полдня
И воздуха, что может все предать.
В твоих глазах читаю я догадку,
Мелькнувшую во мне.
Джакомо
О, пощади!
Вокруг меня как будто лес полночный,
И я, ступая в нем, спросить не смею
Невинного прохожего, как выйти, -
Боюсь, что он, как помыслы мои,
Окажется убийцею. Я знаю,
Что ты мой друг, и все, что я посмею
Сказать моей душе, скажу тебе,
Но только не сейчас. Теперь хочу я
Побыть один во тьме забот бессонных.
Прости, не говорю тебе приветствий,
Не в силах я сказать тебе: "Всего
Хорошего", - чт_о_ я сказать хотел бы
Своей душе, измученной и темной,
Где встало подозрение.
Орсино
Всего
Хорошего! Будь чище иль смелее!
(Джакомо уходит.)
Я убедил Камилло поддержать
Чуть-чуть его надежды. Так и вышло.
С моим сокрытым планом совпадает
Одна черта, замеченная мною
У всех, принадлежащих к их семье:
Они всегда подробно рассекают
Свой дух и дух других, и эта склонность
Быть собственным анатомом - всегда
Опасным тайнам волю научает;
Она, как искуситель, завлекает
Способности души в глухую пропасть
Намерений, давая нам понять,
Что можем мы задумать, можем сделать:
Так Ченчи рухнул в яму; так и я:
С тех пор как Беатриче мне открылась
И мне пришлось постыдно отступить
Пред тем, чего не жаждать не могу я, -
Я представляю жалкую фигуру
Пред собственным судом своим, с которым
Теперь я начинаю примиряться.
Я сделаю возможно меньше зла:
Пусть этой мыслью несколько смягчится
Мой обвинитель - совесть.
(После паузы.)
И потом,
Что тут дурного, если Ченчи будет
Убит, - и если будет он убит,
Зачем же буду я орудьем смерти!
Не лучше ль мне всю выгоду извлечь
Из этого убийства, предоставив
Другим опасность, связанную с ним.
И черный грех? Из всех земных созданий
Я только одного боюсь: того,
Чей меткий нож быстрее слов. И Ченчи
Как раз такой: пока он жив, священник,
Дерзнувший обвенчаться с Беатриче,
Найдет в ее приданом скрытый гроб.
О сладостная греза, Беатриче!
Когда бы мог тебя я не любить!
Иль, полюбив, когда бы мог презреть я
Опасности, и золото, и все,
Что хмурою угрозой возникает
Меж вспыхнувшим желанием и целью
И дразнит за пределами желанья,
Заманчиво смеясь! Исхода нет.
Немая тень ее со мною рядом
Склоняется, молясь, пред алтарем,
Преследует меня, когда иду я
На торжища людские, наполняет
Мой сон толпой мятущихся видений,
И я, проснувшись, чувствую, дрожа,
Что в жилах у меня не кровь, а пламя:
Когда рукой горячей я коснусь
До головы, исполненной тумана,
Моя рука и жжет ее, и ранит;
И если кто-нибудь передо мной
В обычной речи скажет "Беатриче",
Я весь дрожу, горю и задыхаюсь;
И так бесплодно мыслью обнимаю
Виденье неиспытанных восторгов,
Пока воображение мое
Не изнеможет так, что от желанья
Наполовину сладко обладает
Самим же им воссозданною тенью.
Но больше не хочу и наполнять
Свой жадный дух бессонными часами.
В разгаданных сомнениях Джакомо -
Опора сладких замыслов моих,
На них они возникнут дерзновенно:
Как с башни, вижу я конец всего.
Ее отец погиб; меж мной и братом
Глухая тайна, верная, как гроб;
У матери в душе испуг безмолвный
И, чуждая упреков, мысль о том,
Что страшно так мечта ее свершилась.
И наконец, она! Смелее, сердце!
Смелей! Что может значить пред тобою
Неопытность девической души,
Во всем пустынном мире одинокой.
Есть нечто, что дает мне все предвидеть
И служит мне порукой за успех.
Когда подходит страшное, - какой-то
Незримый демон в сердце у людей
Взметает мысли черные, и вечно
Не тот преуспевает, кто для злого
Становится орудием, а тот,
Кто льстить умеет духу преисподней,
Пока его не сделает рабом,
И сможет захватить его владенья,
С добычей человеческих сердец,
Как это я теперь сумею сделать.
13. ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
14. СЦЕНА ПЕРВАЯ
Комната в палаццо Ченчи. Лукреция, за ней входит Беатриче.
Беатриче
(входит, шатаясь, и говорит бессвязно)
Скорее дай платок мне! Мозг мой ранен;
Глаза налились кровью; вытри их -
Я вижу все неясно.
Лукреция
Беатриче,
Дитя мое, нет раны у тебя,
Холодный пот росой с чела струится.
Увы! Увы! Скажи мне, что с тобою?
Беатриче
Как? Волосы распущены? Зачем?
Так это я от них совсем ослепла -
Но я ведь заплетала их. - О, ужас!
Колеблется земля, вот-вот, раскрылась!
И стены зашатались. Вон, я вижу,
Там женщина рыдает; неподвижно,
Спокойно, далеко стоит она,
А я с землею в бездну упадаю.
О Боже! Свод небес запачкан кровью.
Лучи дневные черны. Светлый воздух
Внезапно превратился в те пары,
Которыми в могилах трупы дышат!
А! Задыхаюсь! Вкруг меня ползет,
Цепляется туман - заразой черной
Он входит в душу, плотный и тяжелый,
Я не могу сорвать его с себя,
Он липнет, - вот склеились пальцы, члены,
Он жилы разъедает, он меня
Наполнил ядом, грязным разложеньем,
Источник самой жизни осквернил!
О Господи! Я до сих пор не знала,
Что чувствуют безумные. Конечно!
Конечно, я с ума сошла!
(Более дико.)
Но нет!
Я умерла! Гнилые эти члены
Скрывают душу, рвущуюся к свету,
Ее в могиле держат!
(Пауза.)
Надо вспомнить...
Какая мысль ужасная была
Сейчас в моей душе? Ушла... Уходит...
Но гнет ее, как прежде, остается
В глазах потухших - в сердце утомленном!
О мир! О жизнь! О день! О, горе мне!
Лукреция
Дитя мое, о чем ты так скорбишь?
Она молчит: она душою помнит
Страдание, но не его причину,
Источник мук от горьких мук иссяк.
Беатриче
(в исступлении)
Отцеубийца - да, несчастье быть
Отцеубийцей; знаю - да - но, Боже!
Его отец был не такой, как мой.
Нет, никогда! - О Боже, что со мною?
Лукреция
Дитя мое, что сделал твой отец?
Беатриче
(подозрительно)
Ты кто, чтоб так выспрашивать? Не знаешь:
У Беатриче нет отца.
(В сторону.)
Она
Приставлена смотреть за мной. Сиделка
В больнице для лишившихся рассудка!
Печальная обязанность!
(К Лукреции тихо и медленно.)
Ты знаешь,
Мне странно так почудилось, что я -
Та, жалкая, чье имя - Беатриче;
О ней так много люди говорят;
Ее отец, схватив ее за пряди
Распущенных волос, таскал ее
По комнатам, - из комнаты в другую:
А то нагую в погреб запирал,
Где ползали чешуйчатые черви,
В зловонной яме голодом морил,
Пока она, измучившись, не ела
Какое-то причудливое мясо.
Печальное предание о ней
Так часто я в уме перебирала,
Что мною овладел кошмар ужасный,
И я себе представила... О, нет!
Не может быть! В безбрежном этом мире
Есть много ужасающих видений,
Смешений поразительных, слиянья
Добра и зла в чудовищных чертах,
И худшее порой в умах вставало,
Чем сделано могло быть худшим сердцем.
Но никогда ничье воображенье
Не смело...
(Останавливается, внезапно приходя в себя.)
Кто ты? Дай скорее клятву, -
Не то от ожиданья я умру, -
Клянись, что ты совсем не та, какою
Ты кажешься... О мать моя!
Лукреция
Дитя
Родное, ты ведь знаешь...
Беатриче
Нет, не нужно!
Не говори, мне страшно, потому что,
Когда ты скажешь правду, и другое
Должно быть правдой, - правдой навсегда,
Непобедимо-точной и упорной,
Соединенной связью неразрывной
Со всем, что в этой жизни быть должно
И не пройдет, останется навеки.
Да, так и есть. Я здесь, в Палаццо Ченчи.
Тебя зовут Лукреция. А я
Была и вечно буду Беатриче.
Я что-то говорила, так бессвязно,
Безумное. Но я не буду больше.
Поди ко мне. О мать моя, отныне
Я стала...
(Ее голос, слабея, замирает.)
Лукреция
Что с тобою, дочь моя,
Родная? Расскажи мне, что же сделал
Отец твой?
Беатриче
Что я сделала? Ведь я
Невинна? Разве это преступленье
Мое, что он, сединами покрытый, -
И с властным видом, - мучивший меня
От детских лет, уже забытых мною,
Как мучают родители одни,
Зовет себя моим отцом, - и должен
Им быть... О; как же мне назвать себя!
Какое дать мне имя, память, место?
Какой прощальный крик о мне напомнит,
Чтоб пережить отчаянье мое?
Лукреция
Дитя мое, я знаю, он ужасен,
Нас может только смерть освободить
От пытки этих страшных притеснений:
Смерть деспота иль наша. Но скажи мне,
Какое оскорбление, страшнее
Всего, что было, мог он нанести?
Чем мог тебе он причинить обиду?
Ты больше не похожа на себя,
В твоих глазах мелькает выраженье,
Так страшно-непривычное. Зачем
Ты смотришь так? Зачем ломаешь пальцы
Так судорожно сжатых бледных рук?
Беатриче
В них бьется жизнь, которой нет исхода.
Должно случиться что-нибудь, - не знаю,
Что именно, но что-нибудь такое,
Чтоб мой позор был только бледной тенью,
В смертельной вспышке мстительных огней,
Громовых, быстрых, грозных, непреложных
И губящих последствие того,
Что больше быть исправлено не может.
Должно случиться что-нибудь такое,
И я тогда навеки успокоюсь
И стихну, не заботясь ни о чем.
Но что теперь мне делать? Кровь моя,
Мятущаяся в жилах оскорбленных,
Кровь не моя, а моего отца,
Когда б, струями хлынувши на землю,
Могла ты смыть мучительный позор,
Изгладить преступленье... Невозможно!
У многих, так замученных страданьем,
Возникло бы сомненье, есть ли Бог,
Они сказали б: "Нет, Господь не мог бы
Дозволить зло" - и умерли б легко;
Во мне мученья веры не погасят.
Лукреция
С тобою что-то страшное случилось,
Но что - не смею даже угадать.
О дочь моя несчастная, не прячь же
Своих страданий в скорби неприступной.
Откройся.
Беатриче
Я не прячу ничего.
Но где возьму я слов для выраженья
Того, что я в слова вложить не в силах?
В моей душе нет образа - того,
Что сделало меня навек другою:
В моей душе есть только мысль о том,
Что я - как труп, восставший из могилы,
Закутанный, как в саван гробовой,
В бесформенный и безымянный ужас.
Какие же слова должна я выбрать
Из тех, что служат смертным для бесед?
Нет слова, чтоб сказать мое мученье.
Когда б другая женщина узнала
Хоть что-нибудь подобное, она
Скорей бы умерла, как я умру,
Но только бы оставила свой ужас
Без имени, что сделаю и я.
Смерть! Смерть! И наш закон, и наша вера
Зовут тебя наградою и карой!
Чего из двух заслуживаю я?
Лукреция
Спокойствия невинности и мира,
Пока в свой час не будешь позвана
На небо. Что б с тобою ни случилось,
Ты не могла дурного сделать. Смерть
Должна быть страшной карой преступленья
Иль сладостной наградою для тех,
Кто шел по тернам, брошенным от Бога,
На путь, что нас к бессмертию ведет.
Беатриче
Смерть - кара преступления. О Боже,
Не дай мне быть введенной в заблужденье,
Когда сужу. Так жить день изо дня
И сохранять вот эти члены, тело,
Храм, недостойный Духа Твоего,
Как грязную берлогу, из которой
То, чем Твой Дух гнушается, начнет
Глядеть, как зверь, смеяться над Тобою, -
Нет, этому не быть. Самоубийство -
В нем тоже нет исхода: Твой запрет,
О Господи, как грозный Ад зияет
Меж ним и нашей волей. В этом мире
Нет мести надлежащей, нет закона,
Чтоб, осудив, исполнить приговор
Над тем, чрез что терплю я эти пытки.
(Входит Орсино, она приближается к нему с торжественностью.)
Мой друг, я вам должна сказать одно:
Со времени последней нашей встречи
Со мной случилась горькая беда,
Такая безысходная, несчастье,
Такое необычное, что мне
Ни жизнь, ни смерть не могут дать покоя.
Не спрашивайте, что со мной случилось:
Есть муки, слишком страшные для слов,
Есть пытки, для которых нет названья.
Орсино
Кто вам нанес такое оскорбленье?
Беатриче
Он носит имя страшное: отец.
Орсино
Не может быть...
Беатриче
Не может или может,
Об этом думать лишнее теперь.
Случилось, есть, боюсь, что будет снова,
Скажи мне, как избегнуть. Я хотела
Искать спасенья в смерти, - невозможно;
Мешает мысль о том, что ждет за гробом,
И мысль, что даже смерть сама не будет
Прибежищем от страшного сознанья
Того, что не искуплено. Ответь же,
Что делать?
Орсино
Обвини его! Закон
Отмстит за оскорбленье.
Беатриче
Горе мне!
Совет твой дышит холодом. Когда бы
Могла найти я слово, чтоб отметить
Преступное деяние того,
Кто был мне палачом; когда б решилась
Я этим словом вырвать, как ножом,
Из сердца тайну, служащую язвой
Для лучшей части сердца моего;
Когда б я все разоблачила, сделав
Из славы незапятнанной моей
Истасканный рассказ подлейших сплетниц,
Насмешку, бранный возглас, поговорку;
Когда бы все, что сделано не будет,
Я сделала, - подумай же о том,
Как силен золотой мешок злодея,
Как ненависть его страшна, как странен
Весь необычный ужас обвиненья,
Смеющийся над самым вероятьем
И чуждый человеческим словам, -
Едва встающий в шепоте трусливом,
В намеках омерзительных... О да,
Поистине прекрасная защита!
Орсино
Что ж, будешь ты терпеть?
Беатриче
Терпеть! Орсино,
В советах ваших очень мало прока.
(Отворачивается от него и говорит как бы сама с собою.)
Да, все должно быть решено мгновенно,
Исполнено мгновенно. Предо мной
Встают неразличимые туманы, -
Чт_о_ там за мысли черные растут?
За тенью тень, одна темнит другую!
Орсино
Ужели оскорбитель будет жить?
Торжествовать в позорном злодеянье?
И силою привычки повседневной
Заставит преступление свое
Соделаться твоей второй природой,
Пока не станешь ты совсем погибшей
И всей душой воспримешь дух того.
Что ты допустишь?
Беатриче (к самой себе)
Царственная смерть!
Ты, тень с двойным лицом! Судья единый!
Произноситель правых приговоров!
(Отходит в сторону, погруженная в свои мысли.)
Лукреция
О, если Божий гнев когда-нибудь,
Как гром, сходил отмстить...
Орсино
Не богохульствуй!
Святое Провиденье поручает
Земле Свою немеркнущую славу,
И беды, что нисходят на людей,
Оно дает сполна в людские руки:
Когда же преступленье наказать
Они не поспешают...
Лукреция
Что же делать,
Когда злодей, как наш палач, смеется
Над обществом, над властью, над законом,
Найдя закон в кармане у себя?
Когда нельзя воззвать к тому, что может
Заставить самых падших трепетать?
Когда несчастья, чуждые природе,
Так странны и чудовищны, что даже
Им верить невозможно? Боже мой!
Что делать, если те как раз причины,
В которых бы для нас должна возникнуть
Мгновенная и верная защита,
Преступнику дают торжествовать?
А мы несем - мы - жертвы! - наказанье
Сильней, чем понесет мучитель наш?
Орсино
Пойми: возмездье - там, где - оскорбленье,
Пойми, и в нас довольно будет силы,
Чтоб смыть позор.
Лукреция
Когда б могли мы знать,
Что мы отыщем верную дорогу,
Какую - я не знаю... Хорошо бы...
Орсино
То, чем он Беатриче оскорбил, -
Хоть это я угадываю смутно, -
Раскаяние делает бесчестьем,
Как долг, ей оставляет лишь одно -
Отмстить, найти дорогу к быстрой мести;
Вам - лишь один исход из этих бедствий;
Мне - лишь один совет...
Лукреция
Нам нет надежды,
Что помощь, воздаянье или суд
Найдем мы там, где с меньшею нуждою
Нашел бы их любой.
(Беатриче приближается.)
Орсино
Итак...
Беатриче
Орсино,
Прошу, ни слова, мать моя, ни слова,
Пока я говорю, откиньте прочь,
Как старые лохмотья, уваженье,
Раскаянье, и сдержанность, и страх,
Все узы повседневности, что с детства
Служили мне одеждой, а теперь
Явились бы злорадною помехой
Для высшего стремленья моего.
Как я сказала вам, со мной случилось
То, что должно остаться без названья,
Но что взывает голосом глухим
К возмездию. Возмездия за то,
Что было, и за то, что может снова
День ото дня позор нагромождать
В моей душе, грехом обремененной,
Пока она, окутанная тьмой,
Не станет тем, что даже вам не снится.
Молилась Богу я. Я говорила
С моей душой, и спутанную волю
Распутать удалось мне, наконец,
И знаю я, чт_о_ право, чт_о_ не право,
Ты друг мне или нет, скажи, Орсино?
Неверный или верный? Поклянись
Твоим спасеньем!
Орсино
Я клянусь - отныне
Отдать тебе, чем только я владею,
Мое уменье, силы и молчанье.
Лукреция
Вы думаете - мы должны найти
Возможность умертвить его?
Беатриче
И тотчас,
Найдя возможность, выполнить ее.
Быть смелыми и быстрыми.
Орсино
Равно
И крайне осторожными.
Лукреция
Законы,
Узнав, что мы виновники убийства,
Накажут нас бесчестием и смертью
За то, что сами сделать бы должны.
Беатриче
Пусть будем осторожными, но только
Скорей, скорей. Орсино, как нам быть?
Орсино
Я знаю двух свирепых отщепенцев,
Для них, что человек, что червь - одно.
Равны для них и честный и бесчестный,
По самому ничтожному предлогу
Они готовы каждого убить.
Таких людей здесь, в Риме, покупают.
Они нам нужны - что ж, - мы купим их.
Лукреция
Но завтра пред зарею Ченчи хочет
Нас увезти к пустынному утесу
Петрелла в Апулийских Аппенинах.
И если только он туда придет...
Беатриче
Туда приехать он не должен.
Орсино
Башни
Достигнете вы засветло?
Лукреция
Как раз,
Когда заходит солнце.
Беатриче
Там, я помню,
От вала крепостного милях в двух
Идет дорога рытвиной глубокой,
Она узка, обрывиста и вьется
По склону вниз, где в пропасти глухой
Висит скала могучая - свидетель
Времен давно прошедших - между стен
Той пропасти она в провал склонилась
И, кажется, вот-вот сорвется вниз,
И в ужасе цепляется за стены,
И в страхе подается ниже, ниже.
Так падшая душа, день ото дня,
Цепляется за тьму оплотом жизни,
Цепляясь, подается и, склоняясь,
Еще темнее делает ту бездну,
Куда упасть боится. Под скалой
Гигантская, как тьма и безутешность,
Зияет снизу мрачная гора,
Гремит поток, невидимый, но слышный,
Свирепствует среди пещер, - и мост
Пересекает узкую теснину:
А сверху, высоко, свои стволы
С утесов на утесы перекинув,
Толпой темнеют кедры, тисы, ели;
Их ветви сплетены в один ковер
Плющом темно-зеленым. В яркий полдень
Там сумерки, с закатом солнца - ночь.
Орсино
Пред тем как к мосту этому приехать,
Старайтесь как-нибудь замедлить путь.
Старайтесь, чтобы мулы...
Беатриче
Тсс! Идут!
Лукреция
Кто б это был? Слуга идти так быстро
Не мог бы. Верно, Ченчи возвратился
Скорей, чем думал. Нужно чем-нибудь
Присутствие Орсино извинить.
Беатриче
(к Орсино, выходя)
Шаги, что приближаются так быстро,
Пусть завтра не пройдут чрез этот мост.
(Лукреция и Беатриче уходят.)
Орсино
Что делать мне? Сейчас увижу Ченчи
И должен буду вынести, как пытку,
Его непобедимо-властный взор.
Он взглядом инквизиторским допросит,
Зачем я здесь. Так скрою же смущенье
Улыбкой незначительной.
(Вбегает Джакомо торопливо.)
Как? Вы?
Сюда войти решились вы? Должно быть,
Известно вам, что Ченчи дома нет!
Джакомо
Я именно его хочу увидеть
И буду ждать, пока он не придет.
Орсино
И вы опасность взвесили?
Джакомо
Он взвесил
Свою опасность? С этих пор мы с ним
Уж больше не отец и сын, а просто
Два человека: жертва и палач;
Позорный клеветник и тот, чье имя
Осквернено позорной клеветою;
Враг против ненавистного врага;
Ему щитом была сама Природа,
Над ней он насмеялся, и теперь
Он выбросок перед лицом Природы,
А я смеюсь над нею и над ним.
Отцовская ли это будет глотка,
Которую схвачу я и скажу:
"Я денег не прошу, и мне не надо
Счастливых лет, похищенных тобой;
Ни сладостных воспоминаний детства;
Ни мирного родного очага;
Хоть все это украдено тобою,
И многое другое; - имя, имя
Отдай мне, - то единственный был клад,
Который я считал навек сохранным
При нищете, дарованной тобой, -
Отдай мне незапятнанное имя,
Не то..." -
Господь поймет. Господь простит.
Зачем с тобой я говорю об этом?
Орсино
О друг мой, успокойся.
Джакомо
Хорошо.
Я расскажу спокойно все, как было.
Я раньше говорил тебе, что этот
Старик Франческо Ченчи взял однажды
Приданое жены моей взаймы;
Взяв деньги без расписки, он отрекся
От займа и обрек меня на бедность;
Я нищету свою хотел поправить,
Хоть скудную отыскивая должность.
И мне была обещана такая;
Уже купил я новую одежду
Моим несчастным детям, оборванцам,
Уж видел я улыбку на лице
Моей жены, и сердце примирилось, -
Как вдруг я узнаю, что эта должность,
Благодаря вмешательству отца,
Передана какому-то мерзавцу,
Которому за подлые услуги
Такой услугой Ченчи заплатил.
С печальными вестями я вернулся
К себе домой, и мы с женой сидели,
Уныние стараясь победить
Слезами дружбы, ласковостью верной,
Что та же - в самой тягостной беде;
Внезапно входит он, мой истязатель,
Как он имел привычку это делать,
Чтоб нас осыпать целым градом низких
Упреков и проклятий, насмехаясь
Над нашей нищетой и говоря
Что в этом - Божий гнев на непослушных.
Тогда, чтоб он хоть чем-нибудь смутился,
Чтоб он умолк, - сказал я о приданом
Моей жены. Но что же сделал он?
В одну минуту сказку рассказал он,
Весьма правдоподобную, о том,
Что я ее приданое растратил
Средь тайных оргий: тотчас увидав,
Что он сумел мою жену затронуть,
Он прочь пошел, с улыбкой. Я не мог
Не видеть, что жена с презреньем тайным
Внимает страстным доводам моим,
Что смотрит с недоверием, враждебно,
И тоже прочь пошел; потом вернулся,
Почти сейчас, но все же слишком поздно, -
Она успела детям передать
Все жесткие слова, все мысли злые,
Возникшие в душе ее, - и вот
Услышал я: "Отец, давай нам платья,
Давай нам лучшей пищи. Ты ведь за ночь
Истратишь столько, сколько нам хватило б
На месяцы!" И я увидел ясно,
Что мой очаг стал адом, - и вернусь я
В тот ад кромешный разве лишь тогда,
Когда мой подлый враг вину загладит, -
Иначе, как он дал мне жизнь, так я,
Презрев запрет, наложенный природой...
Орсино
Поверь, мой друг, что здесь ты не найдешь
Отплаты за тяжелую обиду,
Твои надежды тщетны.
Джакомо
Если так, -
Ведь ты мой друг! Не ты ли намекал мне
На тот жестокий выбор, пред которым
Теперь я, как над пропастью, стою.
Ты помнишь, мы об этом говорили,
Тогда страдал я меньше. Это слово -
Отцеубийство - до сих пор меня
Путает, словно выходец могильный,
Но я решился твердо.
Орсино
Слово - тень,
Насмешка беспредметная; бояться
Должны мы лишь того, в чем - самый страх.
Заметь, как Бог разумно совлекает
В единый узел нити приговора,
Своим судом оправдывая наш.
То, что замыслил ты, теперь как будто
Исполнено.
Джакомо
Он мертв?
Орсино
Его могила
Уж вырыта. Не знаешь ты, что Ченчи
За это время, после нашей встречи,
Глубоко оскорбил родную дочь.
Джакомо
В чем было оскорбленье?
Орсино
Не знаю.
Она не говорит, но ты, как я,
Наполовину можешь догадаться,
Взглянув на это скорбное лицо,
Окутанное бледностью недвижной,
Увидя беспредельную печаль,
Услыша этот голос монотонный,
В котором кротость с ужасом слилась,
Как бы звуча суровым приговором;
Чтоб все тебе сказать, скажу одно:
Пока, объяты ужасом, как чарой,
Мы говорили с мачехой ее,
Намеками неясными, блуждая
Вкруг истины и робко запинаясь,
И все же к мести с трепетом идя,
Она прервала нас и ясным взглядом
Сказала прежде, чем в словах воскликнуть:
"Он должен умереть!"
Джакомо
Он должен. Так.
Теперь мои сомнения исчезли.
Есть высшая причина, чем моя,
Чтоб выполнить ужасное деянье.
Есть мститель незапятнанный, судья,
Исполненный святыни. Беатриче,
Проникнутая нежностью такой,
Что никогда червя не раздавила,
Цветка не растоптала, не проливши
Ненужных, но прекрасных слез! Сестра.
Создание чудесное, в котором
Любовь и ум, на удивленье людям,
Слились в одно, друг другу не вредя!
Возможно ли, чтоб образ твой лучистый
Был осквернен? О сердце, замолчи!
Тебе не нужно больше оправданий!
Как думаешь, Орсино, подождать мне
У двери здесь и заколоть его?
Орсино
Нет, что-нибудь всегда случиться может,
В чем он найдет спасенье для себя,
Как раз теперь, когда идет он к смерти.
И некуда бежать тебе, и нечем
Убийство оправдать или прикрыть.
Послушай. Все обдумано. Пред нами
Успех.
(Входит Беатриче.)
Беатриче
То голос брата моего!
Ты более не знаешь Беатриче.
Джакомо
Сестра моя, погибшая сестра!
Беатриче
Погибшая! Я вижу, что Орсино
С тобою говорил, и ты теперь
В душе рисуешь то, что слишком страшно,
Чтоб быть способным вылиться в словах,
И все ж не так чудовищно, как правда.
Теперь иди. Он может возвратиться,
Но только поцелуй меня. Я в этом
Увижу знак того, что ты согласен
На смерть его. Прощай. И пусть теперь
Твое благоговение пред Богом,
И братская любовь, и милосердье -
Все, что смягчить способно самых жестких,
В твоей душе, о брат мой, укрепится,
Как жесткая бестрепетность и твердость.
Не отвечай мне. Так. Прощай. Прощай.
(Уходят порознь.)
15. СЦЕНА ВТОРАЯ
Небольшая комната в доме Джакомо. Джакомо один.
Джакомо
Уж полночь. А Орсино нет как нет.
(Гром и шум бури.)
Что значит эта буря? Неужели
Бессмертные стихии могут так же,
Как человек, страдать и сострадать?
О, если так, излом воздушных молний
Не должен был бы падать на деревья!
Жена моя и Дети крепко спят.
Они теперь живут средь сновидений,
Лишенных содержания. А я
Здесь бодрствую и должен сомневаться
В добре того, что было неизбежно.
Неполная лампада, твой огонь
Дрожит и бьется узкою полоской;
В дыханье ветра, с краю, дышит тьма,
Нависла ненасытная. О пламя,
Подобное последнему биенью
Еще живой, уже погибшей жизни,
Ты борешься, то вспыхнешь, то замрешь,
И если б не поддерживал тебя я,
Как быстро бы угасло ты, исчезло,
Как будто бы и не было тебя.
Кто знает, в это самое мгновенье,
Быть может, жизнь, зажегшая мою,
Таким же тлеет пламенем. Но эту
Лампаду, раз один ее разбив, -
Потом уже ничем не восстановишь.
Та кровь, что бьется здесь, вот в этих жилах,
Теперь бежит слабеющим отливом
От членов остывающих, пока
Во всем не воцарится мертвый холод;
Те самые живые очертанья,
По чьим узорам созданы мои,
Теперь объяты судорогой смерти,
Подернулись налетом восковым;
Та самая душа, что облачила
Мою подобьем Господа бессмертным,
Теперь стоит пред Судией Всевышним,
Бессильная, нагая.
(Удар колокола.)
Бьют часы.
Один удар. Другой. Ползут мгновенья.
Когда седым я буду стариком,
Мой сын, быть может, будет ждать вот так же,
Колеблясь между ненавистью правой
И суетным раскаяньем, ропща -
Как я ропщу, - что нет вестей ужасных,
Подобных тем, которых здесь я жду.
Не лучше ль было б, если б он не умер!
Хоть страшно велика моя обида,
Но все же... Тсс! Шаги Орсино.
(Входит Орсино.)
Ну?
Орсино
Пришел я сообщить, что Ченчи спасся.
Джакомо
Он спасся?
Орсино
Часом раньше он проехал
Назначенное место и теперь
Находится в Петрелле.
Джакомо
Значит, мы -
Игралище случайности, и тратим
В предчувствиях слепых часы, когда
Мы действовать должны. Так, значит, буря,
Казавшаяся звоном похоронным, Есть
только громкий смех Небес, которым
Оно над нашей слабостью хохочет!
Отныне не раскаюсь я ни в чем,
Ни в мыслях, ни в деяниях, а только
В раскаянье моем.
Орсино
Лампада гаснет.
Джакомо
Но вот, хоть свет погас, а в нашем сердце
Не может быть раскаяния в том,
Что воздух впил в себя огонь безвинный:
Что ж нам скорбеть, что жизнь Франческо Ченчи,
В мерцании которой злые духи
Яснее видят гнусные дела,
Внушаемые ими, истощится,
Погаснет навсегда. Нет, я решился!
Орсино
К чему твои слова? И кто боится
Вмешательства раскаянья, когда
Мы правое задумали? Пусть рухнул
Наш план первоначальный, - все равно,
Сомненья нет, он скоро будет мертвым.
Но что же ты лампаду не засветишь?
Не будем говорить впотьмах.
Джакомо
(зажигая огонь)
И все же.
Однажды погасивши жизнь отца,
Я не могу зажечь ее вторично.
Не думаешь ли ты, что дух его
Пред Господом представит этот довод?
Орсино
А мир твоей сестре вернуть ты можешь?
А мертвые надежды ты забыл
Твоих угасших лет? А злое слово
Твоей жены? А эти оскорбленья,
Швыряемые всем, кто наг и слаб,
Счастливыми? А жизнь и все мученья
Твоей погибшей матери?
Джакомо
Умолкни.
Не надо больше слов! Своей рукою
Я положу предел той черной жизни,
Что для моей началом послужила.
Орсино
Но в этом нет нужды. Постой.
Ты знаешь Олимпио, который был в Петрелле
Смотрителем во времена Колонны, -
Его отец твой должности лишил,
И Марцио, бесстрашного злодея,
Которого он год тому назад
Обидел - не дал платы за деянье
Кровавое, соделанное им
Для Ченчи?
Джакомо
Да, Олимпио я знаю.
Он, говорят, так Ченчи ненавидит,
Что в ярости безмолвной у него
Бледнеют губы, лишь его заметит.
О Марцио не знаю ничего.
Орсино
Чья ненависть сильней, - решить мне трудно,
Олимпио иль Марцио. Обоих.
Как будто бы по твоему желанью,
К твоей сестре и мачехе послал я
Поговорить.
Джакомо
Поговорить?
Орсино
Мгновенья,
Бегущие, чтоб к полночи привесть
Медлительное "завтра", могут бег свой
Увековечить смертью. Прежде чем
Пробьет полночный час, они успеют
Условиться и, может быть, исполнить
И, выполнив...
Джакомо
Тсс! Что это за звук?
Орсино
Ворчит собака, балка заскрипела,
И больше ничего.
Джакомо
Моя жена
Во сне на что-то жалуется, - верно,
Тоскует, негодуя на меня,
И дети спят вокруг, и в сновиденьях
Им грезится, что я грабитель их.
Орсино
А в это время он, кто горький сон их
Голодною тоскою омрачил,
Тот, кто их обокрал, спокойно дремлет,
Позорным сладострастьем убаюкан,
И с торжеством смеется над тобой
В видениях вражды своей успешной,
В тех снах, в которых слишком много правды.
Джакомо
Клянусь, что, если он опять проснется,
Не надо рук наемных больше мне.
Орсино
Так, правда, будет лучше. Доброй ночи.
Когда еще мы встретимся -
Джакомо
Да будет
Все кончено и все навек забыто.
О если б не родился я на свет!
(Уходит.)
16. ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
17. СЦЕНА ПЕРВАЯ
Комната в замке Петрелла. Входит Ченчи.
Ченчи
Она не идет. А я ее оставил
Изнеможенной, сдавшейся. И ей
Известно наказанье за отсрочку.
Что, если все мои угрозы тщетны?
Как, разве я не в замке у себя?
Не окружен окопами Петреллы?
Боюсь ушей и глаз докучных Рима?
Не смею притащить ее к себе,
Схватив ее за пряди золотые?
Топтать ее? Держать ее без сна,
Пока ее рассудок не померкнет?
И голодом, и жаждою смирять,
И в цепи заковать ее? Довольно
И меньшего. Но время убегает,
А я еще не выполнил того,
Чего хочу всем сердцем. А! Так я же
Сломлю упорство гордое, исторгну
Согласие у воли непреклонной,
Заставлю так же низко преклониться,
Как то, что вниз теперь ее влечет?
(Входит Лукреция.)
Проклятая, исчезни, прочь отсюда,
Беги от омерзенья моего!
Но, впрочем, стой. Скажи, чтоб Беатриче
Пришла сюда.
Лукреция
Супруг, молю тебя,
Хотя бы из любви к себе, подумай,
О том, что хочешь сделать! Человек,
Идущий по дороге преступлений,
Как ты, среди опасностей греха,
Ежеминутно может поскользнуться
Над собственной внезапною могилой.
А ты уж стар, сединами покрыт;
Спаси себя от смерти и от Ада
И пожалей твою родную дочь:
Отдай ее кому-нибудь в супруги,
Тогда она не будет искушать
Твоей души к вражде иль к худшим мыслям,
Когда возможно худшее.
Ченчи
Еще бы!
Чтоб так же, как сестра ее, она
Нашла приют, где можно насмехаться
Своим благополучием бесстыдным
Над ненавистью жгучею моей.
Ее, тебя и всех, кто остается,
Ждет страшная и бешеная гибель.
Да, смерть моя, быть может, будет быстрой, -
Ее судьба мою опередит.
Иди скажи, я жду ее, и прежде,
Чем прихоть переменится моя, -
Не то я притащу ее за пряди
Густых ее волос.
Лукреция
Она послала
Меня к тебе, супруг мой. Как ты знаешь,
Она перед тобой лишилась чувств
И голос услыхала, говоривший:
"Франческо Ченчи должен умереть!
Свои грехи он должен исповедать!
Уж Ангел-Обвинитель ждет, внимает,
Не хочет ли Всевышний покарать
Сильнейшей карой тьму грехов ужасных,
Ожесточив скудеющее сердце!"
Ченчи
Что ж, может быть. Случается. Я знаю.
Есть свыше откровения. И Небо
В особенности было благосклонно
Ко мне, когда я проклял сыновей.
Они тотчас же умерли. Да! Да!
А вот насчет того, что справедливо
И что несправедливо, - это басни.
Раскаянье! Раскаянье есть дело
Удобного мгновенья и зависит
Не столько от меня, как от Небес.
Прекрасно. Но теперь еще я должен
Главнейшего достигнуть: осквернить
И отравить в ней душу.
(Пауза. Лукреция боязливо приближается и, по
мере того как он говорит, с ужасом отступает.)
Две души
Отравлены проклятьем: Кристофано
И Рокко; для Джакомо, полагаю,
Жизнь - худший Ад, чем тот, что ждет за гробом;
А что до Беатриче, так она,
Как только есть искусство в лютой злобе,
Научится усладе богохульства,
Умрет во тьме отчаянья. Бернардо,
Как самому невинному, хочу я
Достойное наследство завещать,
Воспоминанье этих всех деяний,
И сделаю из юности его
Угрюмый гроб надежд, где злые мысли
Взрастут, как рой могильных сорных трав.
Когда ж исполню все, в полях Кампаньи
Построю столб из всех моих богатств.
Все золото, все редкие картины,
Убранства, ткани, утварь дорогую,
Одежды драгоценные мои,
Пергаменты, и росписи владений,
И все, что только я зову своим,
Нагромоздив роскошною громадой,
Я в честь свою приветственный костер
Зажгу среди равнины неоглядной;
Из всех своих владений - для потомства
Оставлю только имя - это будет
Наследство роковое: кто к нему
Притронется, тот будет, как бесславье,
Нагим и нищим. Это все свершив,
Мой бич, мою ликующую душу
Вручу тому, кто дал ее: пусть будет
Она своею карой или их,
Ее он от меня не спросит прежде,
Чем этот бич свирепый нанесет
Последнюю чудовищную рану
И сломится к кровавости глубокой.
Вся ненависть должна найти исход.
И чтобы смерть меня не обогнала,
Я буду скор и краток.
(Идет.)
Лукреция (удерживая его)
Погоди.
Я выдумала все. И Беатриче
Виденья не видала, голос Неба
Не слышала, я выдумала все,
Чтоб только устрашить тебя.
Ченчи
Прекрасно.
Ты лжешь, играя истиною Бога.
Так пусть твоя душа в своем кощунстве
Задохнется навек. Для Беатриче
Есть ужасы похуже наготове,
И я ее скручу своею волей.
Лукреция
Своею волей скрутишь? Боже мой,
Какие ты еще придумал пытки,
Неведомые ей?
Ченчи
Андреа! Тотчас
Скажи, чтоб дочь моя пришла сюда,
А если не придет она, скажи ей,
Что я приду. Неведомые пытки?
Я повлеку ее сквозь целый ряд
Неслыханных доселе осквернений,
И шаг за шагом будет путь пройден.
Она предстанет, в поддень, беззащитной.
Среди толпы, глумящейся над ней,
И будет стыд о ней греметь повсюду,
Расскажутся позорные деянья,
И будет между этих всех одно:
Чего она сильней всего боится,
Волшебною послужит западней
Ее неповинующейся воле.
Пред совестью своей она возникнет
Тем, чем она покажется другим;
Умрет без покаянья, без прощенья,
Мятежницей пред Богом и отцом;
Ее останки выбросят собакам,
И имя будет ужасом земли.
И дух ее придет к престолу Бога
Покрытый, как проказой гноевой,
Чумой моих губительных проклятий,
И дух и тело вместе обращу я
В один обломок смерти и уродства.
(Входит Андреа.)
Андреа
Синьора Беатриче...
Ченчи
Говори,
Ты, бледный раб! Скорей! Ответ ее!
Андреа
Мой господин, она сказала только,
Чт_о_ видела: "Иди, скажи отцу,
Я вижу Ад, кипящий между нами,
Он может перейти его, не я".
(Андреа уходит.)
Ченчи
Иди скорей, Лукреция, скажи ей,
Чтобы она пришла: пусть только знает,
Что, раз придя, она дает согласье;
И также не забудь сказать, что, если
Я буду ждать напрасно, прокляну.
(Лукреция уходит.)
А! Чем, как не проклятием, Всевышний
В победе окрыленной будит ужас
Панический и сонмы городов
Окутывает бледностью испуга?
Отец вселенной должен внять отцу,
Восставшему на собственное чадо,
Хоть средь людей мое оно носит имя.
И разве смерть ее мятежных братьев
Не устрашит ее, пред тем как я
Скажу свое проклятие? Лишь только
На них призвал я быструю погибель,
Она пришла.
(Входит Лукреция.)
Ну, тварь, ответ, живее!
Лукреция
Она сказала: "Нет, я не могу!
Поди, скажи отцу, что не приду я.
Меж ним и мною вижу я поток
Его пролитой крови, - негодуя,
Он мчится".
Ченчи
(становясь на колени)
Боже! Выслушай меня!
О, если та пленительная форма,
Что ты соделал дочерью моей,
Кровь, служащая частью, отделенной
От крови и от сущности моей,
Или скорей моя болезнь, проклятье,
Чей вид заразой служит для меня;
О, если эта дьявольская греза,
Возникшая таинственно во мне,
Как Сатана, восставший в безднах Ада,
Тобою предназначена была,
Чтоб послужить для доброй цели; если
Лучистое ее очарованье
Зажглось, чтоб озарить наш темный мир;
И если добродетели такие,
Взлелеянные лучшею росой
Твоей любви, роскошно расцвели в ней,
Чтоб в эту жизнь внести любовь и мир, -
Молю Тебя, о Боже всемогущий,
Отец и Бог ее, меня и всех,
Отвергни приговор Свой! Ты, земля,
Прошу тебя, молю во имя Бога,
Дай в пищу ей отраву, пусть она
Покроется корою чумных пятен!
Ты, небо, брось на голову ей
Нарывный дождь зловонных рос Мареммы,
Чтоб пятнами покрылася она,
Как жаба; иссуши ей эти губы,
Окрашенные пламенем любви;
Скриви ее чарующие члены
В противную горбатость! Порази.
Всевидящее солнце, эти очи,
Огнем твоих слепительных лучей!
Лукреция
Молчи! Молчи! Свою судьбу жалея.
Возьми назад ужасные слова.
Когда Всевышний Бог к таким молитвам
Склоняет слух, Он страшно мстит за них!
Ченчи
(вскакивая и быстро поднимая к небу правую руку)
Своей Он служит воле, я - своей!
Еще одно проклятие прибавлю:
Когда б она беременною стала... -
Лукреция
Чудовищная мысль!
Ченчи
Когда б у ней
Ребенок зародился, - о Природа
Поспешная, тебя я заклинаю,
Пребудь в ней плодоносной, будь послушна
Велению Создателя, умножься,
Умножь мое глубокое проклятье, -
Пусть это чадо гнусной будет тенью,
Подобьем омерзительным ее,
Чтобы она всегда перед собою,
Как дикий образ в зеркале кривом,
Могла себя навек увидеть слитой
С тем, что ее страшит сильней всего,
На собственной груди увидеть гада,
Глядящего с улыбкой на нее!
И пусть от детских дней отродье это
День ото дня становится мерзей,
Уродливей, чтоб радость материнства
Росла бедой, и оба, мать и сын,
Дождались упоительного часа,
Когда за целый ряд забот и мук
Он ей отплатит ненавистью черной
Иль чем-нибудь еще бесчеловечней!
Пусть гонит он ее сквозь громкий хохот,
Сквозь целый мир двусмысленностей грязных,
К могиле обесчещенной! Иди
Скажи, пускай придет, пока есть время,
Еще могу проклятье взять назад,
Пока не вступит в летописи Неба.
(Лукреция уходит.)
Мне чудится, что я не человек,
А некий демон, призванный глумиться
И мстить за целый сонм обид иного,
Уже невспоминаемого мира:
Стремится кровь моя живым ключом,
Она шумит в восторге дерзновенья,
Ликует, содрогается, горит.
Я чувствую какой-то странный ужас,
И сердце бьется в грезе круговой,
Рисующей чудовищную радость.
(Входит Лукреция.)
Ты мне несешь...
Лукреция
Отказ. Она сказала,
Что можешь проклинать ее, и если б
Проклятия твои могли убить
Ее неумирающую душу...
Ченчи
Она прийти не хочет? Хорошо.
Передо мной двоякий путь: сначала
Возьму, чего хочу, потом исторгну
Согласие. Ступай к себе. Беги,
Не то тебя я вышвырну отсюда.
И помни, в эту ночь твои шаги
С моими пусть не встретятся. Скорее
Стань между тигром и его добычей.
(Лукреция уходит.)
Глаза мои слипаются и меркнут
Под необычной тяжестию сна.
Должно быть, поздно. Совесть! Лжец наглейший!
Я слышал, будто сон, роса небес,
Не освежает сладостным бальзамом
Изгибов тех умов, где встала мысль,
Что ты пустой обманщик. Я намерен
Тебя изобличить во лжи, уснуть
В теченье часа сном невозмутимым,
И чувствую, что будет он глубок.
Потом, - о грозный Ад, где столько духов
Отверженных, твои оплоты дрогнут,
Когда в пределах царственных твоих
Всех дьяволов охватит дикий хохот!
По Небу пронесется горький вопль,
Как будто бы об ангеле погибшем,
И на Земле все доброе поблекнет,
А злое шевельнется и восстанет
Для жизни неестественной, ликуя,
Как я теперь ликую и живу.
(Уходит.)
18. СЦЕНА ВТОРАЯ
Перед замком Петреллы. Появляются Беатриче и Лукреция вверху на крепостном
валу.
Беатриче
Их нет еще.
Лукреция
Едва настала полночь.
Беатриче
Как медленно в сравненье с бегом мысли,
Больной от быстроты, влачится время
С свинцовыми стопами!
Лукреция
Улетают
Мгновения. Чт_о_, если он проснется,
Пока не совершится ничего?
Беатриче
О мать моя! Проснуться он не должен.
Твои слова глубоко убедили
Меня, что наш поступок лишь изгонит
Из тела человека духа тьмы,
Бежавшего из адских бездн.
Лукреция
О смерти
И о суде так твердо говорил он,
С доверием, рисующим такого
Отверженца в каком-то странном свете,
Как будто в Бога верит он и только
Добра и зла не хочет различать.
И все же, умереть без покаянья!
(Входят Олимпио и Марцио снизу.)
Они идут!
Беатриче
Все смертное здесь в мире
Должно спешить к угрюмому концу.
Сойдем!
(Лукреция и Беатриче уходят сверху.)
Олимпио
О чем ты думаешь?
Марцио
О том,
Что десять сотен крон большая плата
За жизнь убийцы старого. Ты бледен.
Олимпио
То - отраженье бледности твоей,
Цвет щек твоих...
Марцио
Естественный их цвет?
Олимпио
Цвет ненависти жгучей и желанья
Отмстить.
Марцио
Так ты готов на это дело?
Олимпио
Не менее, как если бы мне дали
Такие ж точно десять сотен крон,
Чтоб я скорей убил змею, чье жало
Лишило жизни сына моего.
(Входят Беатриче и Лукреция снизу.)
Беатриче
Решились вы?
Олимпио
Он спит?
Марцио
Везде все тихо?
Беатриче
Пусть смерть его лишь будет переменой
Ужасных снов, карающих грехи,
Угрюмым продолженьем адской бури,
Которая кипит в его душе
И ждет, чтоб от разгневанного Бога
Низвергся дождь ее гасящих слов.
Так вы решились твердо? Вам известно,
Что это благороднейшее дело?
Олимпио
Решились твердо.
Марцио
Что до благородства,
Мы это вам решить предоставляем.
Беатриче
Идем же!
Олимпио
Тсс! Откуда этот шум?
Марцио
Идут!
Беатриче
О, трусы, трусы! Успокойте
Смешной испуг ребяческих сердец!
Когда сюда входили вы, наверно
Раскрытыми оставили ворота,
Они скрипят, и это быстрый ветер
Над вашей жалкой трусостью смеется.
Идем же, наконец. Вперед, смелей!
Как я иду: легко, свободно, смело.
(Уходят.)
19. СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Комната в замке. Входят Беатриче и Лукреция.
Лукреция
Они теперь кончают.
Беатриче
Нет, теперь
Все кончено.
Лукреция
Я стона не слыхала.
Беатриче
Стонать не будет он.
Лукреция
Ты слышишь?
Беатриче
Шум?
То звук шагов вокруг его постели.
Лукреция
О Господи! Быть может, он теперь
Лежит холодным трупом.
Беатриче
Не тревожься.
Что сделано - не страшно. Бойся только
Того, что не исполнено еще.
Успех венчает все.
(Входят Олимпио и Марцио.)
Готово?
Марцио
Что?
Олимпио
Вы звали нас?
Беатриче
Когда?
Олимпио
Сейчас.
Беатриче
Мы? Звали?
Я спрашиваю, кончено ли все?
Олимпио
Его убить не смеем мы, он стар,
Он спит глубоким сном, он сед, и брови
Неспящие нахмурены, и руки
Скрестил он на встревоженной груди,
И сон его меня обезоружил.
О, нет! О, нет! Убить его нельзя!
Марцио
Но я смелее был и, осуждая
Олимпио, сказал ему, чтоб он
Терпел свои обиды до могилы,
Мне одному награду предоставив.
И вот уже мой нож почти резнул
Открытое морщинистое горло,
Как вдруг старик во сне пошевельнулся,
И я услышал: "Господи, внемли
Отцовскому проклятью! Ведь Ты же
Отец нам всем". И тут он засмеялся.
И понял я, что этими устами
Дух моего покойного отца
Проклятье изрекает, и не мог я
Его убить.
Беатриче
Злосчастные рабы!
Нет мужества в душонках ваших жалких.
Чтоб человека спящего убить.
Откуда же вы храбрости набрались,
Чтоб, дела не свершив, сюда прийти?
Позорные изменники и трусы!
Да эта совесть самая, что в вас
Гнездится лишь для купли и продажи
Или для низкой мести, есть увертка!
Она спокойно спит во время тысяч
Невидных ежедневных преступлений;
Когда же нужно дело совершить,
В котором жалость будет богохульством...
Да что тут!
(Выхватывает кинжал у одного из них и
поднимает его в воздухе.)
Если б даже ты посмел
Всем рассказать, что я отцеубийца,
Я все ж его должна убить! Но только
Переживете вы его немного!
Олимпио
Остановись, во имя Бога!
Марцио
20. Я
Сейчас пойду убить его!
Олимпио
Отдай мне
Кинжал, и мы твою исполним волю.
Беатриче
Бери! Ступай! Чтоб живо возвратиться!
(Олимпио и Марцио уходят.)
Как ты бледна! Мы делаем лишь то,
Чего не сделать было б преступленьем.
Лукреция
О, если бы это было уже в прошлом!
Беатриче
Вот в этот самый миг в твоей душе
Проходят колебанья и сомненья,
А мир уж перемену ощутил.
Пожрали ад и тьма то испаренье,
Что ими было послано смутить
Сиянье жизни. Вот уж мне как будто
Отраднее дышать: в застывших жилах
Струится кровь свободней. Тсс!
(Входят Олимпио и Марцио.)
Он...
Олимпио
Мертв!
Марцио
Чтобы следов кровавых не осталось,
Его мы задушили, и потом
В тот сад, что под балконом, сошвырнули
Отяжелевший труп, - как будто он
Упал случайно.
Беатриче
(отдавая им кошелек с деньгами)
Вот берите деньги
И поскорей отсюда уходите.
И так как ты, о Марцио, смутился
Лишь тем, что дух мой в трепет повергало,
Возьми вот эту мантию.
(Надевает на него богатую мантию.)
Ее
Носил мой дед во дни своих успехов,
Когда будил он зависть: пусть же все
Твоей судьбе завидуют. Ты был
Орудием святым в деснице Бога.
Живи, преуспевай и, если есть
На совести твоей грехи, раскайся!
В том, что теперь ты сделал, - нет греха.
(Слышен звук рога.)
Лукреция
Чу! Замковый сигнальный рог. О Боже!
Звучит он словно зов на Страшный Суд.
Беатриче
Какой-то гость не вовремя приехал.
Лукреция
Подъемный мост опущен; во дворе
Я слышу стук копыт. Скорей, спасайтесь!
(Уходят Олимпио и Марцио.)
Беатриче
Уйдем к себе, и притворимся, будто
Мы спим глубоким сном, да, впрочем, мне
Навряд ли даже надо притворяться;
Тот дух, что этим телом властно правит,
Мне кажется так странно-безмятежным,
Что я усну невозмутимым сном:
Все зло теперь окончилось навеки.
(Уходят.)
21. СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ
Другая комната в замке. Входит с одной стороны, легат Савелла, в
сопровождении слуги, с другой - Лукреция и Бернардо.
Савелла
Синьора, да послужит извиненьем
Мой долг перед Святейшеством его,
Что я теперь покой ваш нарушаю
В такой неподходящий час: я должен
Иметь беседу тотчас с графом Ченчи.
Он спит?
Лукреция
(с торопливым смущением)
Наверно, спит, но я прошу вас
Ночной его покой не возмущать;
Пусть он поспит, не то случится худо, -
Он вспыльчивый и злобный человек.
Он должен этой ночью спать и видеть
В жестоких снах свирепый ужас ада.
Пусть только день забрезжит, и тогда...
(В сторону.)
О, я изнемогаю!
Савелла
Мне прискорбно,
Что я вам доставляю беспокойство,
Но должен граф немедля дать ответ
На целый ряд важнейших обвинений,
И в этом цель приезда моего.
Лукреция
(с возрастающим беспокойством)
Но разбудить его я не посмею,
И кто бы мог - не знаю никого я;
Будить змею опасно, - не змею,
А труп, в котором спит свирепый демон.
Савелла
Мне ждать нельзя, мои мгновенья здесь
Сосчитаны. И если никого
Здесь нет, кто разбудить его посмел бы,
Я сам пойду будить его.
Лукреция
(в сторону)
О, ужас!
Отчаянье!
(К Бернардо.)
Бернардо, проводи же
Посланника Святейшества его
В ту комнату, где твой отец.
(Савелла и Бернардо уходят.)
(Входит Беатриче.)
Беатриче
То вестник,
Прибывший, чтоб виновного схватить,
Уже теперь стоящего пред Богом,
С Его неотвергаемым судом.
Соединясь в согласном приговоре,
Нас оправдали Небо и Земля.
Лукреция
О, ужас нестерпимый! Если б только
Он был в живых! Я слышала сейчас,
Когда они все мимо проходили,
Шепнул один из свиты, что легат
Имеет полномочие от Папы
Немедленно казнить его. Так, значит,
Путем законным все произошло бы,
За что теперь мы дорого заплатим.
Вот-вот, они обыскивают крепость,
Они находят труп, и подозренье
Диктует им, где истина; потом
Тихонько совещаются, что делать;
Потом воскликнут громко: "Это - вы!"
О, ужас! Все открылось!
Беатриче
Мать моя,
Что сделано разумно, то прекрасно.
Будь столь же смелой, как ты справедлива.
И было бы ребячеством бояться, -
Когда спокойна совесть, - что другие
Узнают то, что сделано тобой,
С пугливостью смотреть, в лице меняясь,
И этим обнажать, что хочешь скрыть.
Себе лишь верной будь и, кроме страха,
Не бойся ничего, другого нет
Свидетеля, а если б он явился, -
Что прямо невозможно, - если б вдруг
Возникло что-нибудь не в нашу пользу,
Мы можем подозренье ослепить
Таким правдоподобным удивленьем,
Такою оскорбленностью надменной,
Какая невозможна для убийц.
Что сделано, то нужно было сделать, -
И что мне до другого! Я как мир,
Как свет, лучи струящий по вселенной,
Как землю окруживший вольный воздух,
Как твердый центр всех миров. Что будет,
Меня волнует так же, как скалу
Бесшумный ветер.
(Крик внутри покоев и смятенье.)
Смерть! Убийство! Смерть!
(Входят Бернардо и Савелла.)
Савелла
(обращаясь к своей свите)
Весь замок обыскать и бить тревогу;
У выходных ворот поставить стражу,
Чтоб все остались в замке!
Беатриче
Что случилось?
Бернардо
Не знаю, как сказать: отец наш мертв!
Беатриче
Как? Мертв? Он только спит. И ты ошибся,
Мой милый брат; он крепко-крепко спит.
И тихий сон его подобен смерти.
Не странно ли: мучитель может спать!
Но он не мертв?
Бернардо
Он мертв! Убит!
Лукреция
(в крайнем возбуждении)
Нет, нет!
Он не убит, хотя, быть может, умер.
Ключи от этих комнат у меня.
Савелла
А! Вот как!
Беатриче
Монсиньор, простите нас.
Но мы должны уйти: ей очень худо;
Как видите, она изнемогает
От ужаса подобных испытаний.
(Лукреция и Беатриче уходят.)
Савелла
Не можете ли вы кого-нибудь
В убийстве заподозрить?
Бернардо
Я не знаю,
Что думать.
Савелла
Может быть, вы назовете
Кого-нибудь, кто в смерти графа Ченчи
Имел бы интерес?
Бернардо
Увы, не в силах
Назвать хоть одного, кто не имел бы;
Имеют все, особенно же те,
Кто горше всех скорбит о происшедшем:
Моя сестра, и мать, и сам я.
Савелла
Странно!
Есть знаки несомненные насилья.
Труп старика нашел я, в лунном свете,
Висящим под окном его же спальни,
Среди ветвей сосны; упасть не мог он, -
Он весь лежал бесформенною кучей.
Следов кровавых, правда, нет. Прошу вас, -
Для чести дома вашего так важно,
Чтоб выяснилось все, - скажите дамам,
Я их прошу пожаловать сюда.
(Бернардо уходит.)
(Входит стража и вводит Марцио.)
Стража
Вот, одного поймали!
Офицер
Монсиньор,
Мы этого злодея и другою
Нашли среди уступов. Нет сомненья,
Они и есть убийцы графа Ченчи:
У каждого нашли мы кошелек,
Наполненный монетами; а этот
Был мантией роскошною покрыт;
Сверкая золотой своей отделкой
Средь темных скал, под мутною луной,
Она его нам выдала; другой же
В отчаянной защите был убит.
Савелла
И что он говорит?
Офицер
Хранит молчанье
Упорное, но эти строки скажут:
Письмо нашли мы у него в кармане.
Савелла
По крайней мере, их язык правдив.
(Читает.)
"Донне Беатриче.
"Чтобы возмездие за то, что вообразить
"моя душа противится, могло случиться скоро, я
"посылаю к тебе, по желанию твоего брата,
"тех, которые скажут и сделают больше,
"чем я решаюсь писать.
"Твой верный слуга Орсино".
(Входят Лукреция, Беатриче и Бернарда.)
Тебе известен этот почерк?
Беатриче
Нет.
Савелла
Тебе?
Лукреция
(во все время этой сцены она исполнена крайнего возбуждения)
Что это значит? Что такое?
Мне кажется, рука Орсино это!
Откуда же достали вы письмо?
В нем говорит невыразимый ужас,
Который не нашел себе исхода,
Но между этой девушкой несчастной
И собственным ее отцом усопшим
Успел создать зияющую бездну
Глухой и темной ненависти.
Савелла
Так?
Синьора, это верно, что отец твой
Тебе нанес такие оскорбленья,
Что ненависть зажег в твоей душе?
Беатриче
Не ненависть, а нечто, что сильнее.
Но для чего об этом говорить?
Савелла
Здесь что-то есть, о чем ты знаешь больше,
Чем выразить в вопросе я могу.
В твоей душе есть тайна.
Беатриче
Монсиньор,
Вы говорите дерзко, не подумав.
Савелла
От имени Святейшества его
Присутствующих всех я арестую.
Мы едем в Рим.
Лукреция
О, нет! Мы невиновны.
Не нужно в Рим!
Беатриче
Виновны? Кто же смеет
Сказать, что мы виновны? Монсиньор,
В отцеубийстве так же я виновна,
Как без отца родившийся ребенок;
Еще, быть может, меньше. Мать моя,
Твоя святая кротость, благородство
Щитом служить не могут перед этим
Язвительным неправосудным миром,
Пред этой обоюдоострой ложью,
Что сразу выставляет два лица.
Как! Ваши беспощадные законы,
Верней, осуществляющие их,
Вы, слуги их неверные, сначала
Дорогу к правосудью заградите,
Потом, когда, во гневе, Небеса,
Суда земного видя небреженье,
Вмешаются и мстителя пошлют,
Чтоб наказать неслыханное дело,
Вы скажете, что тот, кто правды ждал,
Преступник? Вы преступники! Вот этот
Несчастный, что бледнеет и дрожит,
Коль верно то, что он убийца Ченчи,
Есть меч в деснице праведного Бога.
Зачем же я его взяла бы в руки?
Бог мстит за те деянья, о которых
Не скажешь этим смертным языком.
Савелла
Так смерть его была для вас желанной?
Беатриче
Когда бы хоть на миг в моей душе
Остыло это дикое желанье,
То было б преступленьем, - таким же,
Как черный грех, в его душе возникший.
Да, правда, я надеялась, ждала,
Молилась, даже больше - твердо знала, -
Ведь есть же правосудный, мудрый Бог, -
Я знала, что над ним нависла кара
Какой-то роковой внезапной смерти.
И вот она пришла - и это правда,
Что для меня на всей земле и в Небе
Была одна последняя надежда,
Одно успокоенье - смерть его.
И что ж теперь?
Савелла
Обычное явленье.
Из странных мыслей - странные дела.
Я не могу судить тебя.
Беатриче
Но, если
Меня вы арестуете, невольно
Вы станете судьей и палачом
Того, что я считаю жизнью жизни.
И самое дыханье обвиненья
Пятнает незапятнанное имя,
И, после оправдания косого,
Все то, что было светлым и живым,
Становится безжизненною маской.
Я снова повторяю, это ложь,
Что будто я грешна в отцеубийстве,
Хоть я по справедливости должна
Прийти в восторг, узнав об этой смерти,
Узнав, что чья-то чуждая рука
Послала дух его молить у Бога
Того, в чем отказал он мне: пощады.
Оставьте нас свободными, прошу вас;
Наш знатный дом навек не оскверняйте
Неясным подозреньем в преступленье,
Которого не мог он совершить;
К небрежности своей и к нашим мукам
Еще сильнейших мук не прибавляйте.
Их было слишком много; не лишайте
Обманутых и выброшенных бурей -
Последнего: обломков корабля.
Савелла
Синьора, я не смею. Приготовьтесь.
Прошу вас, мы поедем вместе в Рим:
Что будет дальше, скажет воля Папы.
Лукреция
О, нет, не надо в Рим! Не надо в Рим!
Беатриче
Зачем ты так тревожишься, родная?
Зачем бояться Рима? Там, как здесь,
Мы нашей невиновностию можем
Бесстрашно обвиненье растоптать.
Есть Бог и там, а Он своею тенью
Всегда прикроет слабых, беззащитных.
Обиженных, как мы. Утешься. Помни,
Что на меня ты можешь опереться:
Блуждающие мысли собери.
Как только, монсиньор, вы отдохнете
И выясните все, что только нужно
Для следствия, вы нас внизу найдете
Готовыми к отъезду. Ты поедешь,
Родная?
Лукреция
А! Они нас будут мучить.
Привяжут к колесу, начнут пытать.
И этот ужас мук невыносимых
У нас исторгнет самообвиненье.
Джакомо будет там? Орсино там?
И Марцио? И все на очной ставке?
И каждый у другого на лице
Увидит тайну собственного сердца!
О, горе мне!
(Она лишается чувств, и ее уносят.)
Савелла
Она лишилась чувств.
Недобрый знак.
Беатриче
Она людей не знает
И думает, что власть есть дикий зверь,
Который схватит острыми когтями
И больше уж, не выпустит: змея,
Которая в отраву превращает
Что только ни увидит, находя
В свирепом яде собственную пищу.
Она не может знать, как хорошо
Прислужники слепого произвола
Читать умеют истину вещей
В чертах лица безгрешно-простодушных:
Невинности не видит, в торжестве
Стоящей пред судом того, кто смертен,
Судьей и обвинителем обид,
Ее туда привлекших. Монсиньор,
Прошу вас приготовиться к отъезду;
Мы ждем вас во дворе с своею свитой.
(Уходит.)
22. ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ
23. СЦЕНА ПЕРВАЯ
Комната в палаццо Орсино. Входят Орсино и Джакомо.
Джакомо
Так быстро злодеяние приходит
К ужасному концу? О, для чего же
Бесплодное раскаянье, казня
За черный грех, когда он совершится,
Не может громко нас предостеречь,
А только ранит жалом смертоносным,
Когда непоправимо преступленье!
О, если б этот прошлый час тогда
С себя совлек покров туманной тайны,
Представ с зловещим ликом привиденья,
С которым он является теперь,
Когда душа - как мрачная берлога,
Где спугнут дикий зверь, теперь гонимый
Свирепым лаем псов, чье имя совесть!
Увы! Увы! Какая злая мысль -
Убить седого дряхлого отца.
Орсино
Кто знал, что все окончится так плохо!
Джакомо
Безбожно посягнуть на святость сна!
Похитить кроткий мир спокойной смерти,
Которая преклонности усталой
Назначена природою самой!
Отнять у Неба гибнущую душу,
Не давши ей раскаяньем сердечным
И жаркими молитвами загладить
Жизнь, полную грехов!
Орсино
Но разве я
К убийству побуждал тебя?
Джакомо
О, если б
В твоем лице услужливо-любезном
Я зеркала не встретил для своих
Ужасных мыслей; если б целым рядом
Намеков и расспросов ты меня
Не вынудил чудовище увидеть
Моей души и на него глядеть,
Пока оно с желаньем не сроднилось!
Орсино
Вот так всегда, кто терпит неудачу,
Вину за все слагает на того,
Кто был его решению поддержкой,
Или винит другое что-нибудь,
Но только не себя. А в то же время
Признайся, что раскаянье твое
С его больною бледностью возникло
Всецело оттого, что ты теперь
Находишься в опасности; признайся,
Что это страх, откинувши свой стыд,
Скрывается под маской угрызений.
А если б мы могли еще спастись?
Джакомо
Но как же это можно? Беатриче,
Лукреция и Марцио в тюрьме.
И, верно, исполнители закона
Уж посланы, пока мы говорим здесь,
Схватить и нас.
Орсино
Я приготовил все
Для верного немедленного бегства.
И если ты желаешь, мы сейчас же
Воспользуемся случаем.
Джакомо
Скорей
Дыханье испущу средь пыток страшных,
Как, бегством обвинив самих себя,
Мы сложим всю вину на Беатриче?
Меж тем как в этом деле богохульном
Она одна - как светлый Ангел Бога,
Прислужников нашедший в духах тьмы
И мстящий за обиду без названья,
Пред ужасом которой черный грех
Отцеубийства стал святым деяньем;
Тогда как мы для наших низких целей...
Орсино, если я сравню твои
Слова и взгляды с этим предложеньем,
Боюсь необходимости сознаться,
Что ты - подлец. Скажи, с какою целью,
Намеками, улыбками, словами
В опасное такое преступленье
Меня ты заманил - и бросил в пропасть?
И ты не лжец? И ты не ложь сама?
Изменник и убийца! Трус и раб!
Да что тут тратить время! Защищайся!
(Обнажает шпагу.)
Пусть скажет сталь, чем заклеймить тебя
Гнушается язык мой.
Орсино
Спрячь оружье.
Джакомо, неужели до того
Твой страх тебя отчаяньем исполнил,
Что руку поднимаешь ты на друга,
Из-за тебя погибшего? Но, если
Ты к этому подвигнут честным гневом,
Узнай, что предложением своим
Хотел я испытать тебя, не больше.
Что ж до меня, своим бесплодным чувством
Я приведен к той точке, от которой
Не в силах отступить -^ хотя бы даже
Мой твердый дух раскаянье узнал.
Пока мы говорим, внизу, у входа,
Ревнители закона ждут, и мне
Даны лишь эти краткие мгновенья.
И если хочешь ты к своей жене
Теперь пойти с печальным утешеньем,
Иди вот этим ходом потаенным, -
Ты их избегнешь.
Джакомо
Друг великодушный!
Так ты меня простил? О, если б мог я
Своею жизнью выкупить твою!
Орсино
Твое желанье на день опоздало.
Спеши. Всего хорошего. Ты слышишь,
Идут по коридору!
(Джакомо уходит.)
Очень жаль,
Но стражи ждут его теперь у входа
Его же дома; это сделал я,
Чтоб от него, как и от них, сокрыться.
На этих размалеванных подмостках
Изменчивого мира я задумал
Торжественную пьесу разыграть,
Хотел достичь моих особых целей
Сплетением добра и зла в узор,
Подобный тем, какие ткутся всюду;
Но встала Неожиданность и властно
Схватила нити замыслов моих,
Порвала их и с страшной быстротою
Сплела из них сеть гибели. Кричат!
(Слышен крик.)
Чу! Слышу. Я объявлен вне закона,
Но с ложным простодушием в лице,
В лохмотьях жалких, я пройти сумею
В толпе, всегда обманутой, что судит
Согласно с тем, что кажется. И после,
Под именем другим, в стране другой,
Я почести покинутого Рима
Легко переменю на жизнь другую,
Создав ее по старым образцам,
Служа своим желаньям. И душа
Останется все тою же, а облик
Всего, что вне, послужит верной маской.
Но если происшедшее не даст мне
Покоя - никогда? О, нет, к чему же!
Никто о злодеяниях моих
Не будет знать! Зачем себя я буду
Своим же осуждением тревожить!
Ужели победить я не смогу
Бесплодных угрызений? Буду вечно
Рабом - чего? Бессмысленного слова,
Которое все люди применяют
Друг против друга, только не к себе,
Точь-в-точь, как носят шпагу, чтобы ею
При случае кого-нибудь убить
И защитить себя от нападенья.
Но, если я глубоко заблуждаюсь, -
Что буду делать, где тогда найду я
Личину, чтобы скрыться от себя,
Как я теперь сокрыт от чуждых взоров?
(Уходит.)
24. СЦЕНА ВТОРАЯ
Зал суда. Камилло, Судьи и прочие сидят. Вводят Марцио.
Первый судья
Ну что же, обвиняемый, как прежде,
Вы будете упорно отрицать?
Скажите, вы виновны в преступленье
Иль нет? Скажите, кто у вас зачинщик?
Иль, может быть, их несколько? Ответьте,
Но только, чтобы правду говорить!
Марцио
О Господи! Когда бы правду знал я!
Не я его убийца. Этот плащ,
Который для меня уликой служит,
Олимпио мне продал.
Второй судья
Взять его!
Первый судья
Ты смеешь побледневшими губами
Произносить бесстыднейшую ложь,
Еще дрожа от поцелуев дыбы?
Тебе, должно быть, очень полюбились
Объятья собеседницы такой?
Ты хочешь предоставить ей исторгнуть
Из тела жизнь и душу? Взять его!
Марцио
Пощады! О, пощады! Я признаюсь!
Первый судья
Скорей!
Марцио
Я задушил его во сне.
Первый судья
И кто подговорил тебя?
Марцио
Джакомо,
Его же сын родной, и с ним Орсино,
Прелат, меня отправили в Петреллу.
Там донна Беатриче вместе с донной
Лукрецией со мною говорили,
Меня прельстили тысячею крон.
И я с своим товарищем немедля
Убил его. Теперь меня казните.
Пусть я умру!
Первый судья
Признание звучит
Зловещею правдивостью. Эй, стражи!
Введите заключенных!
(Входят Лукреция, Беатриче и Джакомо под стражей.)
Посмотрите
На этого, что здесь стоит: когда вы
В последний раз с ним виделись?
Беатриче
Его
Мы никогда не видели.
Марцио
Синьора,
Я вам известен слишком хорошо.
Беатриче
Ты мне известен? Как? Когда? Откуда?
Марцио
Забыть вы не могли, что вы меня
Угрозами и подкупом склонили,
Чтоб вашего отца я умертвил.
Потом, когда убийство совершилось,
Вы, дав мне плащ с отделкой золотою,
Сказали мне, чтоб я преуспевал.
Как преуспел я, можете вы видеть!
И вы, синьор Джакомо, вы, синьора
Лукреция, не можете отречься
От правды слов моих.
(Беатриче приближается к нему; он закрывает свое лицо и отшатывается.)
О, не гляди
Так страшно на меня! Бросай на землю,
Бесчувственно-немую, взоры мести!
Они меня терзают. Это пытка
Из уст моих признание исторгла.
Молю, пусть буду я теперь казнен.
Беатриче
Мне жаль тебя, несчастный. Но помедли!
Камилло
Пусть он здесь ждет.
Беатриче
О кардинал Камилло,
Известно всем, как вы добры и мудры.
Возможно ли, что вы сидите здесь,
Возможно ли, что с вашего согласья
Разыгрывают этот низкий фарс?
Несчастного раба влекут насильно,
Терзают целым рядом страшных пыток,
Что могут самых смелых ужаснуть,
И требуют потом, чтоб он ответил
Не так, как говорит его душа,
А так, как палачи ему диктуют,
Вопросами ответ ему внушая:
И это под угрозой новых мук,
Таких, каких не знают в бездне Ада,
По благости Создателя. Скажите,
Когда бы ваше собственное тело
Раскинули на дыбе и сказали:
"Сознайтесь, что ребенок синеглазый,
Что был для вас звездою путеводной,
Племянник ваш, малютка, был отравлен
И яд подсыпан вашею рукою?" -
Хотя известно всем, что с той поры,
Как смерть его похитила внезапно,
Для вас земля и небо, день и ночь,
И все, на что была еще надежда,
И все, что было, все переменилось,
От тягости великой вашей скорби.
Скажите, вы бы в пытках не сказали:
"Да, я его убийца, сознаюсь",
Не стали бы мучителей просить,
Как этот раб, чтоб вам скорее дали
Прибежище в позорной, низкой смерти?
Прошу вас, кардинал, не откажитесь
Мою невинность громко подтвердить.
Камилло
(очень тронутый)
Синьоры, что вы скажете на это?
Стыжусь горячих слез своих, я думал,
Что в сердце их источник оскудел.
Готов своей душою поручиться,
Что нет на ней вины.
Один из судей
И все же нужно
Ее подвергнуть пытке.
Камилло
Я скорее
Свое согласье дал бы, чтобы мой
Племянник был подвергнут лютым пыткам
(Когда б он жил, он был бы тех же лет,
С такого ж точно цвета волосами,
С глазами, как у ней, но не такими
Глубокими, и цвета голубого).
Нельзя порочить лучший образ Бога,
Блуждающий в печали по земле.
Она чиста, как детская улыбка!
Судья
Прекрасно, монсиньор, но, если вы
Ее подвергнуть пыткам не хотите,
Пусть грех ее падет на вас. Его
Святейшества прямое повеленье -
Преследовать чудовищный поступок
По всей суровой строгости закона,
Его усилить даже в примененье
К преступникам. Они обвинены
В грехе отцеубийства, и улики
Настолько очевидны, что вполне
Оправдывают пытку!
Беатриче
Где улики?
Признание вот этого?
Судья
Ну, да.
Беатриче (к Марцио)
Поди сюда. Итак, ты, значит, выбран
Из множества живущих, чтоб убить
Невинного? Кто ж ты?
Марцио
Я был когда-то
Служителем у твоего отца.
Я Марцио.
Беатриче
Смотри в мои глаза
И отвечай на все мои вопросы.
(К судьям.)
Прошу вас наблюдать его лицо.
Он не похож на тех бесстыдно-наглых
Клеветников, которые не смеют
Сказать о том, что взором говорят;
Напротив, он сказать не смеет взглядом
Того, что говорит в словах, и взоры
Склоняет он к слепой земле.
(К Марцио.)
Так что ж!
Ты скажешь мне, что я отцеубийца?
Марцио
Молю! Пощады! Все во мне смешалось!
Что мне сказать? Свирепый ужас пыток
Меня принудил к правде. Дайте мне
Уйти отсюда прочь! Не позволяйте
Ей на меня глядеть! Я жалкий, низкий
Преступник; все, что знаю, я сказал:
Так дайте ж умереть теперь!
Беатриче
Синьоры,
Когда бы я была такой жестокой,
Чтоб это преступление задумать,
Как ваши подозрения диктуют
Вот этому злосчастному рабу,
Который их высказывает в страхе
Пред ужасами пыток, - неужели
Мне хитрость не велела б уничтожить
Орудье злодеянья моего?
Зачем же я оставила бы этот
Кровавый нож, с моей фамильной меткой
На черенке, среди моих врагов,
Для собственной моей грядущей казни?
Ужели я, нуждаясь бесконечно
В молчанье навсегда, не приняла бы
Такой предосторожности ничтожной,
Как сделать из его немой могилы
Хранилище для тайны роковой,
Записанной в воспоминанье вора?
Чт_о_ жизнь его, лишенная значенья?
Чт_о_ сотни жизней? Раз отцеубийца, -
Топчи их всех. Смотрите же, он жив!
(Обращаясь к Марцио.)
А ты...
Марцио
О, пощади меня! Не надо,
Не надо больше слов. Твои призывы
Торжественно-печальные, твой взор,
Одновременно полный состраданья
И строгости, терзают хуже пытки.
(К судьям.)
Я все сказал. Молю, во имя Бога,
Ведите же меня скорей на казнь.
Камилло
Пусть он поближе станет к Беатриче:
От взоров испытующих ее
Он так же уклоняется, как желтый
Осенний лист трепещет и бежит
От режущего северного ветра.
Беатриче
О ты, уже склонившийся над бездной,
Над пропастью, где слиты жизнь и смерть,
Помедли, прежде чем ты мне ответишь:
Тогда ты с меньшим ужасом предстанешь
С ответом пред Всеведущим Судьею.
Какое зло мы сделали тебе?
Чем я - увы? - могла тебя обидеть?
Здесь на земле, где жизнь, и день, и солнце,
Я прожила такую малость лет,
Исполненных томительной печали;
И участи моей угодно было,
Чтоб мой отец бездушно отравил
Все юные мгновенья утра жизни,
Всю радость расцветающих надежд;
Потом одним ударом беспощадным
Убил он душу вечную мою,
Убил мою нетронутую славу
И даже возмутил тот чистый мир,
Что тихо дремлет в нежном сердце сердца.
Но рана оказалась несмертельной,
И я одну лишь ненависть мою
Могла с тех пор влагать в мои молитвы,
Склоняясь пред Родителем всего,
Который, проникаясь милосердьем,
Как ты сказал, тебя вооружил,
Чтоб ты его убрал с лица земного.
И смерть его - улика на меня!
И кто же обвинитель? Ты! О, если
Ты ждешь еще пощады в небесах,
Яви же в этом мире справедливость, -
Пойми, что зачерствелость сердца хуже
Руки окровавленной. Если ты
Убийства совершал и целой жизнью
Топтал законы Бога и людей,
Побойся безрассудства, не бросайся
Пред вечным Судиею, восклицая:
"Создатель мой, я сделал то, и больше;
Там, на земле, я погубил одну,
Она была чиста, была невинна,
И вот за то, что вынесла она,
Чего не выносил еще доселе
Никто, - ни тот, кто чист, ни тот, в ком грех, -
За то, что ужас, выстраданный ею,
Не может быть ни понят, ни рассказан,
За то, что, наконец, Твоя рука
Ее освободила, я - словами -
Убил ее и всех ее родных".
Подумай, заклинаю, как жестоко
В умах людей навеки умертвить
Лелеемое ими преклоненье
Пред нашим древним домом, нашей славой,
Ни разу не запятнанной! Подумай,
Что значит задушить ребенка-жалость,
Которую во взорах прямодушных
Баюкает доверие. Подумай,
Что значит - и бесславием, и кровью
Навеки запятнать все то, на чем
Лежит печать, невинности и - Боже! -
Клянусь, что в самом деле есть невинность,
Которую ты властен осквернить
Настолько, что утратится различье
Меж хитрым диким взглядом преступленья
И тою чистотою, что теперь
Тебя зовет и властно принуждает
Ответить мне. Виновна я иль нет
В грехе отцеубийства?
Марцио
Невиновна!
Судья
Как? Что?
Марцио
Я объявляю здесь, что те,
Кого оговорил я, невиновны.
Виновен только я.
Судья
Пытать его.
На дыбу. К колесу. Пусть пытки будут
Утонченны и длительны, пусть в нем
Изгибы сокровенные порвутся.
Пытать его, пока он все не скажет.
Марцио
Пытайте как хотите. Худшей пытки
Не выдумать, чем та, что с губ моих,
Охваченных дыханием последним,
Сорвала правду высшую. Невинна, -
Она совсем невинна, говорю я!
Ищейки кровожадные, не люди,
Насытьтесь мной, но я вам не позволю
Сгубить такой бесценный перл земли!
(Марцио уходит под стражей.)
Камилло
Что ж вы на это скажете, синьоры?
Судья
Пусть пытки, как клещами, тянут правду.
Пока она, как снег, не побелеет,
Просеянный морозным ветром трижды.
Камилло
И в то же время кровью обагренный!
Судья
(к Беатриче)
Синьора, это вам письмо известно?
Беатриче
Не ставьте мне ловушек! Кто встает здесь
Как обвинитель мой? А! Это ты!
Судья, и обвинитель, и свидетель,
И все в одном лице? Я вижу имя
Орсино? Где Орсино? Позовите.
Пусть только взглянет он в мои глаза.
Что значит эта жалкая бумага?
А! Это неизвестно вам, и вы
В одном предположенье, что, быть может,
Здесь кроется какая-то вина,
Хотите нас убить?
(Входит офицер.)
Офицер
Преступник умер.
Судья
Что ж он сказал пред смертью?
Офицер
Ничего.
Лишь к колесу его мы привязали,
Он посмотрел с улыбкою на нас,
Как тот, кто над врагом своим смеется,
Дыханье задержал свое - и умер.
Судья
Нам больше ничего не остается
Как следствие сурово применить
К упорствующим этим заключенным.
Камилло
Я протестую против примененья
Дальнейшей процедуры. Я иду
Просить его Святейшество за этих
Невинных благороднейших людей
И постараюсь сделать все, что можно.
Судья
Итак, да совершится воля Папы.
А до тех пор пусть стража разместит
Преступников по одиночным кельям.
Держать орудья пытки наготове:
Сегодня ж ночью, если только Пап?
В решенье правосудном сохранит
Суровую решимость благочестья, -
Из этих жил, из этих нервов тонких,
Всю истину я вырву, стон за стоном.
(Уходят.)
25. СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Тюремная келья. Беатриче спит на постели. Входит Бернардо.
Бернардо
Как нежен сон в чертах ее лица.
Похожий на последние мечтанья
Пленительного дня, который был
Одним сплошным восторгом и с закатом
Замкнулся в ночь ив сны, и вот все длится.
Как после этих пыток, что она
Последней ночью вынесла без крика,
Легко ее дыханье. Горе мне!
Мне чудится, я больше спать не буду.
Но с этого закрытого цветка
Я должен, против воли, мир небесный
Стряхнуть, как блеск росы... Проснись! Проснись!
Сестра, ты можешь спать?
Беатриче
(пробуждаясь)
Мне сладко снилось,
Что мы в Раю. Ты знаешь, эта келья
Мне кажется каким-то светлым Раем,
С тех пор как спасена я от отца.
Бернардо
Сестра моя! Сестра! О Беатриче!
Когда бы сон твой не был только сном!
О Боже, как сказать тебе?
Беатриче
Мой милый,
Что хочешь ты сказать мне?
Бернардо
Не гляди же
Таким счастливым взглядом, а не то,
Подумав, чт_о_ тебе сказать я должен, -
Умру.
Беатриче
Вот ты меня заставил плакать.
Мой милый, как ты был бы одинок,
Когда б я умерла! Ну, говори же,
Что хочешь ты сказать?
Бернардо
Они признались;
Не в силах больше пытки выносить.
Они...
Беатриче
Признались? В чем? Чтобы потешить
Позорных палачей, сказали ложь.
И что ж они сказали? Что виновны?
Невинность белоснежная, и ты
Должна носить личину преступленья,
Чтоб скрыть спокойно-грозное лицо
Пред теми, кто совсем тебя не знает.
(Входят судья с Лукрецией и Джакомо, в сопровождении стражи)
О низкие сердца! Из-за того,
Чтоб избежать коротких спазм терзаний,
Которые, по меньшей мере, смертны,
Как эти члены, схваченные пыткой, -
Столетия величия и блеска
Повержены во прах, и эта честь.
Которая должна была, как солнце,
Сиять превыше дыма смертной славы,
Навеки стала жалкою насмешкой,
Позорной кличкой? Как? Так вы хотите,
Чтоб эти благородные тела,
Привязанные к бешеным копытам
Свирепых лошадей, вздымали пыль, -
Чтоб мы волной волос своих сметали
Следы слепой бесчувственной толпы,
Тех жалких, для которых наше горе
Покажется настолько любопытным,
Что, выбежав на зрелище такое,
Они оставят церкви и театры
Пустыми, как сердца их? Эта чернь
По прихоти, когда пойдем мы мимо,
Начнет швырять проклятья или жалость
Безумную, как мертвые цветы,
Прикрасу для живых - полуумерших.
Какую ж мы оставим память? Кровь,
Бесславие, отчаянье и ужас?
О ты, что мне была как мать родная,
Не убивай дитя свое! И пусть
Тебя мои обиды не погубят.
О брат, пойдем скорей со мной на дыбу!
Мы будем вместе так молчать, как только
Молчать умеет труп; и вскоре пытка
Нам будет как покойный тихий гроб!
Одно лишь может сделать пытку страшной
Ее способность вырвать слово лжи.
Джакомо
В конце концов и ты им скажешь правду,
От ужаса таких свирепых мук;
Скажи из сострадания, скажи им,
Что ты виновна.
Лукреция
О, скажи им правду!
Позволь нам умереть, и после смерти
Нам будет Бог судья, а не они;
Он сжалится над нами.
Бернардо
Если это
Действительно так было, так скажи им,
Сестра моя, и Папа вас простит,
И все тогда забудется.
Судья
Сознайтесь,
А то я ваше тело так скручу
Свирепой пыткой...
Беатриче
Пыткой! С этих пор
Пусть дыба станет прялкою! Пытайте
Голодных ваших псов, чтобы они
Сказали вам, когда они лизали
В последний раз ту кровь, что пролил здесь
Хозяин их, - меня пытать нельзя!
Мои мученья - в разуме и в сердце,
В сокрытых тайниках моей души.
Рыдающей слезами жгучей желчи
При мысли, что в ничтожном этом мире
Никто себе не верен, и мои
Родные - от самих себя - бежали.
И если я подумаю о том,
Как я была несчастна в этой жизни
И как ко мне и к тем, кого люблю я,
Несправедливы Небо и Земля,
И чт_о_ ты за мучитель, чт_о_ за трусы
Вот эти малодушные рабы, -
В моей душе встают такие пытки,
Что я к ответу вынуждена. Ну?
Судья
Ответь, виновна ль ты в отцеубийстве?
Беатриче
Не хочешь ли скорее обвинить
Всевышнего Создателя за то, что
Позволил Он тому произойти,
Что я снесла и что Он видел с неба;
Что сделал безымянным, у чего
Он отнял все, прибежище, защиту, -
Оставить только то, что ты зовешь
Отцеубийством? Есть ли грех иль нет
В том, что людьми зовется преступленьем,
И я виновна в нем иль невиновна,
Как хочешь, так реши. Мне все равно.
Я больше ничего не отрицаю.
Когда ты хочешь так, да будет так,
И кончено. Свою исполни волю.
Пытай, но я ни слова не прибавлю.
Судья
Она уличена, но не созналась.
Довольно и того. Теперь, пока
Последний приговор не вступит в силу,
Чтоб к ним не приходил никто.
Синьор Бернардо, уходите!
Беатриче
О, прошу вас,
Пусть он со мною здесь побудет!
Судья
Стражи,
Ваш долг.
Бернардо
(обнимая Беатриче)
Не разлучайте душу с телом!
Офицер
То дело палача.
(Уходят все, кроме Лукреции, Беатриче и Джакомо.)
Джакомо
Так я сознался?
Все кончено, и больше нет надежды!
О слабый, о позорный мой язык,
Зачем тебя не вырвал я, зачем
Не выбросил собакам! О несчастный,
Убить отца, потом предать сестру,
Тебя, безгрешный ангел, в этом мире,
Где всюду черный грех, тебя предать
Заслуженной лишь мною лютой казни!
Жена моя! И маленькие дети!
Одни! В нужде! И я - отец! О Боже!
Простишь ли непростившим, если сердце
У них на части рвется - так - вот так!
(Закрывает свое лицо и плачет.)
Лукреция
Дитя мое родное, как могли мы
Прийти к такому страшному концу?
Как я сдалась? Зачем не поборола
Мучений? О, зачем я не могу
Излить себя в своих слезах бесплодных,
Которые, не чувствуя, бегут!
Беатриче
О том, что было слабостию сделать,
Раз сделано, жалеть - двойная слабость.
Смелей! Господь мою обиду знал,
Чрез нас Им был ниспослан ангел мести,
Теперь Он нас как будто бы покинул,
Но это только кажется, и мы,
Я верю, не умрем. Поди поближе,
Мой милый брат, дай руку, ты мужчина,
Смелее же! И ты, моя родная,
Прильни ко мне усталой головою,
Попробуй задремать: твои глаза
Измучены бессонницей и скорбью,
Отяжелели веки. Ну, приляг,
А я, склонясь к тебе, спою тихонько
Какой-нибудь медлительный напев,
Ни грустный, ни веселый, а дремотный;
Так, что-нибудь из давних-давних лет,
Созвучья песни смутно-монотонной,
Одну из тех, что пряхи напевают,
Пока они почти совсем забудут,
Живут иль не живут они на свете.
Приляг. Вот так, родная! Как же быть?
Слова я позабыла? Нет, но, право,
Не знала я, что так они печальны!
Песня
Неверный друг моей мечты,
Вздохнешь ли ты, поймешь ли ты,
Что твой умерший друг не дышит?
Но что улыбка, что слеза
Для тех, кого смела гроза!
Живого мертвый не услышит.
Конец - мечтам.
Кто шепчет там?
Змея в твоей улыбке! Милый!
В твоих слезах - смертельный яд,
Так это правду говорят,
Что видишь правду - над могилой!
О, если б мог быть смертным сон,
О, если б смерть была как он,
Такой же ласковой и нежной,
Глаза смежила б я тогда,
Чтобы забыться безмятежно,
И не проснуться - никогда!
О мир! Прости.
Пора идти.
Ты слышишь звон?
То стон разлуки.
Два сердца врозь; в твоем - покой,
В моем, истерзанном тоской,
Неумирающие муки!
(Сцена закрывается.)
26. СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ
Тюремный зал. Входят Камилло и Бернардо.
Камилло
Нет, Папа беспощаден. Невозможно
Его смягчить или хотя бы тронуть.
Он смотрит так пронзительно-спокойно,
Как будто он орудье лютой казни,
Которая терзает, но других,
Убьет, но не себя; он - точно камень,
Глухое изваянье, свод закона,
Устав церковный, но не человек.
Он хмурился: как будто хмурить брови, -
В его душе, как в скудном инструменте,
Пружиною единственною было:
Он хмурился. Защитники ему
Записки докладные подавали,
А он их рвал в клочки и безучастно
Охрипшим жестким голосом ворчал им:
"Кто между вас защитник их отца,
Убитого во сне?" Потом к другому:
"Ты это говоришь по долгу чина;
Прекрасно, одобряю". - И затем
Ко мне он повернулся, и, увидя,
Что у меня в глазах стоит мольба,
Он два лишь слова холодно промолвил:
"Убийцам - смерть!"
Бернардо
Но вы не отступились?
Камилло
Я продолжал настаивать как мог;
Сказал об этом адском оскорбленье,
Которое ускорило погибель
Безжалостного изверга-отца.
А он в ответ: "Паоло Санта Кроче
Вчера убил свою родную мать
И спасся бегством. Да, отцеубийство
Теперь совсем не редкость, - и, наверно,
Коль не сегодня, завтра молодежь, -
Конечно, по какой-нибудь причине,
Разумной, уважительной, - задушит
Нас всех, когда дремать мы будем в креслах.
Влиянье, власть и волосы седые
Теперь тяжелым сделались грехом.
Вы мой племянник, вы ко мне явились
Просить, чтоб я простил их. Подождите.
Вот приговор. Возьмите, и пока
Он выполнен не будет, и буквально, -
Ко мне не приходите".
Бернардо
Боже мой!
Не может быть! Не может быть! Я думал,
Что все, что говорили вы, есть только
Печальное начало, за которым
Последует желаннейший конец.
О, есть же взгляды, есть слова такие,
Что самого жестокого смягчат!
Когда-то я их знал, теперь, когда мне
Они нужней всего, я их забыл.
Что, если б я его сейчас увидел,
Горячими и горькими слезами
Омыл его стопы, его одежду?
Теснил его моленьями, терзал
Его усталый ум докучным криком,
И до тех пор свой стон не прерывал,
Пока, объятый бешенством, меня бы
Он не ударил посохом своим
И голову простертую не стал бы
Топтать, топтать, пока не брызнет кровь!
Быть может, он раскаяньем проникся б,
И в нем бы вдруг проснулось милосердье?
О, да, я так и сделаю! Прошу вас
Дождитесь моего прихода здесь!
(Стремительно убегает.)
Камилло
Увы! Несчастный мальчик! С тем же самым
Успехом погибающий моряк
Воззвал бы с корабля к глухому морю.
(Входят Лукреция, Беатриче и Джакомо, в сопровождении стражи)
Беатриче
Мне кажется, едва ли я должна
Надеяться на что-нибудь другое,
Как не на то, что ты теперь приносишь
Известие, что Папа нас простил.
Камилло
Пусть Бог на небесах к молитвам Папы
Не будет так неумолимо глух,
Как Папа был к моим! Вот полномочье,
Вот смертный приговор.
Беатриче (дико)
О Боже мой!
О Господи, как может это быть -
Так умереть внезапно? Молодою.
Лежать в земле, холодной, влажной, мертвой,
Средь разложенья, мрака и червей;
Забитой быть в каком-то узком месте,
Не видеть больше солнечного света,
Не слышать голосов живых существ,
Не думать о вещах давно знакомых,
Печальных, но утраченных, вот так...
Ужасно! Быть ничем! А то - но чем же?
Ничем! О Боже, где я? Умоляю,
Не позволяйте мне сходить с ума!
О Господи, прости мне эти мысли!
Чт_о_ если бы в пустом бездонном мире
Не стало Бога, Неба и Земли!
Чт_о_, если б всюду был бесцветный, серый,
Раскинутый, слепой, безлюдный мир!
Чт_о_, если вдруг тогда все станет духом
Его, отца, начнет меня теснить,
Обступит, как его прикосновенье,
Как взгляд его, как голос, - всюду будет
Тяжелое дыханье мертвеца!
Чт_о_, если он придет в той самой форме,
В какой меня он мучил на земле,
Так страшно на себя во всем похожий,
С морщинами, с седыми волосами,
Придет ко мне в той мертвой полумгле
И адскими объятьями охватит,
В мои глаза вонзит свои глаза
И повлечет все ниже, ниже, ниже!
Не он ли на земле был всемогущим,
Одним лишь он, повсюду и всегда?
И даже мертвый всеми он владеет -
Вошел в живых, как дух, внушает им
Все то, в чем боль, отчаянье, презренье
И гибель для меня и для моих!
Как знать! Еще никто не возвращался
Разоблачить законы царства смерти,
Где нет следов, оставленных живыми!
Быть может, та же там несправедливость,
Которая нас гонит здесь - куда?
Лукреция
Вручи себя любви живого Бога
И кротким обещаниям Христа!
Мы вступим в Рай еще до этой ночи.
Беатриче
Теперь прошло. И что бы ни случилось,
Мне сердце уже больше не изменит.
И все же - почему, не знаю, право, -
Твои слова так холодно звучат.
Мне кажется, что все кругом так низко,
Так холодно и тускло. В этом мире
Я видела всегда несправедливость.
И никогда ни Бог, ни человек,
Ни эта власть безвестная, что вечно
Моей судьбой несчастной управляла,
Не делали различья для меня
Между добром и злом. На утре жизни
Я лишена единственного мира,
Который знаю; нет мне ничего -
Ни жизни, ни любви, ни света солнца.
Ты хорошо сказала мне о Боге,
Что я должна вручить себя Ему:
Надеюсь, что в Него могу я верить.
В кого ж еще возможно верить здесь?
И все-таки в душе мертвящий холод.
(Пока она произносила последние слова, Джакомо в стороне говорил с Камилло,
который теперь уходит. Джакомо приближается.)
Джакомо
Родная, ты не знаешь, - ты, сестра,
Не знаешь: ведь как раз теперь Бернардо
Пред Папой преклоняется с мольбами,
Прося о снисхождении для нас.
Лукреция
Быть может, он и вымолит прощенье.
Мы будем жить, и эти муки станут
Как сказка для грядущих дальних лет.
О, только я подумала об этом,
И к сердцу кровь прихлынула волной.
Беатриче
Уж скоро в нем не будет больше крови.
Гони скорее эту мысль. Надежда
Ужаснее отчаянья, ужасней,
Чем горечь смерти. В этот страшный час,
Влекущий к бездне узкою тропинкой,
Что с каждым шагом делается уже,
У нас одно несчастье только есть:
Надежда. Лучше спорь с морозом быстрым.
Проси его, чтоб он не убивал
Цветов весны, не вовремя расцветших;
Прося землетрясенье не взметаться,
Скажи, что города над ним стоят,
Могучие, прекрасные, - быть может,
Оно задержит взрывы черноты,
Не выбросит смертельных токов дыма;
Ходатайствуй пред голодом; проси
Заразу ветроногую, сверканья
Слепых и быстрый молний; умоляй
Глухое море, - но не человека!
А! Он жесток, он весь живет во внешнем;
Он холоден; в словах он справедлив, -
В делах он - Каин. Нет, о, нет, родная,
Нам нужно умереть, - уж раз такая
Отплата за невинность - облегченье
От самых горьких зол. И до тех пор.
Пока убийцы наши торжествуют,
Живут себе, бездушные, тихонько
Идя сквозь мир скорбей к могиле мирной,
Где смерть с улыбкой встретит их, как сон, -
Родная, нам одна осталась радость,
И эта радость странная - могила.
Приди же, Смерть, и заключи меня
В свои всеобнимающие руки!
Как любящая Мать, меня сокрой
На ласковой груди и убаюкай,
Чтоб я заснула сном непробудимым,
Которым, раз заснувши, будешь спать.
Живите ж вы, живущие, сливайтесь
Один с другим в позорной, рабской связи,
Как некогда сливалися и мы,
Идущие теперь...
(Бернардо вбегает.)
Бернардо
О, ужас, ужас!
Напрасно все, рыдания, мольбы
Настойчивых и неотступных взглядов,
Отчаянье умолкнувшего сердца,
Напрасно все! У самой двери ждут
Прислужники немой, угрюмой смерти.
Мне чудится, у одного из них
Я на лице заметил пятна крови, -
Иль, может быть, мне только показалось?
Уж скоро кровь из сердца тех, кого
Люблю я в этом мире, брызнет ярко
На палача, а он лишь оботрется,
Как будто это брызнул только дождь.
О жизнь! О мир! Когда бы мог я скрыться!
Не жить! Не быть! Я должен видеть гибель
Невинности чистейшей. Та зеркальность,
В которую гляделся я всегда -
И делался счастливей, - предо мною
Должна разбиться в прахе. Беатриче,
Тебя, которой мир был так украшен,
Что пред тобой все делалось милей.
Тебя, свет жизни, должен я увидеть
Холодной, мертвой! Я скажу: "Сестра",
Мне скажут: "Нет сестры!" - И ты, родная,
Связавшая нас всех своей любовью,
Ты - мертвая! Порвалась связь!
(Входят Камилло и стража)
Идут!
Скорей, скорей! Живые эти губы
Скорей поцеловать, пока на них
Румяные цветы еще не смяты,
Не стали тускло-бледными, немыми!
Скажи мне: "До свидания!", пока
Не задавила смерть твой нежный голос.
О, дай услышать, как ты говоришь!
Беатриче
Мой брат, прощай, будь счастлив. Думай вечно
О нашей горькой участи с любовью,
Как думаешь теперь. И пусть твоя
Любовь и жалость к нам тебе послужат
Усладою в страданиях твоих.
Не отдавайся грусти безутешной,
В отчаянье холодном не замкнись, -
А знай всегда терпение и слезы.
Дитя мое, еще одно запомни:
Будь верен нам, будь тверд в своей любви,
Твоя душа себе найдет в ней благо.
Будь верен убеждению, что я,
Окутанная тенью необычной,
Туманом преступленья и стыда,
Была всегда святой и безупречной.
И если даже злые языки
Начнут терзать мое воспоминанье,
И наше имя общее, как кличка,
К тебе прильнет мучительным клеймом,
И каждый на тебя в толпе укажет, -
Щади, жалей и никогда не думай
Дурного ничего о тех, чьи души,
Быть может, там в гробах тебя жалеют.
И смерть тебе покажется не страшной,
Ты встретишь смертный час, как я, спокойно!
Без горечи. Прощай! Прощай! Прощай!
Бернардо
Я не могу промолвить - до свиданья!
Камилло
О донна Беатриче!
Беатриче
Кардинал,
Прошу вас, не скорбите, не тревожьтесь.
Родная, завяжи мне этот пояс
И заплети мне волосы - вот так -
В какой-нибудь простой непышный узел.
И у тебя распутались они.
Мы часто их друг другу заплетали,
В вечерний час и утренней порой, -
Но это безвозвратно. Мы готовы.
Идем. Так хорошо. Все хорошо.
27. КОММЕНТАРИИ
Написана в 1819 году.
Лей Гент (Ли Хант) - поэт и друг Шелли.
И вновь К. Бальмонт всего в нескольких словах дает великолепную
характеристику одной из лучших трагедий, написанных после В. Шекспира: "В
этой трагедии он (Шелли) предстал как один из могучих властелинов поэзии
ужаса и показал, что, твердо веря в полную окончательную победу Света, он
ясно сознает, как глубоко может падать человеческое сознание и в какие
страшные и странные переходы может уходить запутанная мысль".
Предисловие.
...портрет La Cenci. - В течение XIX столетия авторство действительно
приписывалось итальянскому живописцу Гвидо Рени (1575-1642), сочетавшему
изящество рисунка с холодной идеализацией образа. В настоящее время его
авторство оспаривается.
...две драмы, излагающие рассказ об Эдипе... - Шелли имеет в виду
трагедии Софокла "Царь Эдип" и "Эдип в Колоне".
Замок Петрелла - Рокка Петрелла, поместье графов Ченчи.
Папство Климента VIII - 1592-1605 гг.
Л. Володарская
Перси Биши Шелли. Адонаис
Элегия на смерть Джона Китса,
автора _Эндимиона, Гипериона_ и др.
Ты блистал сперва среди живых как
утренняя звезда; теперь, когда ты умер, ты
горишь, как Веспер, среди тех, которые жили.
Платон
2. ПРЕДИСЛОВИЕ
Какой яд, о Бион, осквернил твои уста,
какой роковой яд мог коснуться твоих уст и
не смягчиться? Какой смертный мог быть
настолько диким, чтоб налить и дать тебе яду,
когда ты говорил, или чтобы бежать от твоей
песни?
Мосх, Эпитафия Биону
Я намерен присоединить к лондонскому изданию этой поэмы критическое
рассуждение о правах того, кто здесь оплакан, на место в ряду гениальнейших
писателей, украсивших собою наш век. Моя хорошо известная неприязнь к тем
узким эстетическим принципам, сообразно с которыми были написаны некоторые
из его ранних произведений, доказывает, по меньшей мере, что я
беспристрастный судья. Я нахожу, что отрывок _Гипериона_ не был превзойден
ни одним из произведений какого бы то ни было писателя в таком возрасте.
Джон Китc умер в Риме от чахотки, 23 февраля 1821 года, на двадцать
четвертом году своей жизни. Он похоронен на Протестантском кладбище,
романтическом и уединенном, под пирамидальной гробницей Цестия и под
массивными стенами и башнями, которые служили когда-то окружной чертой
Древнего Рима, а теперь, разрушаясь, находятся в безутешном небрежении.
Кладбище представляет из себя открытое пространство между руинами, усеянное
зимою фиалками и маргаритками. Можно было бы полюбить смерть при мысли, что
будешь похоронен в таком очаровательном месте.
Гений оплаканного поэта, памяти которого я посвятил эти недостойные
стихи, был столько же деликатен и хрупок, сколько прекрасен; и удивительно
ли, что молодой его цветок увял, не раскрывшись, если он вырос там, где
изобилуют черви? Дикий критический разбор _Эндимиона_, появившийся в
_Quarterly Review_, произвел самое болезненное впечатление на его
впечатлительную натуру; волнение, вызванное этим, причинило разрыв
кровеносного сосуда в легких, последовала скоротечная чахотка, - и выражение
симпатий со стороны более справедливых критиков, видевших истинные размеры
его творческих сил, было бессильно залечить рану, нанесенную так
неосмотрительно.
Поистине эти несчастные не знают, что творят. Они распространяют свои
оскорбления и клевету, не заботясь о том, коснется ли ядовитая стрела
сердца, сделавшегося зачерствелым от множества ударов, или такого, как
сердце Джона Китса, созданное из более проницаемого вещества. Один из этих,
лично мне известный, представляет из себя самого низкого и бесчестного
клеветника. Что касается Эндимиона, каковы бы ни были недостатки этой поэмы,
может ли она быть обсуждаема презрительно теми, кто прославил в панегириках
_Paris_ и _Women_, и _Syvian Tale_, и мистрис Лефаню, и м-ра Барретта, и
м-ра Говарда Пайна, и целый ряд знаменитых неизвестностей? Не эти ли
господа, в своей продажной угодливости, возымели мысль провести параллель
между почтенным м-ром Мильманом и лордом Байроном? На какую мошку они здесь
напали, пожравши всех этих верблюдов? В какую женщину, застигнутую на
прелюбодеянии, дерзнет бросить камень осуждения первый из этих литературных
прелюбодеев? Несчастный! Будучи самым низким из низких, вы посмели
безрассудно исказить одно из лучших созданий Бога. Плохое оправдание для
вас, что, убивая, вы убивали словами, а не кинжалом.
Обстоятельства, сопровождавшие последние дни Китса, сделались мне
известными лишь после того, как данная Элегия уже вся была написана. Мне
рассказывали, что рана, нанесенная этой впечатлительной душе отзывами об
_Эндимионе_, была усилена горькой мыслью о неотплаченных благодеяниях; как
кажется, бедный поэт был удален с жизненной сцены не только теми, для
которых он истратил свой многообещающий гений, но и теми, кому он отдал все
свое достояние и все свои заботы. За ним последовал в Рим, бывший около него
в последние дни, мистер Северн, молодой художник, подающий большие надежды;
как мне сообщили, "он почти рисковал своей жизнью и отказался от всяких
забот о себе, всецело посвятив себя ухаживанию за умирающим другом". Если бы
я знал об этих обстоятельствах, прежде чем моя поэма была окончена, у меня
было бы истинное искушение прибавить мою слабую дань одобрения той более
прочной награде, которую человек достойный находит в воспоминании о своих
собственных побудительных мотивах. М-р Северн может обойтись без награды,
сотканной "из того вещества, из которого созданы сны". Его поведение есть
счастливое предзнаменование успешности его будущей деятельности, - и пусть
неугасимый Дух его знаменитого друга оживит создания его кисти и будет
предстательствовать за него пред лицом Забвения.
Адонаис
3. 1
Мертв Адонаис. Плачьте все со мной!
Он мертв. Заплачем, хоть нельзя слезами
Оттаять холод этот ледяной.
Ты, самый мрачный час между часами,
Приговоренный плакать вместе с нами,
Скажи своим: "Возлюбленного нет,
Но будущее всеми чудесами
Затмить не смеет этих юных лет,
Отзвучье вечное и вечно яркий свет".
4. 2
Где ты была, Урания-царица,
Когда лежал твой сын, пронзен копьем,
Во тьме ночной? Куда могла ты скрыться?
Смежила ты глаза в раю своем,
И задрожали отзвуки кругом,
Мелодии дыханьем воскрешая,
В которые перед своим врагом
Он облачился, нет, не устрашая,
Смерть близкую свою цветами украшая.
5. 3
Мертв Адонаис. Плачьте все со мной!
Рыдай в своем пределе отдаленном,
Урания, но нет, во тьме ночной
Не лучше ли на ложе раскаленном
Застыть слезам, - скорбям неутоленным
Забыться с ним в его безмолвном сне?
И тем, кто мудр, всем душам просветленным,
Не пробудиться в жадной глубине:
Немую песнь пожрав, смеется Смерть на дне.
6. 4
Певучая печаль! Заплачем снова!
Загублен снова властелин струны,
Наследник старца, нищего, слепого.
Пока величие своей страны
Рабы, жрецы, тираны, ведуны
Топтали, проливая кровь при этом,
Обрядом гнусным объединены,
Навеки в небо вопреки наветам
Вознесся третий дух, рожденный горним светом.
7. 5
Певучая печаль! Заплачем вновь!
Не всем стремиться к пламенной вершине.
Счастливей тот, чье счастье и любовь,
Как свечка в темноте времен, поныне,
Когда светила меркнут, и в гордыне,
Столь ненавистной людям и богам,
Низвержен гений, гаснет он в пустыне,
А если жив, то, вопреки врагам,
Идет за славою в далекий вечный храм.
8. 6
Цветок сегодня сокрушен грозою,
В котором вся любовь была жива,
Вспоен девичьей чистою слезою,
Питомец хрупкий твоего вдовства.
Певучая печаль! К чему слова?
Конец любви! Конец надежде смелой!
Раскрылись лепестки едва-едва,
Завистливая буря налетела,
И вместо всех плодов - безжизненное тело.
9. 7
В столице разрушительных эпох,
Где Смерть царит над красотою тленной,
Он приобрел за свой чистейший вздох
Себе могилу посреди вселенной,
Где вечность веет, где благословенный
Лазурный италийский небосвод -
Достойный склеп для скорби сокровенной.
Кто на покой последний посягнет?
В своем росистом сне усталый отдохнет.
10. 8
Нет, никогда ему не пробудиться!
Тень белой смерти в сумерках быстрей
Ползет по склепу. Тление стыдится
И мешкает невольно у дверей,
Залюбовавшись жертвою своей.
Ждет вечный Голод, самый кровожадный
И самый хищный зверь из всех зверей,
Когда дерзнет накинуть сумрак хладный
На эту красоту покров свой безотрадный.
11. 9
Оплачем Адонаиса! Мечтам,
Посланницам крылатым помышлений,
Его стадам питаться нечем там,
Где пел для них любвеобильный гений,
Мелодиями вместо наставлений
Воспитывая. - Нет! пресекся путь,
И возжигать в умах нельзя стремлений;
Возникнуть, и поникнуть, и заснуть
В отчаянье, когда застыла эта грудь.
12. 10
Над ним крылами лунными всплеснула,
Потрогав лоб ему, мечта одна:
"Не умер он! Сквозь шелк ресниц блеснула
Слезинка, вестница немого сна.
На дремлющем цветке роса видна!"
Дочь смертная загубленного рая,
Слезы своей не узнает она
И, чистая, бледнеет, исчезая,
Как тучка, стоит ей заплакать в царстве мая.
13. 11
Одна мечта бальзамом звездных рос
Навеки тело легкое омыла;
Пожертвовав с кудрями россыпь слез,
Мечта другая все венцы затмила,
А третья бы сама переломила,
Не выдержав причудливой тоски,
Лук меткий свой, когда ничто не мило,
Когда погашен льдом его щеки
Зубчатый пламень стрел всем целям вопреки.
14. 12
Недвижных уст коснулся луч проворный.
Целуя вдохновительный исток,
Наперекор премудрости дозорной
Он тронуть сердце, полное тревог,
Молниеносной музыкою мог;
Но поцелуй погашен смертью льдистой;
Как метеор, блуждая без дорог,
Пятнает нимб луны морозно-мглистой,
Он в бедности мелькнул зарницею струистой.
15. 13
Крылатые мольбы среди других,
И судьбы, не подняв своей вуали,
И тени в сонме проблесков благих,
И вздохи, племя робкое печали.
Блаженство со слезами, как вначале,
Ведомое улыбкой вместо глаз,
Торжественно и скорбно выступали,
Как будто собрались в последний раз.
Так над водой туман клубится в ранний час.
16. 14
Мертв Адонаис. Мысль преображала
Все, что любил он: облик, запах, цвет.
Заря на горизонте задрожала:
Сквозь волосы в слезах закапал свет,
Которым прежде был весь мир согрет:
Гром скорбно застонал среди тумана,
Рыдают ветры дикие в ответ,
Летая по вселенной неустанно,
И в беспокойном сне просторы океана.
17. 15
Затеряно среди безгласных гор,
Его напев беззвучно вспоминая,
Тоскует эхо; звонкий птичий хор,
Песнь дровосеков, музыка лесная -
Все без ответа; нимфа как больная
Без этих губ, которые милей
Тех, по которым плакала немая,
Став тенью звуков; и среди полей,
И в дебрях только всхлип в ответ природе всей.
18. 16
Скорбит весна, и падают бутоны,
Подобно листьям осени сухим.
Почиет мрачный год под эти стоны,
Покинутый возлюбленным своим.
Был Фебом Гиацинт не так любим,
Не так Нарцисс любим самим собою,
Как он любим обоими. Над ним
Завяли обделенные судьбою.
Не запах, нет, печаль над пажитью любою.
19. 17
Не так скорбит, рыданьем тронув лес,
Душа мелодий скорбных, Филомела;
Не так скорбит орлица, дочь небес,
Где некому летать легко и смело,
Когда гнездо навеки опустело,
Как, Адонаис, о тебе скорбит
Твой Альбион теперь, когда взлетела
Душа твоя испуганно в зенит,
И проклят каин тот, которым ты убит.
20. 18
Ушла зима, но не уходит горе,
Хотя повсюду веянье тепла,
И ветры и потоки в дружном хоре;
Проснулся муравей, жужжит пчела,
И ласточка-певунья весела,
Щебечут птицы в каждом перелеске,
В дубраве мшистым гнездам нет числа,
И ящерка скользит в зеленом блеске,
И змеи по весне как золотые всплески.
21. 19
Через холмы, дубравы и моря
Из недр земных, как воды ключевые,
С тех пор как первая взошла заря
И, возвещая сдвиги вековые,
Над хаосом вознесся Бог впервые,
Жизнь хлещет, и, в нее погружены,
Приветливы светила кочевые,
И все стихии в чаянье весны
Облагорожены и преображены.
22. 20
И под землей, почуяв дух отрадный,
Дразня червя, глотающего прах,
Цветами труп дохнул в могиле смрадной,
Как будто звездный свет живет в цветах,
И смерть благоухает на устах;
Нет смерти, только смертный ум встревожен
И за себя испытывает страх;
И должен меч распасться прежде ножен,
Слепою молнией внезапно уничтожен.
23. 21
Так, значит, все, что мы любили в нем,
То, что любых сокровищ драгоценней,
Похищено одним жестоким днем,
Который смертен сам на этой сцене?
А кто же мы? В кровопролитной смене
Актеры или зрители? В долгу
У смерти жизнь: чем зеленей, тем тленней.
Всех встречных губит время на бегу,
Подобно самому свирепому врагу.
24. 22
Нет, никогда ему не пробудиться!
"Откликнись, мать бездетная! Рыдай! -
Взывает скорбь. - Какая боль гнездится
В груди твоей! Слезам пролиться дай! -
Его страдание перестрадай!"
"Воспрянь!" - донесся хор немых отзвучий
С мольбой мечтаний в безутешный рай,
И, памятью терзаемая жгучей,
Она воспрянула в своей тоске могучей.
25. 23
Воспрянула, как на востоке ночь,
Которая землею завладела,
Когда, гонимый, улетает прочь
Осенний день, как дух, покинув тело,
И, словно труп, земля похолодела.
Так скорбный страх Уранию настиг,
И мгла распространилась без предела,
И путь угрюмый безнадежно дик
Туда, где в темноте сияет мертвый лик.
26. 24
Покинула Эдем свой потаенный
И, в мире не найдя другой тропы,
Вступила в этот город непреклонный,
Где сталь, где камень, где сердца толпы
Ей ранили незримые стопы;
За нежность языки и мысли мстили,
Исподтишка язвили, как шипы,
И капли крови, сестры красных лилий,
Цветами вечными бесплодный путь мостили.
27. 25
Как будто в склепе строгий судия,
При ней, всевластной, смерть сама смутилась
И покраснела до небытия;
И, кажется, дыханье возвратилось
К нему на губы, так что засветилась
Жизнь бледная... "Побудь! Повремени,
Чтобы во тьме звезда не закатилась!" -
Урания вскричала, - и они
Со смертью ласковой одни в ее тени.
28. 26
"Ответь! Заговори со мною снова!
Хоть поцелуем только мне ответь!
Пусть будет поцелуй короче слова,
В пустой груди твоя частица впредь -
Для памяти достаточная снедь,
Мой Адонаис, если в этом склепе
С тобою не дано мне умереть,
Хотя не жаль мне всех великолепий
И время для меня подобно вечной цепи.
29. 27
Зачем же ты покинул торный путь,
Мой нежный сын, в своей мятежной вере
Осмелившись до срока посягнуть
На змея ненасытного в пещере?
Возрос бы ты, как месяц в горней сфере,
Копье-насмешку и зеркальный щит,
Щит мудрости обрел бы, так что звери
Бежали бы, как в ужасе бежит
Олень от них самих, чудовищных на вид.
30. 28
Голодный волк, отважный лишь в погоне,
Крикливый вран, который трупам рад,
Гриф, зоркий страж бесчисленных агоний,
Жестоких победителей собрат,
Который на крылах разносит смрад,
Спешили скрыться, стоило герою
Лук натянуть, смеясь, и супостат,
Напуганный недетскою игрою,
В смятении пяту лизал ему порою.
31. 29
С восходом солнце ясное царит,
И в ласковых лучах плодятся гады.
Закат - кончина всех эфемерид,
И пламенеют в небе мириады
Бессмертных звезд, и люди свету рады,
Когда восходит гений ради них,
В пути своем не ведая преграды;
Поник - и больше нет роев земных;
Лишь родичи его среди пространств ночных".
32. 30
Шли пастухи с гирляндами сухими,
Волшебные одежды разорвав;
Паломник Вечности пришел с другими,
Столь рано в жизни восторжествовав;
В своем небесном нимбе величав.
Облек он песню сумрачным покровом,
Как молнию среди глухих дубрав;
В Ирландии рожден, в краю суровом,
Нежнейший лирик шел с певучим скорбным зовом.
33. 31
Как призрак бледный в сборище людском,
Как туча в миг прощанья с небосклоном,
Когда последний отдаленный гром
Тревожит землю похоронным звоном,
Был тот, кто зваться мог бы Актеоном,
Увидев обнаженные красы
Самой природы вопреки законам;
С тех пор несутся годы, как часы,
И мысли гонятся за ним, как злые псы.
34. 32
Как барс в роскошном царственном движенье,
Дух некий дивный, словно красоту,
Любовь снедает; мощь в изнеможенье,
И этот миг ему невмоготу;
Так меркнет свет, впадая в темноту;
Надломлена волна; и на востоке
Смеется солнце, жизнь губя в цвету;
Дождь высох в небесах, скудеют соки,
И тлеет в сердце смерть, но пламенеют щеки.
35. 33
Увенчанный фиалками пришел,
Хотя венок его поблек в тумане.
Тирс, весь в плюще росистом, не тяжел,
Но трепетал он в этой слабой длани,
Как сердце вопреки смертельной ране.
Не глядя на попутчиков иных,
Пришел последний в этом скорбном клане;
Так, раненный, на пастбищах лесных
Олень сторонится оленей остальных.
36. 34
Не требуя других примет и знаков,
Услышав этот неумолчный стон,
Все поняли: над мертвецом заплакав,
Свою судьбу оплакивает он.
Мучительный, непостижимый тон!
"Кто ты?" - вздохнула мать. В ответ ни слова,
И только лоб высокий обнажен,
Откуда вновь закапать кровь готова,
Как с Каинова лба и как со лба Христова.
37. 35
Чей нежный вздох над мертвым приглушен?
Чей лоб замаскирован черной тканью?
Как будто самый грустный приглашен,
Чтоб монумент подвергся нареканью.
И если места больше нет стенанью
В груди Того, чья мудрая мечта
Учила кротко жертвенному знанью,
Да будут сомкнуты мои уста:
Он сердцем жертвовал, и жертва принята.
38. 36
Дерзнувший опоить отраду нашу,
Убийца, разве только был он глух,
Когда подлил отравы в эту чашу,
Свой собственный обкрадывая слух,
Червь безымянный, ибо певчий дух
Заранее смиряет злобу мира,
И тех заворожив, кто сердцем сух;
И сдавлен вой в груди пустой и сирой,
Когда безвременно осиротела лира.
39. 37
Ославленный в бесславии своем!
Живи, не бойся! Не раздавят гада.
Позором упивайся день за днем.
Страшнее казни для тебя пощада,
Когда самим собой остаться надо,
Разбрызгав ядовитую слюну,
И ты стыдишься собственного смрада,
Запятнанный, пятнаешь всю страну
И, как побитый пес, влачишь свою вину.
40. 38
Нет, мы не будем плакать! Наш любимый
От коршунов прожорливых вдали.
Спит или бодрствует неистребимый,
Недосягаем дух для здешней тли.
Тебе не оторваться от земли;
Он, чистый, взмыл в свой пламень первородный,
Откуда светочи произошли;
Он там сияет, вечный и свободный,
Твой чадный стыд покрыт золой твоей холодной.
41. 39
Не умер он; он только превозмог
Сон жизни, сон, в котором истязаем
Мы все самих себя среди тревог;
Сражаться с привиденьями дерзаем,
Ничто неуязвимое пронзаем
Ножом духовным; это мы гнием
Здесь, в нашем затхлом склепе; исчезаем,
Терзаемые страхом день за днем.
Надежды-черви нас готовы съесть живьем.
42. 40
Он воспарил над нашим наважденьем,
В котором оставаться мы должны,
Горячку называя наслажденьем
В ночи, где ложь и злоба так сильны,
И жизнью безнадежно мы больны;
Он воспарил над миром, исцеленный,
И не узнает ранней седины;
Вовеки не узнает, окрыленный,
Как цепенеет прах, забвеньем оскорбленный.
43. 41
Он жив, он пробудился. Смерть мертва.
Скорбеть не нужно. Ты, заря-юница,
Зажги росу лучами торжества;
С тобой любимый; ты - его светлица.
Возвеселитесь, ключ, цветок и птица!
Утешься, воздух! Землю не тумань!
Зачем сегодня миру плащаница?
Улыбка звезд видней в такую рань,
И тяжела земле заплаканная ткань.
44. 42
Не умер он; теперь он весь в природе;
Он голосам небесным и земным
Сегодня вторит, гений всех мелодий,
Присущ траве, камням, ручьям лесным,
Тьме, свету и грозе, мирам иным,
Где в таинствах стихийных та же сила,
Которая, совпав отныне с ним,
И всех и вся любовью охватила
И, землю основав, зажгла вверху светила.
45. 43
Прекрасное украсивший сперва,
В прекрасном весь, в духовном напряженье,
Которое сильнее вещества,
Так что громоздкий мир в изнеможенье,
И в косной толще, в мертвом протяженье,
Упорно затрудняющем полет,
Возможны образ и преображенье,
Когда, превозмогая плотский гнет,
В зверях и в людях дух лучей своих глотнет.
46. 44
И в небесах времен видны затменья,
Как в мире, где небесные тела
Превыше смертного недоуменья,
И днем звезда в пространстве, где была;
Смерть - разве только низменная мгла,
В которую сияние одето.
Дарует мысль сердцам свои крыла,
И выше смерти - вечная примета! -
В эфире грозовом живые вихри света.
47. 45
И в сокровенном свой храня закон,
Питомцы славы неосуществленной
Встают с высоких тронов: Чаттертон,
Агонией доселе истомленный,
Отважный Сидней, воин умиленный, -
Возвышенный в любви и на войне,
Лукан, своею смертью просветленный,
И с ними Адонаис наравне,
Так что забвение поникло в стороне.
48. 46
Воспрянул сонм безвестных, безымянных,
Чей пламень в мире навсегда зажжен,
В пространствах, вечным светом осиянных,
Своими Адонаис окружен.
"Любимый!
Вот он, твой крылатый трон! -
Воскликнула. - Теперь владыки в сборе.
Даруй безгласной сфере свой канон,
И в музыке восторжествуют зори.
Звезда вечерняя ты в нашем вечном хоре".
49. 47
Кто там скорбит? Слепым не окажись!
Себя ты с ним сравни, безумец нежный!
Душой за землю зыбкую держись,
В пространства направляя центробежный
Духовный свет, чтобы достиг безбрежной
Окружности, но там, где ночь со днем,
Останься с легким сердцем ты, мятежный,
Иначе упадешь за окоем,
Надеждою прельщен, блуждающим огнем.
50. 48
Направься в Рим! Рим - не его могила,
Могила нашей радости, но там,
Где пыльный скарб история свалила,
Эпохи, царства, мифы - древний хлам,
Наш Адонаис щедр сегодня сам,
Один из тех, кто, мыслью коронован,
С врагом не делит мира пополам
И нашими недугами взволнован,
Хоть выше всех времен его престол основан.
51. 49
Направься в Рим, туда, где с давних пор
Склеп, город, рай и царство запустенья
И где руины, как отроги гор,
Где на костях пахучие растенья
В причудах своего переплетенья,
И некий дух показывать готов
Зеленый холм, не знающий смятенья.
Как смех младенца, светлый смех цветов,
И свежая трава - целительный покров.
52. 50
И время там над ветхими стенами,
Как пламя на пожарище седом.
Пирамидальный пламень перед нами.
Нет! Осенив его незримый дом,
Ввысь мрамор указует острием, -
Державный знак его последней воли.
Видны могилы свежие кругом,
Среди лучей возделанное поле,
Последний стан для тех, кто чтил его дотоле.
53. 51
Никто из них пока не исцелен.
Как молоды могилы юной рати!
Ключ грустных этих дум запечатлен,
И ты, пришелец, не ломай печати!
Раскаешься, сломав ее некстати,
И только желчь да слезы в роднике
Обрящешь дома по своем возврате.
Весь век мы в мире, как на сквозняке.
Как Адонаису, нам лучше вдалеке.
54. 52
Жить одному, скончаться тьмам несметным.
Свет вечен, смертны полчища теней.
Жизнь - лишь собор, чьим стеклам разноцветным
Дано пятнать во множестве огней
Блеск белизны, которая видней,
Когда раздроблен смертью свод поддельный,
И тот, кто хочет жить, стремится к ней.
Мелодия, руина, мир скудельный
Таят веками смысл неизъяснимо цельный.
55. 53
Тогда зачем же сердцу трепетать,
Измучившись в напрасном ожиданье?
Год потускнел. Зачем судьбу пытать,
Когда в желанной близости страданье
И даже казнь; в разлуке увяданье,
Зато приветлив солнечный зенит,
И ветер, ласковый в своем блужданье:
Зов Адонаиса во всем звенит.
Разрозненное здесь он там соединит.
56. 54
Свет вездесущий, разум, откровенье!
Слепой любовью ты обременен;
В зверях и в людях ты - благословенье,
Проклятием рожденья затемнен,
Однако не погашен; замутнен,
Но в зеркалах телесных вожделенный
По всей вселенной, до конца времен,
Пролейся над моей душою пленной,
Освободив меня от этой тучи тленной!
57. 55
Дыханье Адонаиса во мне.
Отвергнутый другими голосами,
Отплыл я вдаль один в своем челне.
В толпе пугливой понимают сами:
Не плыть им под моими парусами.
Для них земля достаточно тверда,
Тогда как мой приют за небесами,
И, словно путеводная звезда,
Дух Адонаиса влечет меня туда.
58. 1821
59. КОММЕНТАРИИ
Элегия написана в 1821 году.
Классическая форма элегии с мифологическим обрамлением была выбрана
Шелли под влиянием элегии Джона Мильтона на смерть его друга Эдварда Кинга,
- "Лицидас" (1673). Написанный Спенсеровой строфой, это - памятник в стихах
(по определению Эдварда Даудена, 1843-1913) одному из самых утонченных
английских поэтов Джону Китсу (1795-1821). Тем не менее, как считает
переводчик поэмы В. Микушевич, "Адонаис - как бы единый творческий дух,
проявляющийся в разные эпохи, в разных поэтах, обрекающий на мученичество
и бессмертие. В последних строфах поэмы к духу Адонаиса приобщается и сам
Шелли... Литературная злоба дня - лишь перипетия мировой драмы, в которой
пресмыкающемуся вероломству "бессмертной пошлости" противостоит героическая
духовность Адонаиса".
...властелин струны... - английский поэт Джон Мильтон (см. стих. "Дух
Мильтона"),
...Паломник Вечности... - английский поэт Д. Г. Байрон (1788-1824). См.
"Сонет к Байрону".
...Нежнейший лирик... - ирландский поэт Томас Мур (1779-1852).
...кто зваться мог бы Анактеоном... - возможно, сам Шелли.
...Как с Каинова лба... - Здесь, скорее, байроновский Каин, "мученик
мятежный", уподобляемый Христу и, следовательно, самому Адонаису
(В.Микушевич).
...самый грустный... - английский поэт и литературный критик Ли (Лей)
Хант (1784-1859), друг Шелли.
Чаттертон Томас (1752-1770) - английский поэт, доведенный до отчаяния
нищетой и принявший яд. Английские романтики считали его своим предтечей.
Сидней (Сидни) Филип (1554-1586) - английский поэт, благородный рыцарь.
Погиб в сражении против испанцев в Нидерландах.
Лукан Марк Анний (39-65) - римский поэт, племянник Сенеки, казненный
Нероном за участие в заговоре.
...Пирамидальный пламень... - Имеется в виду пирамидальная гробница
Цестия. Описывая этот уголок римского кладбища, Шелли говорит, что "можно
было бы полюбить смерть при мысли, что будешь похоронен в таком
очаровательном месте". Там покоится прах Перси Биши Шелли.
Л. Володарская
Перси Биши Шелли. Аластор, или дух одиночества
1. ПРЕДИСЛОВИЕ
Поэма, озаглавленная "Аластор", может рассматриваться как аллегория,
обозначающая одну из интереснейших ситуаций человеческого духа. В поэме
представлен юноша, отличающийся свежестью чувств и порывистостью дарований;
воображение, воспламененное и очищенное общением с величием и совершенством
во всех их проявлениях, уводит его к созерцанию вселенной. Он вволю пьет из
источников знания, однако жажда не утихает. Великолепие и красота здешнего
мира глубоко затрагивают систему его воззрений, являя неисчерпаемое
разнообразие своих модификаций. Пока его желаниям продолжают открываться
объекты, столь же бесконечные и безмерные, он весел, спокоен и владеет
собой. Но приходит время, когда эти объекты перестают удовлетворять его. Его
дух, наконец, внезапно пробужден и жаждет общения с разумом, ему подобным.
Он воображает себе существо, которое он любит. Причастное умозрениям
тончайшего и превосходнейшего, видение, в котором он олицетворяет свои
собственные чаяния, сочетает все чудесное, мудрое или прекрасное, что может
представить себе поэт, философ или влюбленный. Интеллектуальные данные,
воображение, издержки чувствительности не лишены известных притязаний на
взаимность соответствующих способностей в других человеческих суще ствах.
Поэт представлен соединяющим эти притязания и относящим их к единственному
образу. Он тщетно ищет прообраз воображаемого. Сокрушенный разочарованием,
он сходит в безвременную могилу.
Картина не отказывает современному человечеству в назидании. Фурии
неодолимой в страсти карают эгоцентрическую замкнутость поэта, навлекая на
него быструю погибель. Однако, поражая светочи мира сего внезапным
помрачением и угасанием через пробуждение в них слишком обостренного
восприятия собственных влияний, та же сила обрекает медленному, отравляющему
распаду тех, менее одаренных, кто дерзает не признавать ее владычества. Их
жребий тем бесславнее и ничтожнее, чем презреннее и пагубнее их провинность.
Кто не одержим никаким великодушным обольщением, не обуян священной жаждой
проблематичного знания, не обманут никаким блистательным предрассудком,
ничего не любит на этой земле, не питает никаких надежд на потустороннее и
при этом чуждается естественных влечений, не разделяет ни радостей, ни
печалей человеческих, тому на долю выпадает и соответствующее проклятие.
Подобные субъекты изнывают, ни в ком не находя естества, сродного себе. Они
духовно мертвы. Они не друзья, не любовники, не отцы, не граждане вселенной,
не благодетели своей страны. Среди тех, кто пытается существовать без
человеческой взаимности, чистые и нежные сердцем гибнут, убитые пылом и
страстностью в поисках себе подобных, когда духовная пустота вдруг дает
себя знать. Остальные, себялюбивые, тупые и косные, принадлежат к
необозримому большинству и вносят свое в убожество и одиночество мира. Кто
не любит себе подобных, тот живет бесплодной жизнью и готовит жалкую могилу
для своей старости.
Nondum amabam, et amare
amabam, quaerbam quid
amarem, amans amare.
Confess. St. August
Я еще не любил, но
любил любовь и, любя
любовь, искал, что бы полюбить.
Исповедь св. Августина
Сначала добрые умрут,
А тот, кто сух и вспыльчив, словно трут,
Дотла сгорает.
Земля, вода и воздух, вы союз
Возлюбленных, когда бы наша мать
Великая позволила ответить
Взаимностью на вашу мне любовь;
Когда заря, благоуханный день,
Закат в сопровожденье слуг блестящих
И трепетная тишь глубокой ночи,
И вздохи осени в сухих ветвях,
И щедрая зима, чье облаченье
Лучистое седой траве идет,
И поцелуи первые весны
В чарующем пылу мне были милы,
Когда ни пташки, ни зверька, ни мошки
Я не обидел, бережно любя
Сородичей своих, тогда простите,
Возлюбленные, вы мне похвальбу,
Не обделив меня благоволеньем!
Прими же, мать миров неизмеримых,
Мой строгий гимн; моя любовь была
Верна тебе всегда, и созерцал
Я тень твою, тьму мрачную, в которой
Ты шествуешь, а сердце заглянуло
В глубь тайн твоих глубоких; я ложился
И в склеп, и в гроб, где дань твою хранит
Смерть черная; так жаждал я постичь
Тебя, что мнил: быть может, утолит
Посланец твой, дух одинокий, жажду
Мою, поведать принужденный силой,
Кто мы такие. В тот беззвучный час,
Когда ночная тишь звучит зловеще,
Я, как алхимик скорбно-вдохновенный,
Надежду смутную предпочитал
Бесценной жизни; смешивал я ужас
Речей и взоров пристальных с невинной
Любовью, чтоб слезам невероятным
И поцелуям уступила ночь,
С тобой в ладу тебя мне выдавая;
И несмотря на то, что никогда
Своей святыни ты не обнажала,
Немало грез предутренних во мне
Забрезжило, и помыслы дневные
Светились, чтобы в нынешнем сиянье,
Как лира, позабытая в кумирне
Неведомой или в пустынной крипте,
Я ждал, когда струну мою дыханьем
Пробудишь ты, Великая Праматерь,
И зазвучу я, чуткий, ветру вторя
И трепету дерев, и океану,
И голосу живых существ, и пенью
Ночей и дней, и трепетному сердцу.
Почил Поэт в безвременной могиле,
Которую не руки человека
Насыпали; нет, в сумрачной пустыне
Над скорбными костями вихрь в ненастье
Насыпал пирамиду скорбных листьев;
Красавец юный! Дева не пришла
Украсить кипарисом и цветами
Заплаканными одинокий сон;
Никто судьбы его певучим вздохом
Не помянул; и жизнь его, и песнь,
И смерть - возвышенные, одиноки;
Он слезы песней вызывал; томились,
Неведомому внемля, девы; пламень
Его очей погас, пленив сердца;
Молчание влюбилось в нежный голос,
Его в своей темнице затаив.
Сном серебристым и виденьем строгим
Он вскормлен был. Тончайшим излученьем,
Изысканным звучанием питали
Земля и воздух избранное сердце.
Родник идей божественных не брезгал
Его устами жаждущими; все
Великое, прекрасное, благое,
Чем святы миф и быль, он постигал
И чувствовал; чуть повзрослев, покинул
Он свой очаг и дом, взыскуя истин
Таинственных в неведомых краях.
Пустыня привлекла его шаги
Бесстрашные; радушных дикарей
Чаруя, находила кров и пищу
Песнь для него; он следовал, как тень
Природы, по стезям ее заветным
Туда, где багровеющий вулкан
Свои снега и льды овеял дымом
И пламенем; туда, где смоляные
Озера вечно гложут наготу
Утесов черных; видел он пещеры
Зубчатые, извилистые вдоль
Опасных русл, в которых яд и пламя
Бушуют, чтоб корысть не заглянула
В звездистый храм, где злато, где алмазы,
Где залам нет числа, где пирамиды
Хрустальные, где хрупкий перламутр
Гробниц и яркий хризолит престолов.
И все-таки милее самоцветов
Осталось переменчивое небо
И мягкая зеленая земля
Для любящего сердца; выбирал он
Безлюдный дол, и жил он там, как дома,
И привыкали голуби и белки
Из рук его брать пищу без опаски,
Привлечены беспечным нежным взором;
И антилопа, хоть ее страшит
Малейший шорох, скрыться не спешила,
Любуясь красотою, превзошедшей
Ее красу; он шествовал, ведомый
Высокой мыслью, чтобы в разных странах
Узреть руины грозного былого;
Он посетил Афины, Баальбек,
Тир, Вавилон и сумрачный пустырь,
Который звался Иерусалимом;
Он Фивы посетил, Мемфис он видел
И пирамиды вечные, он видел
Резьбу таинственную обелиска,
Гроб яшмовый он видел, видел сфинкса
Увечного; он тайны эфиопов
Постиг. Он побывал среди развалин
Священных, средь кумиров, что являют
Черты сверхчеловеческие там,
Где служит медным тайнам Зодиака
Страж, демон мраморный, где мысли мертвых
Немые на стенах, немых навеки;
Усердно созерцал он монументы,
В которых юность мира, изучал
Он долгим жарким днем безмолвный образ,
И при луне в таинственной тени
Он продолжал свой опыт созерцанья,
Покуда вдохновение не вспыхнет,
Явив разгадку в трепетном истоке.
Дочь юная араба с ним делилась
Дневной своею пищей, постилала
Ему циновку и украдкой
Следила, дел домашних сторонясь,
Влюбленная, за ним, не смея выдать
Любви своей, и сон его ночной,
Бессонная сама, оберегала,
Ловя дыханье уст и грез его,
И, томная, домой не возвращалась,
Пока не вспыхнет алая денница
И бледная луна не побледнеет.
В Аравии и Персии блуждал
Поэт, потом в пустыне Карманийской,
И, радостный, он побывал в горах
Надземных, где родятся Инд и Окс,
Из ледяных пещер струясь в долины;
И, наконец, в долине Кашемирской
Укромный уголок нашел, где в куще
Благоуханной близ прозрачной речки
Средь голых гор свои раскинул члены
Усталые, и чаянье во сне
Его постигло, что не жгло доселе
Ланит его; поэту снилась дева,
Которая сидела рядом с ним
И не откидывала покрывала
С лица, но голос трепетный был голос
Его души, где мусикия ветра
И родников струистых; чувство млело
В тенетах разноцветных пестрой пряжи;
А голос говорил ему о знанье,
Вещал он о божественной свободе,
С поэтом говорить пришла сама
Поэзия, и разум в строгом строе
Своем зажег ее летучий стан
Сияньем, и всхлипы прорывались
В неистовых созвучиях, а голос
Поник в своем же пафосе; персты,
Одни обнажены, по странным струнам
С мелодией скользнули; в жилах кровь
Повествовала о неизъяснимом,
А пенье прерывалось временами
Биеньем сердца, и согласовалось
Ее дыханье с бурным ладом песни
Прерывистой, и поднялась она,
Как будто гнета взрывчатое сердце
Не вынесло; на звук он обернулся
И увидал при теплом свете жизни
Пылающие прелести ее
Сквозь покрывало, сотканное ветром,
Нагие руки, кудри цвета ночи,
Сияющие очи и уста
Отверстые, трепещущие пылко.
Он мощным сердцем дрогнул в преизбытке
Любви, рванулся к ней всем телом, руки
Простер, дыханья не переводя,
К желанным персям; отшатнулась дева
И сразу же, охвачена восторгом
Неудержимым, вскрикнула, приемля
Его телесность в зыбкие объятья,
Которые при этом исчезали,
И черный мрак ему глаза подернул,
Ночь поглотила призрачную грезу,
И непроглядный сон окутал мозг.
Был ниспровергнут сон толчком внезапным;
Уже белел рассвет, и месяц синий
На западе садился; проступали
Вблизи холмы; леса вокруг него
Угрюмо высились. Куда девались
Цвета небес, игравшие над рощей
Минувшей ночью? Где ночные звуки,
Баюкавшие сон его? А где
Мистерия ночная, где величье
Земли, где торжество? Глаза, тускнея,
Глядели в пустоту, как на небесный
Прообраз из воды глядит луна.
Сладчайший дух любви послал виденье
Во сне тому, кто дерзостно отверг
Ее дары. Он трепетно следит
Неуловимую вне грезы тень,
Предел - увы! - пытаясь превозмочь.
Неужто облик, только что дышавший,
Был мороком? И сгинул, сгинул, сгинул
В пустыне безысходно-тусклой сна
Навеки? Неужели, кроме смерти,
Никто не может отворить эдема,
Сна твоего, и радуга в лазури,
И горы в зыбком зеркале озерном
Ведут лишь в черный омут водяной,
А синий свод и смрад отвратной смерти,
В котором тень, исчадие могилы,
Скрывается от мерзостного света,
Причастны, сон, к твоим отрадным чарам?
Ему сомненье затопило сердце,
Надежду пробудив, сжигало мозг
Отчаяньем.
Пока светился ясный
День в небесах, поэт с душой своею
Держал совет немой, а ночью страсть
Пришла, врагиня раздраженной грезы,
Покой стряхнув с него, и повлекла
Во мрак ночной. Как сдавленный змеей
Зеленою, почувствовал, как яд
В груди горит, уносится орел
Сквозь мрак и свет, сквозь вихрь и сквозь лазурь
Гнетущей дурнотою ослеплен,
В бескрайнюю воздушную пустыню,
Так, движимый прелестной тенью грезы
В сиянье ночи, мрачном и студеном,
По буеракам, по болотам топким,
Змей скользких света лунного топча,
Бежал он, и ему сияло утро,
Насмешливой окрашивая жизнью
Его ланиты мертвые; блуждал он,
Пока не различил с Петрийской кручи
Над горизонтом облачный Аорнос;
Балх видел он, и видел он могилы
Царей парфянских; пыль над ними вечно
Клубится на ветру; блуждал в пустыне
Он день за днем, скитался, изнуренный
Скитаньем тщетным; тлело в нем томленье
И собственным питалось угасаньем;
От отощал, и волосы его
Поблекли, осень странную оплакав
На злом ветру; бессильная рука
Висела мертвой костью на дряблой коже;
Жизнь с пламенем, снедающим ее,
Как в горне, тайно вспыхивала в черных
Глазах его; страшились поселяне,
Чья человечность нищего снабжала
Припасами, когда к жилищам их
Он приближался робко. Храбрый горец,
Над пропастью такое привиденье
Встречая, полагал, что перед ним
Дух ветра, чьи глаза горят, чьи вздохи
Неистовы, а шаг в снегах бесследен;
Ребенок прятал в юбке материнской
Лицо свое, пугаясь этих взоров
Блуждающих, чей необычный пламень
Ему сверкал во многих сновиденьях
Ночной порой, и разве только девы
Угадывали, что за хворь терзает
Скитальца, называли незнакомца,
Пусть по ошибке, другом или братом
И руку пожимали на прощанье,
Сквозь слезы гладя вслед ему потом.
И наконец, на берегу Хорезмском
Пустынный шаг замедлил он среди
Болот зловонных; к берегу морскому
Его тянуло; лебедь плавал там
Средь камышей в малоподвижных водах.
Он подошел, и лебедь взмыл на крыльях
Могучих в небо, высоко над морем
Вычерчивая яркую стезю.
За лебедем следил он жадно: "Птица
Прекрасная, к родному ты стремишься
Гнезду, где нежная подруга шею
Пуховую свою с твоей сплетет,
Сияньем ясных глаз тебя встречая.
А я? Кто я? Зачем я здесь, хоть голос
Мой сладостней твоей предсмертной песни,
И шире дух, и стан мой соразмерней
Прекрасному, зачем я расточаю
Себя, хоть воздух глух, слепа земля,
А в небе нет мне отзвука? Уста
В отчаянье как будто улыбнулись.
Он понял, что неумолимый сон
Скуп на дары, а смерть еще лукавей,
Безмолвная, прельщающая тенью,
Чтоб высмеять свое же обаянье.
И, устрашенный собственною мыслью,
Он огляделся в поисках врага,
Но только в нем самом таился ужас.
У берега заметив утлый челн,
К нему стремился взор нетерпеливый.
Челн был давно заброшен, и борта
Потрескались, и содрогался корпус,
Когда к нему прибой могучий льнул.
Порыв безудержный велел скитальцу
Сесть в челн и в море мрачном смерть искать.
Он ведал: жизнь кишит в подводных гротах,
И нравится могучей тени там.
День ясен был, и небо, как и море,
Сияньем вдохновительным питалось,
А волны хмурил только ветерок.
Подвигнутый душою беспокойной,
В челн прыгнул странник, водрузил на мачте
Свой плащ, как парус, и отплыл один,
А лодка в море поплыла спокойном,
Как облако в лазури перед бурей.
Как в зыбком серебристом сновиденье
Плывешь порою по теченью ветра
Благоуханного средь облаков
Сияющих, так по волнам бежал
Упорный челн. Вихрь между тем крепчал
И гнал его с порывистою силой
По белым кручам вспененного моря,
А буря на лету хлестала волны,
И судорожно волны извивались,
Как змеи в хищнояростных когтях.
Неколебим, любуясь дикой битвой
Волны с волной и вихря с вихрем новым,
Бросками, пляской, разъяренным бегом
Вод сумрачных и грозных, он сидел,
Как будто вихри в шторм ему служили,
Покорные, препровождая к свету
Очей любимых, так Поэт сидел
И руль держал, а в море вечерело,
И радужные отблески заката
Раскрасили соборы брызг летучих,
Над бездной осенивших путь его;
Мгла, медленно с востока поднимаясь,
Из девственных своих сплетала прядей
Венок для угасающего дня;
Ночь в звездном одеянье следом шла;
Со всех сторон вздымались водяные
Хребты в междоусобице стихийной,
Высмеивая с ревом небеса
В спокойном блеске. Маленькая лодка
Плыла сквозь бурю, как седая пена
По ледяной порожистой реке,
То замирая вдруг над зыбкой кручей,
То избегая взрывчатой громады,
Грозящей морю; лодочка плыла,
Как будто бы, подобный человеку,
В ней бог сидел.
И вот настала полночь,
Луна взошла, и вдалеке возникли
Эфирные урочища Кавказа,
Чьи льдистые вершины, словно солнца
Средь звезд, сияли, стоя на подножье
Пещеристом, изглоданном волнами
Свирепыми, - как челноку спастись? -
В неистовом, бушующей потоке,
Беспомощный, несется к черным скалам,
А над волнами гибельный утес,
И человек движенья рокового
Прервать не в силах; скользкими волнами
Подхвачен челн. Пещера впереди
Разверзлась, и захлестывало море
Глухую глубь; челн бега своего
Не замедляет. "Греза и Любовь! -
Вскричал Поэт. - Сдается мне, открыл я
Убежище твое. Ни сну, ни смерти
Не разлучить надолго нас".
Плыла
В пещере лодка. Наконец, забрезжил
Над этой черною рекою день;
Где схватка волн сменилась перемирьем,
Плыл челн среди потока, чьи глубины
Не мерены; где трещина в горе
Во мрак лазурь небесную впускала,
Пока еще лавина вод к подножью
Кавказа не обрушилась, чтоб гром
Твердь колебал, там в пропасти подземной
Кипел один сплошной водоворот;
Порогами карабкалась вода
И омывала кряжистые корни
Дерев могучих, вытянувших руки
Во мрак наружный, а посередине
Подземного котла виднелась гладь
Обманчивая, небо искажая
Зеркальною своею западней.
По головокружительным уступам
Челн поднимался вверх, но там, где круче
Всего был поворот, где брег скалистый
Образовал средь вихрей водных заводь,
Остановился челн, дрожа; сорвется
Он в бездну, или встречное теченье
Умчит его назад и там потопит
В пучине, от которой нет спасенья
И в глубь ее несытую нельзя
Не погрузиться? Но бродячий ветер,
На западе поднявшись, дунул в парус
И бережно повлек меж берегов
Замшелых, и поток невозмутимый
Струился вдоль в тени ветвистой рощи,
И отдаленный рев уже смешался
С певучим нежным лепетом лесов.
Где кущи расступаются, являя
Зеленую поляну, там был плес
Меж берегов, чьи желтые цветы
Самим себе могли смотреть в глаза,
Глядясь в хрусталь, и челн, плывущий мимо,
Слегка смутил зеркальные подобья,
Как птица или ветер, как побег
Упавший или их же увяданье
Смущает их. Поэту захотелось
Цветным венком свои украсить кудри
Поблекшие, однако удержала
Его печаль; порыв не проявился,
Хоть скрыть его была не в силах внешность,
И нависал над жизнью, сокровенный,
Как молния, таящаяся в туче,
Чтобы потом исчезнуть, чтобы ночь
Все затопила, но дневное солнце
Пока еще не покидало леса,
И сумрачные тени поглощали
Дол тесный. Там громадные пещеры
В подножья гор заоблачных вгрызались,
И рев, и стон высмеивая эхом,
Листва и ветви встречные соткали
Тенистый сумрак над стезей поэта,
Которому Бог, греза или смерть
Искать велели колыбель ее,
Ему могилу тем предуготовив;
Сгущались тени. Заключал могучий
Дуб в суковатые свои объятья
Ствол буковый, а пирамиды кедров,
Казалось, образуют храмы в дебрях,
И облаками в небе изумрудном
Готовы плыть акация и ясень,
Трепещущие, бледные, а змеи
Лиан, огнем и радугой одеты,
Тысячецветные, ползут по серым
Стволам, и смотрят их глаза-цветы,
Невинно шаловливые, впиваясь
Лучами в беззащитные сердца
Любимых, чтобы жизнь сосать оттуда,
Завязывая свадебные узы
Нерасторжимые. Листва прилежно
День темно-голубой со светлой ночью
Сплетает, сочетая в тонкой ткани
Причудливой, как тени облаков,
И это только полог над поляной
Душистой, мшистой, чьи цветы-глазенки
Не хуже крупных. Самый темный дол
Благоуханьем розы и жасмина
Беззвучно приглашает приобщиться
К прелестной тайне; сумрак и молчанье
На страже днем; лесные близнецы
Полузаметны, мглистые, а в темном
Лесном пруду светящиеся волны
Все до малейшей ветки отражают,
И каждый лист, и каждое пятно
Лазури, что в тенистый омут метит;
Купает в жидком зеркале свой образ
Звезда непостоянная, сверкая
Сквозь лиственные ставни до рассвета,
И расписная ветреница-птица,
Которой сладко спится под луною,
Да насекомые, которых днем
Не видно, чтобы крылышки во мраке
Тем праздничней, тем ярче засветились,
И сквозь полупрозрачную преграду
Волос глаза поэта тускло-блеклый
Свой свет узрели в темной глубине
Воды; так человеческое сердце
Сквозь тьму могилы видит сон: свое
Лукавое подобье. Слышал он,
Как листья движутся, и как трава
Трепещет перед ним, и как ручей
Журчит, в тенистых водах возникая
Из родников, и виделся ему
Дух рядом с ним, одет не светотенью
Лучистою, не мантией сиянья,
Дарованного таинствами зренья,
Виденьем или прелестью приметной,
Но трепет листьев и молчанье вод,
Прыжки ручья и сумеречный вечер
Ему причастны были, словно нет
Иного... но... когда вознесся взгляд,
Задумчивостью движимый... два глаза,
Вернее, две звезды во мраке мыслей
Улыбкою лазурною светились,
Маня его.
И задушевный свет
Его повел извилистой лощиной,
Где своевольная дикарка-речка
Стремглав от одного к другому логу
Зеленому текла под сенью леса,
Срываясь иногда, скрываясь в пышных
Мхах, где напев ее неуловимый
Глубок и темен, а среди камней,
Обтесанных теченьем непрерывным,
Она плясала и, смеясь по-детски,
Равнинами струилась безмятежно
И каждую склонившуюся к ней
Травинку отражала. "О речушка!
В таинственных глубинах твой исток,
А где твое загадочное устье?
Ты, жизнь моя в причудливом теченье?
Твой тихий сумрак, блеск твоей струи,
Твои глубины, твой непостижимый
Путь - все меня являет мне; и небо,
И море мрачное скорее скажут,
В каком летучем облаке, в какой
Пещере воды бывшие твои,
Чем скажет мне вселенная, где мысли
Останутся мои, когда в цветах
Безжизненный распад меня постигнет".
Шел берегом он, запечатлевая
Озноб и жар трепещущей стопою
Во мхах, как тот, кто счастлив и в болезни,
Позволившей встать на ноги, он шел,
Однако помнил, что идет в могилу,
Где угасает пыл. Шел быстрым шагом
В тени дерев поэт вниз по теченью
Речушки говорливой, полог леса,
Величественно царственный, сменился
Над головой однообразно светлым
Безоблачным вечерним небосводом.
Поток бежал и клокотал, вскипая
В камнях седых; высокая осока
Склон каменистый тенью щекотала;
Лишь ветром искалеченные сосны
Вцепились в неподатливую почву
Корнями здесь. Все делалось вокруг
Ужаснее, и, как чело с годами
Морщинится и волосы ветшают,
А вместо ясных влажных глаз шары
Мерцают, цепенея, так исчезли
Цветы и упоительная тень
Зеленых рощ с благоуханьем тонким
И с музыкой; он шел невозмутимо
Вниз по теченью. Речка в лабиринте
Расширилась, теченье убыстряя
В извилинах, и в ледяном напоре
Вода срывалась вниз. На берегах
Обоих высились теперь утесы,
В своих невероятных очертаньях
Являя башни черные в неверном
Вечернем освещенье, затемняя
Равнину, обнаруживая в кручах
Расселины, оскал пещер, готовых
Бесчисленными языками вторить
Гремучему потоку. Разжимались
Там каменные челюсти, чьи зубы
Вот-вот сомкнутся снова, сокрушая
Весь мир, а под ущербною луною
И звездами озера, острова
И горы облачатся в свинцовый
Вечерний сумрак, а закатный пламень
Холмов и тени сумерек смешались
На горизонте. Ближняя окрестность
В суровой безыскусной наготе
Опровергала прелести вселенной;
Сосна, которая пустила корни
В скале, раскинула косые ветви,
На каждый возглас ветра отвечая,
На каждое мгновение затишья
И сочетая с воем бесприютных
Потоков песнь свою, пока река
В своем шероховатом и широком,
Но жестком русле рушится, бушуя
И пенясь, в бездну, рассыпаясь градом
Летучим на блуждающем ветру.
Но там, где был поток и где сосна
Над пропастью седою, был еще
Уступ укромный. Примостясь над кручей,
Поддержанный камнями и корнями,
Он позволял и небо созерцать
Со звездами, и темноту земную;
И в лоне страха тихо улыбался
Уступ. Оплел объятьями своими
Растрескавшиеся каменья плющ,
Даруя щедро свой вечнозеленый
Кров с ягодами сумрачными полу,
Не ведающему ничьей стопы;
И там же веселились дети вихря
Осеннего, разбрасывая листья,
Чье золото, чья бледность, чей румянец
Затмили гордость лета. Там гостил
Легчайший ветер, чтобы приучить
К покою глушь; однажды, лишь однажды
Шаг человеческий встревожил там
Безмолвное уединенье. Голос
Единственный там вызвал эхо; голос,
Раздавшийся средь веяний воздушных
Однажды, чтобы облик человека
Прекраснейший пустыню превратил
В сокровищницу, чтобы обаянье
И красота подвижная внушили
Там вихрю косному свои созвучья,
Величие природе завещав,
А листья и пестунья пестрых радуг,
Пещера, перенять могли бы краски
Ланит, очей и белоснежной груди.
Рогатый мрачный месяц море света
На отдаленный пролил окоем,
Вершины затопив сияньем. Желтый
Туман распространился, упиваясь
Изнеможеньем лунным; ни одной
Звезды не видно было; даже ветры,
Угрюмые товарищи напастей.
Заснули в пропасти; о буря смерти,
Ты рассекаешь сумрачную ночь!
А ты, Скелет великий, все еще
Неотвратимый в натиске жестоком,
В могуществе безжалостном твоем,
Ты царь природы бренной, с поля битвы
Багрового, из вони госпитальной,
Где умирает патриот, и с ложа
Девичьего, с престола или с плахи
Тебя зовет могучий голос. Кличет
Урон свою сестру родную смерть,
Ей указав обильную добычу,
Чтоб смерть сыта была; весь век влекутся
К могилам люди, как цветы и черви,
Но дважды в жертву не приносят сердца,
Бессмысленно разбитого навеки.
И на пороге этого приюта
Зеленого он знал уже, что с ним
Смерть, но, исход задерживая скорый,
Обрек он душу прошлому, призвав
Величие своих видений прежних,
Которые почили в нем, как ветер
С мелодией своей, чтобы повеять
Сквозь жалюзи. Он бледною рукой
Схватился за шероховатый ствол
Сосны, поник он головой на камень,
Опутанный плющом, и распростерся
Усталым телом на уступе скользком
Над мрачной бездной, и лежал он там,
Последнему парению предав
Скудеющие силы; скорбь с надеждой,
Мучительницы, спали; не страданье,
Не страх, нет, лишь прилив живого чувства
Без примесей мучительных питал
Мысль, постепенно в сердце иссякая,
Пока лежит он там, почти спокойный,
С улыбкой слабой; видел напоследок
Он в небесах огромную луну,
Которая на западе свой рог
Светящийся воздвигла, с тьмой смешав
Свой мрачный луч; нависла над холмами
Она уже; когда метеорит
Рассыпался во мраке, кровь поэта,
Текущая в таинственном согласье
С природою, почти застыла в жилах;
Покуда, убывая, свет во мраке
Двоился, переменчивые вздохи
Кое-когда еще смущали ночь
Стоячую; покуда не иссяк
Луч меркнущий, то замирало сердце,
То вздрагивало, но когда во мраке
Исчезло небо, тени облекли
Немой, холодный, бездыханный образ,
Как землю, как опустошенный воздух
И как туман, питавшийся лучами
И светом солнца ясного, пока
Закат не погасил его, так дивный
Прекрасный облик потерял сиянье -
Подобье хрупкой лютни, на которой
Играло небо, - бывшие уста
Волны многоголосой, нет, мечта,
Погашенная временем и ночью,
Никем не вспоминаемая ныне.
О дивная алхимия Медеи,
Цветами заставлявшая сиять
Сырую землю, чтобы зимним веткам
Благоухать весной! Когда бы Бог
Яд снова превозмог своею чашей,
Которую однажды выпил смертный
И, яростью бессмертной переполнен,
Не видя исключений в царстве смерти,
Скитается поныне, одинокий,
Как смерть сама! О если бы мечтанье
В таинственной пещере чародея,
Упорно разжигающего тигель
Бессмертия, хотя его рука
Уже немеет, стало бы законом
Сей милой жизни! Но ты улетел,
Как трепетная дымка в золотых
Лучах денницы: ах, ты улетел,
Ты, доблестный, ты, нежный и прекрасный,
Сын Грации и Гения. Неужто
Бездушное бессмертно? Черви, звери
И люди живы, и Земля, царица,
В горах, на море, в городе, в пустыне
То радостно, то скорбно произносит
Свою молитву, а ты улетел;
Узнать уже не можешь ты теней,
Пусть призрачных, которые служили
Тебе и только; здесь они, однако,
И без тебя. Над бледными устами,
Что и в молчанье сладостны, над этим
Лицом, пока еще не оскверненным
Червями ненасытными, не надо
Слез, даже бессмысленных. Когда исчезнут
Все эти очертания и краски,
Пускай они останутся лишь в этом
Стихе, прерывистом и безыскусном,
А не в потугах рифм и не в картинах
Безжизненных, не в бледных изваяньях,
Скрыть не способных немощи своей
И холода. Искусство и витийство,
Все в мире слишком тщетно для того,
Чтобы оплакать превращенье света
В тень; это горе "глубже слез", когда
Похищен свет, когда покинул нас
Дух, нам светивший в мире, не надежда -
В неудержимых судорогах плача,
В отчаянье немом нам остается
Спокойствие холодное, костяк
Природы в паутине, где рожденье
И даже смерть обманывает нас.
2. КОММЕНТАРИИ
Поэма написана в 1815 году.
"Поэма "Аластор" - шеллиевский _Вертер_, - совершенно справедливо писал
К. Бальмонт. - Он рисует здесь те искания идеального, те порывания
изысканной души к запредельному, которые составляют самую отличительную
черту его короткой, напряженной и блестя- щей жизни. Внешним образом поэма
отчасти навеяна путешествием по Швейцарии, с ее горами и голубыми озерами, и
по Германии, с ее пленительным Рейном... Поэма "Аластор" - поэтическая
исповедь юного Шелли; это поэма души, которая не может не быть одинокой, в
силу своей чрезмерной утонченности".
Л. Володарская
Перси Биши Шелли. Маскарад анархии
1. 1
Когда в Италии я спал,
Внезапно голос прозвучал,
И властно он повел, средь дня,
В виденьях Вымысла меня.
2. 2
И вот гляжу, в лучах зари,
Лицом совсем как Кэстельри,
Убийство, с ликом роковым,
И семь ищеек вслед за ним.
3. 3
Все были жирны; и вполне
Понятно это было мне:
Он под плащом широким нес
Сердца людей в росе из слез,
И сыт был ими каждый пес.
4. 4
За ним Обман; одет был он
Весь в горностай, как лорд Эльдон,
Он плакал; силой волшебства,
Те слезы, наземь пав едва,
Вдруг превращались в жернова.
5. 5
И дети малые кругом,
Себе игрушку видя в том,
Ловили слезы те, в борьбе,
И выбивали мозг себе.
6. 6
И Лицемерье, все в тенях,
Но с светлой Библией в руках,
На крокодиле, как Сидмут,
Ползло, глядя и там и тут.
7. 7
Другие Порчи, целый ряд,
Сошлись на страшный маскарад,
Наряжены, вплоть до очей,
В шпионов, в пэров и в судей.
8. 8
Последней Смута, в этом сне,
На белом ехала коне,
И конь был кровью обагрен,
А Призрак - точно Смерть был он.
9. 9
Чело жестокое в венке,
И скипетр был в его руке,
И знак на лбу лелеял он:
"Я Бог, я Властелин, Закон".
10. 10
Он ехал с пышной быстротой,
Над всей Английскою землей,
И он толпой был слепо чтим,
И лужей кровь была за ним.
11. 11
Был свитой Призрак окружен,
Был шум и звон со всех сторон,
У каждого - кровавый меч,
Чтобы врагам пути пресечь.
12. 12
И вот по Англии, кичась,
Толпа свирепая неслась,
Вином отчаянья полна,
Для темных дел опьянена.
13. 13
От моря к морю, как беда,
Через поля, чрез города,
Они неслись в крови, в пыли,
Покуда в Лондон не пришли.
14. 14
Всех обитателей, в домах,
Панический застигнул страх,
Когда под крик, неукротим,
Тот Призрак Смуты прибыл к ним.
15. 15
Ему навстречу, как река,
Явились дикие войска,
И пели все, и слушал он:
"Ты Бог, Король, и ты Закон.
16. 16
Мы твой приветствуем приход,
Тебя давно недостает.
Мечи остыли, денег нет,
Дай крови, золота и бед".
17. 17
Ханжи, законники, толпой,
Склоняясь перед тенью той,
Молитву тихую, как вздох,
Шептали: "Ты Закон и Бог".
18. 18
И все вскричали, как один:
"Ты Бог, Король и Властелин,
Тебе от нас земной поклон,
Дух Смуты ныне освящен".
19. 19
И вот Анархии скелет
Всем, скаля зубы, шлет привет,
Народ, чтоб так учтив был он,
Учителям дал миллион.
20. 20
Он знал, что все ему - венцы
И королевские дворцы,
Ему - почет от всех рабов
И шитый золотом покров.
21. 21
И вот приспешников, вперед,
Банк захватить скорей он шлет,
В парламент хочет он вступить,
Он знает, как ему там быть.
22. 22
Безумная явилась тут,
Надеждою ее зовут.
Но, как Отчаянье, она
Вскричала, вся дрожа, бледна:
23. 23
"Отец мой, Время, стар и сед,
Ждет лучших дней, а их все нет,
Глядите, он, как идиот,
Руками шарит, счастья ждет.
24. 24
Он за детьми рождал детей,
Всех схоронил в теченье дней,
Осталась только я одна,
О, горе, скорбь мне суждена!"
25. 25
И до коня она дошла,
Пред ним на улице легла,
Ждет, чтоб в нее вдавили след
Обман, Убийство и Скелет.
26. 26
Меж ней и ими вдруг возник
Какой-то свет, какой-то лик,
Сперва он был и слаб, и мал,
Как бы туман долин меж скал.
27. 27
Но в буре зреют облака,
Меж скал густеет их река,
И светят молнии из туч,
И гром идет к низинам с круч.
28. 28
Так вырос образ тот, в огне,
Горя в чешуйчатой броне,
На алых крыльях он взвился,
Предстал как света полоса.
29. 29
На шлеме, издали светла,
Планета блеск зари зажгла,
И перья искрились на нем,
Горя пурпуровым огнем.
30. 30
Над головами тех людей,
Как ветер, все скорей, скорей,
Он шел, все слышали его,
Но не видали ничего.
31. 31
Как Май, идя, цветы родит,
Как звезды Ночь с волос струит,
Куда б ни шел он, с высоты,
Во всех умах рождал мечты.
32. 32
Толпа взглянула, - перед ней
Надежда, в красоте своей,
Вперед, вперед, спокойно шла,
Хоть вся земля в крови была.
33. 33
И Смута, вскормленная в зле,
Лежала мертвой на земле,
Конь Смерти словно ветер был,
Летел, копытами дробил
Убийц, чей строй так люден был.
34. 34
Лучистый свет блеснул из туч,
Он нежен был, хоть был могуч,
И Гимн возник во всех умах,
Была и радость в нем, и страх.
35. 35
Как будто бы Земля, родив
Сынов Английских, - ощутив
Негодованье, видя кровь
И к детям чувствуя любовь, -
36. 36
Из каждой красной капли вдруг
Соделала могучий звук,
И сердце все вложила в крик,
И гимн властительный возник:
37. 37
"О, Люди Англии, Сыны
Непогасимой Старины,
Питомцы матери, чей дух,
На время только, в вас потух, -
38. 38
Восстаньте ото сна, как львы,
Вас столько ж, как стеблей травы,
Развейте чары темных снов,
Стряхните гнет своих оков,
Вас много - скуден счет врагов!
39. 39
В чем Вольность, знаете ль? Увы,
В чем Рабство, испытали вы,
И ваше имя - звон оков,
В нем отзвук имени рабов.
40. 40
Да, рабство, подневольный труд,
В работе вечной дни идут,
И платят вам тираны так,
Чтоб прозябать вам кое-как.
41. 41
Вы все для них, вы - дом и печь,
Станок, лопата, плуг и меч,
С согласия иль без него,
Вы им пригодны для всего.
42. 42
И жалок вид детей нагих,
И бледны матери у них,
Покуда речь моя течет,
К ним смерть идет, и смерть не ждет.
43. 43
И было бы желанно вам
Есть то, что сильный жирным псам
Бросает щедрою рукой,
Но пищи нет у вас такой.
44. 44
Дух Золота лелеет взгляд,
И от труда берет сто крат,
И в тираниях старых дней
Работать не было трудней.
45. 45
И за чудовищный ваш труд
Бумажных денег вам дают,
Вы им даруете кредит,
Хоть в них обман бесстыдный скрыт.
46. 46
И воли вам, в мельканье лет,
Над волей собственною нет,
Но что другие захотят,
В то вашу волю превратят.
47. 47
Когда ж вы издадите вздох,
Что сон ваш скуден, хлеб ваш плох,
Когда тиран к вам войско шлет,
И вас, и ваших жен он бьет,
И кровь из ваших ран течет.
48. 48
И месть горит, и хочет вновь
За пытку - пытку, кровь - за кровь:
Не поступайте так, когда
Настанет ваша череда.
49. 49
Да, птицы носятся везде,
Но отдохнут в своем гнезде,
И есть берлога у зверей
В суровый холод зимних дней.
50. 50
Для лошадей и для быков
В их стойлах корм всегда готов,
Собак дворовых впустят в дом,
Когда бушуют вихрь и гром.
51. 51
Есть хлеб, и корм есть у ослов,
И для свиней приют готов,
О, Англичанин, только ты
Бездомен в мраке нищеты.
52. 52
Вот это Рабство - посмотри,
Терпеть не станут дикари,
И зверь доселе не терпел
То, в чем обычный твой удел.
53. 53
В чем ты, Свобода? О, когда б
Сказал, в живой могиле, раб
Ответ, - тиран бежал бы прочь,
Как от лучей победных - ночь.
54. 54
О, Вольность, мир огнем одень,
Пусть говорят, что ты лишь тень,
Что из пещеры Славы ты -
Лишь суеверие мечты.
55. 55
Нет, для работника ты хлеб,
Чтоб он, насытившись, окреп,
Чтобы, окончив труд дневной,
Он счастлив был с своей семьей.
56. 56
Ты всем, кто знает скорбь и мрак,
Одежда, пища и очаг;
В краях, где свет твой не погас,
Не мог бы голод мучить нас,
Как видим в Англии сейчас.
57. 57
Ты для богатого, когда
Он топчет слабых, - как узда:
Отдвинет ногу он свою,
Как наступивши на змею.
58. 58
Ты Справедливость: никогда
Не купишь твоего суда;
Продажен в Англии закон,
Тобой же всякий огражден.
59. 59
Ты Мудрость: в Вольном не горят
Огни, твердящие про ад,
Он не подумает, что он
Навеки будет осужден.
60. 60
Ты Мир: сокровища и кровь
Не тратишь, чтоб сбирать их вновь,
Как тратили тираны их,
Чтоб пламень в Галлии затих.
61. 61
Но, если пролилась из ран
Кровь слишком многих Англичан,
Свобода, ты затемнена,
Но заблистать опять должна.
62. 62
Ты свет Любви: к тебе припал
Богатый, ноги целовал,
Свое богатство отдал им,
Кто был тиранами гоним, -
63. 63
Оружье выковал себе,
Чтоб в благородной встать борьбе
На притесненье и обман,
Кому весь мир был в жертву дан.
64. 64
Познанья, Мысли и Мечты -
То светочи средь темноты,
Зажженные для тех тобой,
Кто в жизни истомлен борьбой.
65. 65
В терпенье, в Нежности, во всем,
Что расцветает нам цветком,
Ты скрыта: не слова - дела
Нам говорят, что ты светла.
66. 66
Пусть соберутся те толпой,
Что вольны смелою душой,
Пусть соберет их дух один
На свежей зелени долин.
67. 67
Пусть голубые небеса,
Земля, и светлая роса,
И все, что вечно, не мертво,
Увидят это торжество.
68. 68
Из самых дальних уголков,
От всех Английских берегов,
Из городов и деревень,
Где люди, чахлые, как тень,
Живут и стонут каждый день,
69. 69
Из тюрем, где, как тощий труп,
С дрожаньем жалким бледных губ,
Толпа детей и стариков
Ест горький хлеб под звон оков,
70. 70
Из всех тех мест, где жизнь идет
И каждый миг усилий ждет,
Встают заботы, бьется страх,
И сеют плевелы в сердцах,
71. 71
И наконец, из всех дворцов,
Где, точно дальний гул ветров,
Звучат, то слабо, то слышней,
Глухие отзвуки скорбей,
72. 72
Из тех блистательных темниц,
Где жесток вид холодных лиц
И где немногим слышен стон
Тех, кто нуждой обременен, -
73. 73
Вы все, чьим горестям нет слов
И кто сочувствовать готов
Стране, где кровь невинных льют
И где страданье продают, -
74. 74
В Собранье смелом и живом
Сверитесь, с пышным торжеством,
Пусть скажут ваши голоса,
Что вольным каждый родился.
75. 75
Как заостренные мечи,
Слова пусть будут горячи
И полны смелой широты,
Как в бой подъятые щиты.
76. 76
И пусть тогда, со всех сторон,
Тираны к вам, под шум и звон,
Придут воинственной толпой,
Как море громкое в прибой.
77. 77
Пусть артиллерия гремит
И пылью воздух продымит,
Чтоб все пространство потряслось
Под стук копыт и звук колес.
78. 78
Пускай, блестя, пройдут полки,
И неподвижные штыки
Сольются, сеть одну соткав,
Английской крови возжелав.
79. 79
Пусть сабли всадников светло
Под звук команды: "Наголо!" -
Горят, чтоб погасить свой свет
В пучине гибели и бед.
80. 80
Спокойный сохраните вид,
Как лес, что сомкнут и молчит,
С такими взорами, где свет,
Которому преграды нет.
81. 81
Пусть Паника, чей бег быстрей
Проворных боевых коней,
Сквозь ваши плотные ряды
Пройдет, как только тень беды.
82. 82
Пускай закон родной страны -
Ему мы все подчинены -
В раздоре том, рука с рукой,
Стоит единственным судьей.
83. 83
Закон Английский старых дней
Блистает мудростью своей,
Умней он наших новых дней;
В нем вспыхнет, - как тогда возник,
Свобода, твой могучий крик.
84. 84
Священный вестник он, - и тот,
Кто на герольда посягнет,
Пусть примет кровь, так суждено,
Но будет не на вас пятно.
85. 85
И раз насильники дерзнут,
Пусть между вас с мечом пройдут.
Пусть рубят, колют и дробят,
Пускай поступят как хотят.
86. 86
Не отводя упорных глаз,
На них глядите в этот час,
Не удивляясь, не сробев,
Пока не кончится их гнев.
87. 87
Тогда они придут домой
С позором, жалкою толпой,
И кровь, что пролили они,
На их щеках зажжет огни.
88. 88
И женщины всех мест родных
Укажут пальцами на них,
И стыдно будет им встречать
Друзей и близким отвечать.
89. 89
И те, что были на войне
И бились в Смерти и в огне,
Гнушаясь обществом таким,
Уйдут к свободным и благим.
90. 90
И для народа та резня
Зажжет огонь иного дня,
В нем будет знак для вольных дан,
Далеко прогремит вулкан.
91. 91
Промчатся звучные слова,
И будет сила их жива,
Сквозь каждый разум их печать
Блеснет опять - опять - опять.
92. 92
Восстаньте ото сна, как львы,
Вас столько ж, как стеблей травы;
Развейте чары темных снов,
Стряхните гнет своих оков,
Вас много - скуден счет врагов!"
93. КОММЕНТАРИИ
Поэма написана в 1819 году.
В августе 1819 года, когда Шелли был в Италии, в Англии в Манчестере
солдаты разогнали митинг. С обеих сторон были убитые и раненые. Действия
правительства вызвали у поэта гневную реакцию, однако он боялся и того, что
урок насилия будет выучен и противоположной стороной: "Тираны здесь, так же
как во время Французской революции, первые пролили кровь, - писал в одном из
писем П. Б. Шелли. - Да не будут их гнусные уроки выучены с подобной же
легкостью". Шелли верил в силу слова.
Кастельри (Каслри) Стюарт Роберт (1759-1822) - министр иностранных дел
Англии (1812-1822), один из самых реакционных политиков той поры.
Л. Володарская
Перси Биши Шелли. Возмущение Ислама
(ЛАОН И ЦИТНА,
или
ВОЗМУЩЕНИЕ ЗОЛОТОГО ГОРОДА)
Перевод К. Бальмонта
Перси Биши Шелли. Избранные произведения. Стихотворения. Поэмы. Драмы.
Философские этюды
М., "Рипол Классик", 1998
OCR Бычков М.Н. mailto:bmn@lib.ru
1. ВИДЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА
Дай где стать,
И я сдвину вселенную.
Архимед
2. ПРЕДИСЛОВИЕ
Поэма, ныне предлагаемая мною миру, представляет из себя попытку, от
которой я вряд ли могу ожидать успеха, в которой писатель с установившейся
славой мог бы потерпеть неудачу, не причинив себе этим никакого посрамления.
Это опыт касательно природы общественного духа, имеющий целью
удостовериться, насколько еще, при тех бурях, которые потрясли нашу эпоху,
среди людей просвещенных и утонченных, сохранилась жажда более счастливых
условий общественной жизни, моральной и политической. Я старался соединить в
одно целое напевность размерной речи, воздушные сочетания фантазии, быстрые
и тонкие переходы человеческой страсти - словом, все те элементы, которые
существенным образом составляют Поэму, и все это я хотел посвятить делу
широкой и освободительной морали: мне хотелось зажечь в сердцах моих
читателей благородное воодушевление идеями свободы и справедливости, ту веру
и то чаяние чего-то благого, которых ни насилие, ни искажение, ни
предрассудок не могут совершенно уничтожить в человечестве.
Для этой цели я избрал историю человеческой страсти в ее наиболее
всеобщей форме, историю, перемешанную с волнующими и романтическими
приключениями и взывающую, вопреки всем искусственным мнениям и учреждениям,
ко всеобщим влечениям каждого человеческого сердца. Я не делал попытки
восхвалять с помощью правил и систематических доказательств те внутренние
побуждения, которым я хотел бы доставить торжество, взамен побуждений, ныне
управляющих человечеством. Я хотел бы только возбудить чувства таким
образом, чтобы читатель мог увидеть красоту истинной добродетели и был
подвигнут к тем исследованиям, которые привели меня к моему нравственному и
политическому кредо, являющемуся также догматом самых возвышенных умов мира.
Поэма, таким образом, - за исключением первой Песни, чисто вводной, -
является повествовательной, не дидактической. Это смена картин, в которых
изображены рост и преуспеяния отдельного ума, стремящегося к совершенству и
полного любви к человечеству; его старания утончить и сделать чистыми
самые дерзновенные и необычные порывы воображения, разумения и чувств; его
нетерпение при виде "всех угнетений, свершенных под солнцем", его стремление
пробудить общественные чаяния и, просветительным путем, улучшить
человечество; быстрые результаты такого стремления, приведенного к
осуществлению: пробуждение великого народа, погрязшего в рабстве и низости,
к истинному чувству нравственного достоинства и свободы; бескровное
низложение притеснителей с трона и разоблачение ханжеских обманов, которыми
эти люди были вовлечены в подчиненность; спокойствие торжествующего
патриотизма и всеобъемлющая терпимость озаренного благоволением, истинного
человеколюбия; вероломство и варварство наемных солдат; порок как предмет не
кары и ненависти, а доброты и сострадания; предательство тиранов; заговор
Мировых Правителей и восстановление чужеземным оружием изгнанной Династии;
избиение и истребление Патриотов и победа установленной власти; последствия
законного утеснения, гражданская война, голод, чума, суеверие и крайнее
погашение семейных чувств; судебное убиение защитников Свободы; временное
торжество гнета, этот верный залог конечного и неизбежного его падения;
переходный характер невежества и заблуждения и вечная неизменность гения и
добродетели. Таково в общих очертаниях содержание Поэмы. И, если возвышенные
страсти, которыми я хотел отметить это повествование, не возбудят в читателе
благородного порыва, пламенной жажды совершенства, глубокого и сильного
интереса, которые связаны со столь благородными желаниями, пусть эта неудача
не будет отнесена на счет естественного отсутствия в человеческом сердце
сочувствия к таким высоким и воодушевляющим замыслам. Кому же, как не Поэту,
надлежит сообщать другим наслаждение и воодушевление, проистекающие из таких
образов и чувств, присутствие которых в его уме составляет одновременно и
его вдохновение, и его награду!
Паника, подобно эпидемическому исступлению, охватившая все классы
общества во время излишеств, сопровождавших Французскую революцию,
мало-помалу уступает место здравому смыслу. Теперь уже более не верят, что
целые поколения людей должны примириться с злополучным наследием невежества
и нищеты лишь потому, что представители одной из наций, которая в течение
столетий была порабощена и одурачена, не были в состоянии вести себя с
мудростью и спокойствием свободных людей, когда некоторые из их оков частью
распались. То, что поведение этих людей не могло быть отмечено не чем иным,
как свирепостью и безрассудством, представляет из себя исторический факт,
служащий наибольшею хвалою свободе и показывающий ложь во всем
отвратительном ее безобразии. В потоке человеческих вещей есть некое
течение, которое относит потерпевшие крушение людские надежды в верную
гавань, после того как бури отшумели. Мне кажется, те, что живут теперь,
пережили эпоху отчаяния.
Французская революция может быть рассматриваема как одно из тех
проявлений общего состояния чувств среди цивилизованного человечества,
которые создаются недостатком соответствия между знанием, существующим в
обществе, и улучшением или постепенным уничтожением политических учреждений.
1788 год можно принять как эпоху одного из наиболее важных кризисов,
созданных подобными чувствами. Влечения, связанные с этим событием,
коснулись каждого сердца. Наиболее великодушные и добрые натуры участвовали
в этих влечениях наиболее широким образом. Но осуществить в той степени ни с
чем не смешанное благо, как этого ждали, было невозможно. Если бы Революция
была преуспеянием во всех отношениях, злоупотребления власти и суеверие
наполовину утратили бы свои права на нашу ненависть, как цепи, которые узник
мог разъять, едва шевельнув своими пальцами, и которые не въедаются в душу
ядовитою ржавчиной. Обратное враждебное течение, вызванное жестокостями
демагогов, и восстановление последовательных тираний во Франции были ужасны,
и самые отдаленные уголки цивилизованного мира это почувствовали. Могли ли
внимать доводам рассудка те, кто стонали под тяжестью несчастий бедственного
общественного состояния, благодаря которому одни разгульно роскошествуют, а
другие, голодая, нуждаются в куске хлеба? Может ли тот, кого вчера топтали
как раба, внезапно сделаться свободомыслящим, сдержанным и независимым? Это
является лишь как следствие привычного состояния общества, созданного
решительным упорством и неутомимою надеждой и многотерпеливым мужеством,
долго во что-нибудь верившим, и повторными усилиями целых поколений,
усилиями постепенно сменявшихся людей ума и добродетели. Таков урок, п
реподанный нам нынешним опытом. Но при первых же превратностях чаяний на
развитие французской свободы пылкое рвение к добру перешло за пределы
разрешения этих вопросов и на время погасло в неожиданности результатов.
Таким образом, многие из самых пламенных и кротко настроенных поклонников
общественного блага были нравственно подорваны тем, что частичное неполное
освещение событий, которые они оплакивали, явилось им как бы прискорбным
разгромом их заветных упований. Благодаря этому угрюмость и
человеконенавистничество сделались отличительною чертою эпохи, в которую мы
живем, утешением разочарования, бессознательно стремящегося найти утоление в
своенравном преувеличении собственного отчаяния. В силу этого литература
нашего века была запятнана безнадежностью умов, ее создавших. Метафизические
изыскания, равно как исследования в области нравственных вопросов и
политического знания, сделались не чем иным, как тщетными попытками оживить
погибшие суеверия {Я должен сделать исключение для Academical Questions сэра
В. Дрюммонда - том крайне острой и мощной метафизической критики.}, или
софизмами, вроде софизмов Мальтуса, рассчитанными на то, чтобы у баюкивать
притеснителей человечества, шепча им о вечном торжестве {Достопримечательно,
как знак оживления общественных чаяний, что мистер Мальтус в позднейших
изданиях своего сочинения, приписывает нравственному воздержанию
безграничную власть над принципом народонаселения. Эта уступка отвечает на
все последствия его системы, неблагоприятные для человеческого преуспеяния,
и превращает опыт о народонаселении в изъяснительную иллюстрацию к
неоспоримости общественной справедливости.}. Наши беллетристические и
политические произведения омрачились той же смертной печалью. Но, как мне
кажется, человечество начинает пробуждаться от своего оцепенения. Я
чувствую, думается мне, медленную, постепенную, молчаливую перемену. В этой
уверенности я и написал данную поэму.
Я не притязаю на состязательство с нашими великими современными
Поэтами. Но я не хочу также и идти по следам кого бы то ни было из моих
предшественников. Я старался избежать подражаний какому-либо стилю языка или
стихосложения, свойственному оригинальным умам, с которыми стиль этот
причинно связан, - имея в виду, чтобы то, что я создал, пусть даже оно не
имеет никакой ценности, было все же совершенно моим. Я не позволил также
какой-нибудь чисто словесной системе отвлечь внимание читателя от
достигнутого мной интереса, каков бы он ни был, и обратить это внимание на
собственную мою замысловатость в изобретательности. Я просто облек мои
мысли таким языком, который мне казался наиболее явным и подходящим. Кто
сроднился с природой и с самыми прославленными созданиями человеческого ума,
тот вряд ли ошибется, следуя инстинкту, при выборе соответствующей речи.
Есть некоторое воспитание, особенно подходящее для Поэта, воспитание,
без которого гений и впечатлительность вряд ли совершат полный круг своих
способностей. Конечно, никакое воспитание не уполномочит на это наименование
ум тупой и ненаблюдательный или ум хотя бы не тупой и способный к
наблюдательности, но такой, что в нем пути между мыслью и выражением
засорены или закрыты. Насколько моим уделом было принадлежать к тому или к
другому разряду, я не знаю. Я стремлюсь к тому, чтобы быть чем-нибудь
лучшим. Случайные обстоятельства моего воспитания благоприятствовали этой
честолюбивой мечте. Я с детства сроднился с горами, и с озерами, и с морем,
и с уединением лесов: Опасность, играющая на краю пропастей, была моей
сверстницей. Я проходил по ледникам Альп и жил под взором Монблана. Я
скитался среди отдаленных равнин. Я плыл по течению могучих рек и видел, как
солнце восходит и заходит и как выступают звезды, меж тем как я плыл и ночью
и днем по быстрому потоку среди гор. Я видел людные города и наблюдал, как
страсти возникают, и распространяются, и падают, и меняются среди
нагроможденных множеств людей. Я видел сцену самых явных опустошений тирании
и войны, города и деревни, превратившиеся в разъединенные небольшие группы
черных домов, лишенных кровли, видел, как нагие их обитатели сидят,
голодные, на своих опустелых порогах. Я говорил с ныне живущими гениями.
Поэзия Древней Греции, и Рима, и современной Италии, и нашей собственной
страны была для меня, как внешняя природа, страстью и наслаждением. Таковы
источники, из которых я извлек материалы для сценической обстановки моей
Поэмы. Я рассматривал Поэзию в самом широком смысле; я читал Поэтов, и
Историков, и Метафизиков {В этом смысле в создании вымысла может быть
известное усовершенствование, несмотря на нередкое утверждение защитников
человеческого преуспеяния, будто этот термин, усовершенствование, применим
только к науке.}, сочинения которых были мне доступны; я смотрел на
прекрасную и величественную панораму земли как на общий источник тех
элементов, соединять которые в одно целое и различным образом сочетать
есть удел Поэта. Однако опыт и чувства, мною указываемые, сами по себе не
делают еще людей поэтами, а только предуготовляют их, чтобы они могли быть
слушателями поэтов существующих. Насколько я буду признан обладателем этой
другой, более существенной принадлежности Поэзии, способности пробуждать в
других ощущения, подобные тем, что оживляют мое собственное сердце, этого,
говоря чистосердечно, я совершенно не знаю; и об этом я, с полной
готовностью покориться, буду судить по впечатлению, произведенному на тех, к
кому я теперь обращаюсь.
Как я уже говорил, я старался избегнуть подражания какому-либо из
современных стилей. Но между всеми писателями какой-либо данной эпохи должно
быть известное сходство, не зависящее от их собственной воли. Они не могут
уклониться от подчинения общему влиянию, проистекающему из бесконечного
сочетания обстоятельств, относящихся к эпохе, в которую они живут, хотя
каждый из них до известной степени является созидателем того самого влияния,
которым проникнуто все его существо. Таким образом, трагические поэты эпохи
Перикла, итальянские возродители древнего знания, могучие умы нашей
собственной страны, наследовавшие Реформации, переводчики Библии, Шекспир,
Эдмунд Спенсер, драматурги Елизаветинской эпохи и лорд Бэкон, более холодные
души следующего периода - все они имеют сходство между собою, хотя они
отличаются друг от друга. При таком порядке вещей Форд не более может быть
назван подражателем Шекспира, чем Шекспир подражателем Форда. Между двумя
этими людьми было, может быть, немного других точек соприкосновения, кроме
всеобщего и неизбежного влияния их эпохи. Это именно то влияние, от которого
не властен ускользнуть ни самый ничтожный писака, ни самый возвышенный гений
какого бы то ни было времени; уклониться от такого влияния не пытался и я.
Я выбрал для своей Поэмы спенсеровскую стансу - размер необыкновенно
красивый - не потому, что я считаю ее более тонким образцом поэтической
гармонии, чем белый стих Шекспира и Мильтона {Мильтон стоит одиноко в эпохе,
которую он озарял.}, а потому, что в области последнего нет места для
посредственности: вы или должны одержать победу, или совершенно пасть.
Этого, пожалуй, должен был бы желать дух честолюбивый. Но меня привлекала
также блестящая пышность звука, которой может достигнуть ум, напитанный
музыкальными мыслями, правильным и гармоническим распределением пауз в этом
ритме. Есть, однако, места, где я потерпел в своей попытке полную неудачу,
одно место я прошу читателя рассматривать как простую ошибку, ибо в середине
стансы я, неосмотрительным образом, оставил александрийский стих.
Но как в этом, так и в других отношениях я писал без колебания. Это
истинное несчастье нашего времени, что современные писатели, совершенно не
думая о бессмертии, необыкновенно чувствительны к временным похвалам и
порицаниям. Они пишут и в то же время трепещут разных обозрений, которые как
будто у них перед глазами. Подобная система критики возникла в тот
оцепенелый промежуток времени, когда поэзии вовсе не было. Лонгин не мог
быть современником Гомера, ни Буало современником Горация. Но такой род
критики никогда и не притязал на утверждение своих приговоров как таковых:
эта критика, нимало не похожая на истинное знание, не предшествовала мнению
людей, а всегда следовала за ним, она хотела бы даже и теперь, ценой своих
ничтожных похвал, подкупить некоторых из величайших наших поэтов, чтобы они
наложили добровольные оковы на свою фантазию и сделались бессознательными
соучастниками в ежедневном убиении каждого гения, не столь стремительного
или не столь счастливого, как они. Я старался поэтому писать так, как
писали, по моему представлению, Гомер, Шекспир и Мильтон, с крайним
пренебрежением к безымянным осуждениям. Я уверен, что клевета и искажение
моих мыслей могут вызвать во мне соболезнование, но не могут нарушить мой
покой. Я уразумею выразительное молчание тех проницательных врагов, которые
не осмеливаются говорить сами. Из оскорблений, поношений и проклятий я
постарался извлечь те увещания, которые могут содействовать исправлению
каких бы то ни было несовершенств, открытых подобными осудителями в моем
первом серьезном обращении к публике. Если бы известные критики были столь
же ясновидящи, как они злостны, сколько благого можно было бы извлечь из их
злобных писаний. При данном порядке вещей, боюсь, я буду достаточно лукавым,
чтобы позабавиться их дрянными ухищрениями и их хромыми нападками. Если
публика решит, что мое произведение не имеет ценности, я преклонюсь пред
трибуналом, от которого Мильтон получил свой венец бессмертия, и
постараюсь, если только буду жить, найти в этом поражении силу, которая
подвигла бы меня в новую попытку мысли, уже _не_ лишенную ценности. Я не
могу представить, чтобы Лукреций, когда он размышлял над поэмой, идеи
которой до сих пор еще составляют основание нашего метафизического знания и
красноречию которой дивилось человечество, писал ее и в то же время боялся
осуждения наемных софистов, подкупленных грязными и суеверными аристократами
Рима. Лишь в тот период, когда Греция была пленена и Азия сделалась данницей
республики, почти уже склонявшейся к рабству и разрушению, толпа сирийских
пленников, слепо поклонявшихся своей бесстыдной Астарот, и недостойные
преемники Сократа и Зенона нашли себе свое неверное пропитание в том, что,
под названием вольноотпущенников, способствовали порокам и тщеславностям
великих. Эти злосчастные были опытны в искусстве защищать набором
поверхностных, но приемлемых софизмов презрение к добродетели, являющееся
уделом рабов, и веру в чудеса, эту гибельнейшую замену благоволения в умах
людей. Неужели на неодобрение подобного сорта людей мудрый и возвышенный
Лукреций смотрел с благодетельным страхом? Последний и, быть может, самый
малый из тех, кто пошел по его дороге, с презрением отвернулся бы от жизни
при таких условиях.
Я работал над предполагаемой Поэмой полгода с небольшим. В течение
этого периода я предавался осуществлению своего замысла с неустанным рвением
и воодушевлением. По мере того как моя работа продвигалась вперед, я
подвергал ее самой внимательной и серьезной критике. Я охотно предал бы ее
гласности с тем совершенством, которое, говорят, дается долгой работой и
пересмотром. Но я нашел, что, если бы этим путем я выиграл что-нибудь в
точности, я много потерял бы в свежести и силе образов и языка, в их прямой
непосредственности. И хотя внешняя работа над Поэмой продолжалась не более
шести месяцев, мысли, вложенные в нее, медленно накоплялись в течение многих
лет.
Я высказываю уверенность, что читатель тщательно будет различать те
мнения, которые, как драматическая принадлежность, изъясняют изображаемые
характеры, от тех мыслей, которые принадлежат лично мне. Так, например, я
нападаю на ошибочное и унизительное представление о Верховном Существе,
которое оставили себе люди, но я не нападаю на само Верховное Существо. То
мысленное утверждение, которое некоторые суеверия, выведенные мною на сцену,
поддерживают касательно Божества, оскорбительное для Его благоволения,
весьма отличается от моего. Точно так же, взывая к великой и важной перемене
в области Бога, оживляющего общественные учреждения человечества, я избегал
всякого потакания тем насильственным и зловредным страстям нашей природы,
которые всегда наготове, чтобы смешаться и перепутаться с самыми
благодетельными нововведениями. Здесь нет места отмщению, или Зависти, или
Предубеждению. Везде прославляется только Любовь, как единственный закон,
долженствующий управлять нравственным миром.
В личном поведении моего героя и моей героини есть обстоятельство,
которое введено с целью пробудить читателя из оцепенения обычной
повседневности. Моим намерением было прорвать кору тех изношенных мнений, на
которых зыблются некоторые установления. Я воззвал поэтому к наиболее
всеобщему из чувствований и сделал попытку усилить нравственное чувство,
возбранив ему истреблять свою энергию в стараниях избегать действий, которые
представляют из себя лишь условные преступления. Истинных добродетелей так
мало именно потому, что существует такое множество искусственно созданных
пороков. Только те чувства, которые полны благоволения или
зложелательства, являются по существу добрыми или злыми. Указываемое мною
обстоятельство было, впрочем, введено мною главным образом для того, чтобы
приучить людей к тому милосердию и к терпимости, которые имеют наклонность
возникать при созерцании обычаев, значительно отличающихся от наших. На
самом деле ничто не может быть столь зловредным по своим последствиям, как
многие действия, невинные сами по себе и привлекающие на отдельных людей
слепое презрение и бешенство толпы {Чувства, связанные с этим
обстоятельством и ему присущие, не имеют.}.
Посвящение
Нет для того опасности, кто знает,
Чт_о_ жизнь и смерть: закона нет иного,
Чтоб знание его превосходило:
И незаконно было б, чтоб склонялся
Он пред другим каким-нибудь законом.
Чапман
К Мэри
3. 1
Теперь мой летний труд окончен, Мэри.
С тобой я вновь, приют сердечный мой,
Как Рыцарь Фей, своей послушный вере,
С добычею вернувшийся домой,
С добычей для дворца его Царицы:
Не презри, если я мою звезду,
Сокрытую как бы во мгле темницы,
С твоею слил, когда я только жду,
Что, может быть, я встречу луч привета,
Тогда как ты - Дитя любви и света.
4. 2
Окончен труд, что у тебя часов
Так много отнял, - он перед тобою!
Не в тишине задумчивых лесов,
Где ветви, встретясь, вьются пеленою,
Не там, где в полнозвучном забытьи
Журча, стремятся волны водопада,
Не между трав, где для моей ладьи
Затон был тиши, вспыхнет мне отрада,
Но близ тебя, души моей звезда,
Где сердцем в эти дни я был всегда.
5. 3
Мечтой ласкал я светлые деянья,
Когда впервые с мира спала тень.
Проснулся дух. Я помню обаянье.
То был веселый свежий майский день.
Я шел меж трав, они в лучах блестели.
Я плакал, сам не зная почему,
Из ближней школы крики долетели,
Мир звуков, чуждых сердцу моему,
Враждебный ропот боли и обманов,
Скрипучий смех насильников, тиранов.
6. 4
И, руки сжав, я посмотрел вокруг,
Но слез моих никто не мог заметить,
Я был один, кругом был светлый луг,
И, не боясь насмешку взора встретить,
Воскликнул я: "Хочу я мудрым быть,
Свободным, кротким, нежным, справедливым,
Не в силах я ни видеть, ни забыть,
Что сильный может злым быть и счастливым".
И я решил быть твердым навсегда,
И кротким я и смелым стал тогда.
7. 5
И стал я накоплять с того мгновенья
Познанья из запретных рудников,
К тиранам полон был пренебреженья,
Не принимал мой ум пустых их слов,
И для души, в тех горницах сокрытых,
Себе сковал я светлую броню
Из чаяний, из мыслей, вместе слитых,
Которым никогда не изменю;
Я рос, но вдруг почувствовал однажды,
Что я один, что дух мой полон жажды.
8. 6
Увы, любовь - проклятье, злейший враг,
Тому, кто все в одном желает встретить!
Я жаждал света - тщетно: всюду мрак,
И только тени взор мой мог заметить;
Повсюду тьма и холод без конца,
Один скитался я в ночи беззвездной,
Суровые и жесткие сердца
Встречал я на пути, во мгле морозной,
В груди был лед, покуда я, любя,
Не ожил под лучом, узнав тебя.
9. 7
О, Друг мой, как над лугом омертвелым,
Ты в сердце у меня Весну зажгла,
Вся - красота, одним движеньем смелым
Ты, вольная, оковы порвала,
Условности презрела ты, и ясно,
Как вольный луч, прошла меж облаков,
Средь дымной мглы, которую напрасно
Рабы сгустили силой рабских слов,
И, позабывши долгие страданья,
Мой дух восстал для светлого свиданья!
10. 8
И вот я не один был, чтоб идти
В пустынях мира, в сумраке печали,
Хоть замысла высокого пути
Передо мной, далекие, лежали.
Порой терзает добрых Нищета,
Бесчестие смеется над невинным,
Друзья - враги, повсюду темнота,
Толпа грозит, но в сумраке пустынном
Есть радость - не склоняться пред Судьбой,
Ту радость мы изведали с тобой!
11. 9
Веселый час нам шлет теперь сиянье,
И с ним друзья спешат опять прийти,
Страданье оставляет власть и знанье:
Презреньем за презренье не плати.
Тобою рождены мне два ребенка,
Отрадно нам в их взорах видеть рай.
Их детский смех звучать нам будет звонко,
Мы счастливы с тобой в наш ясный Май:
И так как ты меня приводишь к Маю,
Тебе я эти строки посвящаю.
12. 10
Быть может, за созвучьем этих строк
Звучней спою другое Песнопенье?
Иль дух мой совершенно изнемог
И замолчит, ища отдохновенья, -
Хоть он хотел бы властно потрясти
Обычай и насилия Закона,
И Землю к царству Правды привести,
Священнее, чем лира Амфиона?
Надеяться ль, что буду сильным вновь,
Иль Смерть меня погубит и Любовь?
13. 11
А ты? Чт_о_ ты? Я знаю, но не смею
Сказать. Пусть это скажет голос дней.
Но бедностью чрезмерною твоею,
Задумчивостью светлою своей,
Нежнейшими улыбками, слезами
Пророческий ты воплощаешь сон.
И этим всем, и кроткими словами
Мой страх, заветный страх мой покорен:
В твоих глазах, в твоей душе нетленной
Огонь весталки вижу я бессменный.
14. 12
Мне говорят, что ты была нежна
От самого рождения, - о, Чадо
Родителей блестящих. - Да. Одна,
Чья жизнь была как звездный лик для взгляда,
Тебя одела ясностью своей
И от земли ушла, но в дыме бури
Ты все хранишь сиянье тех лучей.
Твои глаза таят всю глубь лазури,
И именем бессмертным твой отец
Тебе дает приют и в нем венец.
15. 13
Единый зов из многих душ могучих
Восстал, как громкий гул трех тысяч лет;
И шумный мир молчал. В песках сыпучих,
В пустыне, песнь о днях, которых нет,
Так внемлет путник. Вздрогнули тираны,
Затрепетали бледные ханжи,
Насилие, заботы, и обманы,
И чада Суеверия и Лжи
Оставили сердца людей на время,
Зловещее свое убрали бремя.
16. 14
Бессмертный голос правды меж людей
Живет и медлит! Если без ответа
Останется мой крик и над моей
Любовью к людям, и над жаждой света
Глумиться станет бешенство слепых,
О, друг мой, ты и я, мы можем ясно,
Как две звезды меж облаков густых,
В ночи мирской светиться полновластно,
Над гибнущими в море, много лет,
Мы будем сохранять свой ровный свет.
Песнь первая
17. 1
Когда, как краткий блеск непрочной славы,
Во Франции последний сон увял,
От темных снов, исполненных отравы,
Я встал и поднялся к вершине скал,
На мыс, что над пещерами вздымался,
Вокруг которых пел седой прибой;
Рассвет вкруг каждой тучки занимался,
Горел в волнах, в пустыне голубой, -
Но вдруг Земля шатнулась в основанье,
Как бы в своем предсмертном содроганье.
18. 2
Внезапно прошумел ворчащий гром,
В раскате он прошел над глубиною,
С поспешностью, вверху, внизу, кругом,
Туманы разрастались пеленою,
Они ползли и, сумрачно сплетясь,
Укрыли солнце молодое, -
Не слышалось ни звука; свет погас;
Застыло все в чудовищном покое,
Леса и воды; и густая мгла
Темней, чем ночь, страшней, чем ночь, была.
19. 3
Чу, это ветер мчится над Землею
И океан метет. Вот глубь Небес
Разъята вспышкой молний; дальней мглою
Ниспослан дождь из облачных завес,
и Ветер хлещет зыбь, она блистает;
И все - бурун, и молния, и град -
В водоворот единый нарастает.
Миг тишины. Из тьмы пещер глядят
Морские птицы: что за тишь настала,
И что это на Небе возблистало?
20. 4
Там, где вверху была разъята мгла
Дыханием неудержимой бури,
Меж белых облачков, нежна, светла,
Предстала глубь ликующей лазури,
Под тем просветом просиял туман,
Все замерло, как бы под властью чуда,
И призрачно-зеленый Океан
В себе качал оттенки изумруда;
Лишь там вверху несчетность облаков
Неслась быстрей оборванных листков.
21. 5
Росла война меж ярой силой бури
И грудой туч; но вместе с тем росла
Блистательность проглянувшей лазури;
Громада облаков, тесна, бела,
Недвижной оставалась в отдаленье;
Меж тем воздушно-бледный1 серп луны
Всходил в неспешном царственном движенье,
Светясь с непостижимой вышины;
Над ним туманы таяли, как тает
Под солнцем снег и в таянье блистает.
22. 6
Я не глядеть не мог; в луне, во всем
Какое-то очарованье было,
Я грезил и не знаю сам о чем,
Чего-то ждал; вдруг взор мой поразило,
Что в небе синем, в белизне луны,
Возникла тень, пятно, как бы виденье,
Оно росло в провалах вышины,
Неслось ко мне из бездны отдаленья;
Так в море, парусами шевеля,
Под солнцем мчится призрак корабля.
23. 7
Да, как ладья, в расселине скалистой.
Несется по теченью, и река,
Набравшись новых сил в теснине мглистой,
Качает легкий облик челнока,
И весла мчат его над пеной белой, -
Так на ветрах, в лазури, предо мной
Крылатый Призрак мчался, онемелый,
Как будто опьяненный вышиной,
И гнал его порыв грозы могучий,
И молнии за ним рвались из тучи.
24. 8
Как бешено, как быстро, как легко
Чудовищное мчалося виденье!
Я в воздухе увидел, высоко,
Орла и с ним Змею, одно сплетенье -
Они боролись, и пред той скалой,
Где я стоял, Орел, раскинув крылья,
Замедлил, с многоцветною Змеей,
Как бы изнемогая от усилья.
И так повис, как будто бы без сил,
И воздух диким криком огласил.
25. 9
Стрелою луч, из дальних туч излитый,
Коснулся крыл, сияние струя,
Змея и Птица вместе были свиты,
Сверкнула, как кольчуга, чешуя:
Горя, как драгоценные каменья,
Сквозь перья золотые там и здесь
Просвечивали искристые звенья.
И вздутый узел был блестящим весь,
И, шею отклонив и вынув жало,
Змея свой взор в орлиный взор вперяла.
26. 10
Кругом, кругом, срываясь и кружась,
Орел летал с неудержимым криком,
Порой высоко в Небо уносясь,
Почти скрываясь там, в порыве диком,
Порою, как бы выбившись из сил,
Он падал с громким воплем над волнами,
Змею до самой влаги доносил,
Ее терзая клювом и когтями;
Змея к Орлу не уставала льнуть,
Ища - его смертельно ранить в грудь.
27. 11
Какая жизнь, какая сила в смене
Удачи этих сказочных врагов!
От схватки пар, подобный легкой пене,
Повис вкруг них в дыхании ветров;
Летали перья, в воздухе, далеко,
Блестела под когтями чешуя.
Орлиное светло горело око,
Во мгле мерцая, искрилась Змея;
И, где они летели над волною,
Виднелась кровь над пенной глубиною.
28. 12
Каким борьба закончится концом?
Свершится бой, и каждый ровно бьется;
Порой бриллиантовым кольцом
Змея вкруг вражьей шеи обовьется,
Тогда Орел, сдержавши свой полет,
С своим врагом почти уже не споря,
С высот до пенной зыби упадет
И чуть не мочит крыл во влаге моря.
И у Змеи, в приливе торжества.
Вздут гребень и подъята голова.
29. 13
Порою удушающие звенья
Змея разъять готова, чтоб хлестать
Всей силой искривленного движенья
Морскую, ветром схваченную гладь;
Чтобы порвать тяжелые оковы,
Всей шеей мускулистой, взмахом крыл,
Орел, изнеможенный и суровый.
Не раз напряг остаток гордых сил,
И, мнилось, вольный, он среди тумана
Взлетит, как дым из жаркого вулкана.
30. 14
Так длился переменчивый тот бой,
На хитрость - хитрость, и на силу - сила;
Но та борьба конец имела свой:
Лампада дня почти уж погасила
Свой яркий свет, - как мощная Змея
Повисла высоко, изнемогая,
Потом упала, еле жизнь тая,
И влага приняла ее морская.
Орел вскричал, крылами шелестя,
И ветер прочь отнес его, свистя.
31. 15
И вместе с тем свирепость дикой бури
Окончилась, заискрился простор
Земли, и Океана, и Лазури,
И только с удивленьем видел взор,
Как, точно горы, трепетали волны.
Над солнцем, снизошедшим с вышины;
Их гул врывался в тишь и мир безмолвный,
С высот спустясь, дошел я до волны, -
Был ясен вечер, воды моря пели
И спали, как ребенок в колыбели.
32. 16
Там, на прибрежье, Женщина была,
Она внизу сидела, под скалами,
Прекрасная, как утренняя мгла
И как цветок, расцветший над снегами;
Прижавши руки нежные к груди,
Она глядела пристально на волны;
С волос завязка спала: впереди
Простор Небес раскинулся безмолвный;
А где волна ложилась на песок,
Дрожал красивый маленький челнок.
33. 17
Казалось, это нежное Виденье
Следило за причудливой борьбой;
Теперь в глазах виднелось утомленье.
Для них был слишком силен свет дневной,
В них слезы трепетали молчаливо,
И, на песок сверкающий смотря,
Где в кружеве шуршащего прилива
Светилася вечерняя заря.
Она стонала, бледная от горя,
И с каждым стоном взор бросала в море.
34. 18
Когда ж Змея упала с высоты,
У ней, бледнея, губы задрожали,
И дрогнули в ее лице черты,
Но, не издав ни возгласа печали,
Она привстала с места в тот же миг,
В ветрах ее одежды развевались,
И бросила она свой звонкий крик,
На голос тот пещеры отозвались,
И серебро тех звуков разлилось,
Как пряди теневых ее волос.
35. 19
Напевность этой речи, полной странных
Нездешних чар, я слушал вновь и вновь.
В созвучиях, и нежных, и нежданных,
Я чувствовал - лишь я один - любовь.
Но для Змеи те сладостные звуки
Понятной были речью и родной;
Она уже не билась в дикой муке,
Средь пены, над зеленою волной,
А медлила среди теней прибрежных.
У ног ее, воздушно-белоснежных.
36. 20
И Женщина вновь села на песке,
Заплакала опять, скрестила руки,
И в непостижной сказочной тоске
Согласные опять запели звуки;
Прекрасную она открыла грудь,
И к мрамору, с воздушной белизною,
Сверкнувши, поспешила тень прильнуть,
Рожденная зеленою волною:
Она к себе Змею из вод звала,
И на груди ее Змея легла.
37. 21
Тогда она, вставая, с грустью ясной
Глазами улыбнулась нежно мне,
Как та звезда, что свет вечерне-красный
Своим пронзает светом в вышине.
И молвила: "Печалиться - разумно,
Но безнадежность, что тебя сюда
К пучине вод приводит многошумной,
Напрасна: ты поймешь меня, когда
Дерзнешь, со мной и с этою Змеею,
Пуститься в странный путь над глубиною".
38. 22
Тот возглас был как самый грустный зов,
Как голос позабытый, но любимый.
Я плакал. Неужели в зыбь валов,
Она одна, над бездной нелюдимой,
Со страшною Змеею в путь пойдет?
Змея у ней над сердцем и, быть может,
Чтобы добычу съесть, лишь мига ждет?
Так думал я. Кто ей в беде поможет?
Тут встал прилив, качнула мощь волны
Челнок, что был как будто тень луны.
39. 23
Челнок - мечта! Узорчато-воздушный,
Из лунного был камня иссечен
Перед его; и ветерок послушный
Как будто сходством с тканью был пленен,
Тот ветерок, которого не слышит,
Не чувствует никто, но по волне
Который мчит, когда чуть внятно дышит.
Вот мы в ладье, доверясь глубине;
Безмерное туманное пространство
Оделось в многозвездное убранство.
40. 24
И Женщина рассказывала мне
Пугающий рассказ, пока мы плыли;
Кто сон такой увидит, тот во сне
Бледнеет! Но не сна, а странной были
То весть была. Настал полночный час,
Безбрежным Океан шумел потоком,
И, мне в глаза блеснув сияньем глаз,
Она о чем-то страшном и высоком
Вещала, и, еще не слыша слов,
Уж был я полон музыки и снов.
41. 25
"Не говори, моим словам внимая,
Скажу я много повестью моей,
Но большее живет, свой лик скрывая
В туманной урне - к нам грядущих - Дней.
Узнай же: глубина времен безвестных
Над смертными две Власти вознесла,
Двух Гениев, бессмертных, повсеместных, -
Двум Духам равным в царство мир дала;
Когда возникли жизнь и мысль, в их зное
Ничто родило их, Ничто пустое.
42. 26
Над хаосом, у грани, в этот миг
Стоял один первейший житель мира;
Двух метеоров бурный спор возник
Пред ним, над бездной, в пропастях эфира;
Боролась с Предрассветною Звездой
Кровавая огнистая Комета,
И, весь дрожа взволнованной душой,
Следил он за борением их света,
Вдруг лик Звезды в поток был устремлен,
И тотчас же кровь брата пролил он.
43. 27
Так зло возликовало; многоликий,
Многоименный, мощный Гений зла
Взял верх; непостижимо-сложный, дикий
Царил над миром; всюду встала мгла;
Людей вчера родившееся племя
Скиталось, проклиная боль и мрак,
И ненависти волочило бремя,
Хуля добро, - а зла бессмертный враг
Из звездного Змеей стал нелюдимой,
С зверями и с людьми непримиримой.
44. 28
Тот мрак, что над зарею всех вещей
Восстал, для Зла был жизнью и дыханьем;
Высоко, между облачных зыбей,
Оно взлетело теневым созданьем;
А Дух Добра великий ползать стал
Среди людей, везде встречал проклятья,
Никто добра от зла не отличал,
Хоть клички их вошли во все понятья
И значились на капище, где злой
Свирепый Демон властвовал толпой.
45. 29
Неукротимый Дух терзаний разных,
Чье имя - легион: Смерть, Мрак, Зима,
Нужда, Землетрясенье, бич заразных
Болезней, Помешательство, Чума,
Крылатые и бледные недуги,
Змея в цветах, губительный самум
И то, что поощряет их услуги, -
Страх, Ненависть, и Суеверный Ум,
И Тирания тонкой паутиной
И жизнь и смерть сплетают в ад единый.
46. 30
Он в них вошел как мощь их мрачных сил,
Они - его и слуги, и предтечи.
Во всем, от колыбели до могил,
В лучах, в ветрах, и в помыслах, и в речи,
Незримые: лишь иногда Кошмар
Их в зеркале эбеновом вздымает,
Пред деспотом, как духов темных чар,
И каждый - образ черный принимает,
И сонмы бед они свершить спешат,
На время покидая нижний ад.
47. 31
На утре мира власть его слепая
Была, как этот самый мир, тверда;
Но Дух Добра, пучину покидая,
Змеею встал, отпрянула вода,
Бесформенная бездна отступила,
И с Духом крови снова страшный бой
Возник, в сердцах людей проснулась сила,
Надежды луч зажегся над толпой,
И Ужас, демон бледный и лукавый,
Покинул, вздрогнув, свой алтарь кровавый.
48. 32
Тогда возникла Греция, чей свет
Восславлен мудрецами и певцами;
Им, спавшим в долгой тьме несчетных лет,
Во сне являлись Гении, с крылами
Воздушно-золотыми, - и огнем,
Зажженным, о святая Власть, тобою.
Сердца их наполнялись ярким днем;
Поздней, когда твой враг подъят был тьмою,
Над схваткою их свет благой светил,
Как светит Рай над сумраком могил.
49. 33
Таков тот бой: когда, на гнет восставши,
С тиранами толпа ведет борьбу,
Когда, как пламя молний заблиставши,
Умы людей на суд зовут судьбу,
Когда отродий гидры суеверья
Теснят сердца, уставшие от лжи,
Когда свой страх, в улыбке лицемерья,
Скрывают притеснители-ханжи,
Змея с Орлом тогда во мгле эфира
Встречается - дрожат основы мира!
50. 34
Ты видел эту схватку, - но, когда
Домой вернешься ты, пусть в сердце рана
Закроется, хоть велика беда;
Мир, скажут, стал добычею тирана,
И он его пособникам своим
В награду хочет дать, деля на доли.
Не бойся. Враг, чьим духом мир гоним,
Когда-то всепобедный бог неволи,
Теперь дрожит, схватился за венец
И видит, что идет к нему конец.
51. 35
Вниманье, странник. Я, как ты, - земная,
Коснись меня - не бойся, - я не дух!
Моя рука тепла, в ней кровь людская,
Но речью зачарую я твой слух.
Уж много лет тому, как я впервые
Возжаждала тоскующей душой
Проникнуть мыслью в тайны мировые
И дрогнула над мукою чужой,
И мысль моя, над сном ребенка нежным,
Была полна томлением безбрежным.
52. 36
Вдали от всех людей с своей мечтой
У моря, глубоко в долине горной,
Я вольной и счастливой сиротой
Жила одна; кругом был лес узорный;
В грозу, во тьме блуждала в чаще я,
Спокойная, когда гремели бури;
Но в час, когда, в усладе бытия,
Как будто был лучистый смех в лазури,
Я плакала, в восторг впадая вдруг,
И трепетали пальцы сжатых рук.
53. 37
Предвестия моей судьбы - такие:
Пред тем как сердце женщины в груди
У девушки забилось, неземные
Оно вкусило знанья. Впереди
Просвет возник в мечтаниях. С кудрями
Седыми, бледный юноша-поэт
Пред смертью книги дал мне, и речами
Безумными в душе зажег он свет,
И, гость случайный, он во мне оставил
Как будто вихрь стремлений, дум и правил.
54. 38
Так я узнала повесть скорбных дней,
Которую история вещает,
Узнала, но не как толпа людей,
Из них никто над нею не рыдает;
Пред Мудростью порвалась туча, - мгла,
Скрывающая смертные мученья;
Немногим ведом лик добра и зла,
Но я любила все огнем влеченья;
Когда же ключ Надежды заблистал
В людских умах, - мой дух затрепетал.
55. 39
В моей крови огонь зажегся новый,
Когда восстала Франция в пыли,
Чтобы порвать тяжелые оковы,
Сковавшие народы всей Земли;
Я вскрикнула в восторге безграничном,
От своего вскочивши очага.
И криком, как напевом гармоничным,
Будила тучи, волны и луга.
Они смеялись всею силой света:
Томлением сменилась радость эта.
56. 40
Безумие напало на меня,
Грусть нежная и сон непобедимый, -
Мои виденья были из огня,
И сон теней, сквозь мозг огнем гонимый,
Промчался, буря страсти пронеслась,
И глубь души спокойной стала снова,
Нежней в ней стала тьма, любовь зажглась,
Любила я - кого-то неземного!
В свое окно я глянула тогда.
Светилась Предрассветная Звезда.
57. 41
Казалось мне, что чей-то взор лучистый
Мне светит, - я глядела на нее,
Пока она не скрылась в бездне мглистой
Средь волн, простерших царствие свое;
Но дух мой, воплотив весь мир безбрежный
В одной мечте, впил яркую любовь
Из тех лучей, и этот образ нежный -
Единый образ - светит вновь и вновь!
Как пышный день средь облачного дыма,
В моем уме Звезда неугасима.
58. 42
Так день прошел; а в ночь приснился мне
Какой-то призрак сказочно-прекрасный,
Он был как свет, что дышит в вышине,
На тучах золотых, в лазури ясной;
С Предутренней Звездою на челе,
Он юношей крылатым мне явился,
Возник он опьяненьем в сладкой мгле.
И так дышал, так близко наклонился,
Взглянул, к губам прильнул, красив и смел,
И долгий поцелуй запечатлел.
59. 43
И молвил: "Любит Дух тебя, о дева,
Как, смертная, достойна будешь ты?"
Восторг и сон исчезли - как от гнева,
Я грустные лелеяла мечты
И к берегу пошла, но, возрастая,
Иной восторг возник и мне светил,
Он путь мой, точно в чем-то убеждая,
От берега морского отвратил;
Казалось, голос Духа в сердце страстном
Шептал, маня идти путем неясным.
60. 44
Как в город многолюдный я пришла,
Который полем был для битв священных,
Как средь живых и мертвых я была
Меж злых людей, меж раненых и пленных,
Как я была за истину борцом
И ангелом в пещере у дракона,
Как смело, не заботясь ни о чем,
Я шла на смерть, не издавая стона,
И как вернулась я, когда погас
Надежды луч, - то горестный рассказ.
61. 45
Молчу. Скрываю слез порыв бесплодный.
Когда немного легче было мне,
Не стала я, как большинство, холодной;
Тот Дух, что я любила в тишине,
Поддерживал меня: в молчанье ночи,
В волнах, в объятых бурею лесах
Я чувствовала любящие очи
И нежный зов: когда же в Небесах
Простор сияньем звездным зажигался,
Я знала, это он светло смеялся.
62. 46
В пустынных долах, возле мощных рек,
Во тьме ночей безлунных я узнала
Восторги, незабвенные вовек,
Всех слов людских, чтоб их поведать, мало;
Чуть вспомню - и бледнею: скорбный крик
Чрез годы разлучил меня со снами;
На мне покров таинственный возник,
Незримыми он брошен был руками;
И ярко предо мной зажглась Звезда -
Змея с своим врагом сошлась тогда".
63. 47
"Ты, значит, с ней слилась одним стремленьем?!
Тебе Змея, - спросил я, - не страшна?"
"Страшна?" - она вскричала с изумленьем
И смолкла. Воцарилась тишина.
Я глянул. Мы неслись в пустыне мира,
Как облако меж небом и волной;
Цепь снежных гор, как будто из сафира,
Вздымалась там, далеко, под луной,
Весь горизонт обняв своей каймою;
Мы плыли к ним теперь над глубиною.
64. 48
От быстроты в беспамятство тогда
Я впал; проснулся - музыкой разбужен:
Мы океан проплыли, что всегда
Вкруг полюса шумит и с ветром дружен, -
Природы отдаленнейший предел.
Мы плыли по равнине вод лазурной,
Оплот эфирных гор кругом блестел,
В средине Храм стоял, в тиши безбурной,
Грядою изумрудных островов
Окутан в зыбкой мгле морских валов.
65. 49
Еще ни разу смертною рукою
Такой не воздвигался дивный Храм,
Взлелеян не был грезою людскою;
Он был во всем подобен Небесам,
Когда по зыби западного ската
Еще плывет пурпуровый поток,
И месяц между светлых туч заката
Готов поднять серебряный свой рог,
И звезды, обольстительно-безмолвны,
Глядят с небес на мраморные волны.
66. 50
Лишь Гений, устремляя светлый взор
На свой очаг, среди пустынь Вселенной,
Увидеть мог огромный тот собор,
В мечте, в глубинах мысли сокровенной.
Но ни ваянье, ни могучий стих,
Ни живопись не в силах смертным чувствам
Понятье дать о тайнах мировых,
Что неземным сокрыты здесь искусством, -
Так этот непостижно-сложный вид
Стесняет грудь и разум тяготит.
67. 51
Меж островов зеленых проскользая,
Из чьих лесов глядели вглубь цветы,
Ладья пристала к лестнице. Мелькая,
Ступени нисходили с высоты
До самых волн; в воздушную громаду
Через высокий мы прошли портал,
Свод входа - радость жаждущему взгляду -
Из лунного был камня и блистал
На изваянья, вставшие пред нами,
Как жизнь, как мысль, с глубокими глазами.
68. 52
Мы в зал вошли; высокий потолок,
Из бриллианта, весь был озаренный.
Но глаз глядеть без напряженья мог,
Блеск этих молний негой жил смягченной, -
Как будто в своде туч была волна,
И в этой мягкой мгле, пленяя взоры,
Виднелся в круге круг, с луной луна,
Созвездия, планеты, метеоры, -
На черные колонны опершись,
Как будто небосвод спускался вниз!
69. 53
Далеко лабиринтные приделы
Шли между этих призрачных колонн,
В своих извивах радостны и смелы, -
И Храм был весь, как Небо, озарен;
На яшмовых стенах блистали нежно
Картины, зачаровывая глаз,
В них повесть Духа зыблилась безбрежно,
Божественный и пламенный рассказ;
То Гении, в своей крылатой пляске,
Сплели стихийно ткань волшебной сказки.
70. 54
Великие, что были меж людей,
Сидели на престолах из сапфира
Внизу; Совет могучий - снег кудрей
У них светился кротко негой мира;
И женщины, в чьих жестах ум дышал,
И юноши горячие, и дети;
У некоторых лиры, луч блистал
На тех струнах, мерцавших в мягком свете;
И в воздухе хрустальном тихий звон
Был каждый миг мерцаньем струн рожден.
71. 55
Одно сиденье было там пустое;
На пирамиде, точно из огня,
В изваянном оно светилось зное;
Чуть Женщина вошла в тот зал, - стеня,
Назвавши Духа, вдруг она упала
И медленно сокрылася из глаз.
И мрак на месте том возник средь зала,
Он занял все, и слитный свет погас,
Тот мрак ушел к краям и к средоточью,
И Храм был скрыт непостижимой ночью.
72. 56
Тогда на аметистовом полу
Два огонька зажглись; кружась, мерцая,
Змеиные глаза пронзали мглу;
Как метеор, - над речкой пробегая,
Все шли кругом, кругом, и все росли.
Потом слились, блеснули как планета,
И облако нависшее зажгли
Сияньем победительного света,
Пронзили тень, которой был смущен
Возникший на огне хрустальный трон.
73. 57
Под тучею, тем светом разделенной,
Сидел Безвестный; нет, ни сном мечты,
Ни мыслями, ни речью исступленной
Не расскажу его я красоты;
Воздушной теплотой очарованья,
Как розоватой нежностью огня.
Он оживлял и Храм, и изваянья,
И всех сидевших в Храме, и меня;
Он пышен был, но кроток, как мечтанье,
Спокоен, но исполнен состраданья.
74. 58
На миг в моих глазах померкнул свет.
Настолько был я полон изумленья,
Но кто-то мне, как бы тая привет,
Дал руку и сверкнул как утешенье.
Взгляд синих глаз - и кто-то мне сказал:
"Сегодня только слушай, будь безгласным.
В мирском буруне смолк гремучий вал,
Два мощных Духа к нам предвестьем ясным
Явились, чтоб открыть Надежды рай.
Людская власть сильна. Учись, внимай!"
75. 59
Я посмотрел, и вот! Передо мною
Стоял Один; глубок был темный взор,
Чело сияло, как горят весною
И Небо, и Земля, и выси гор.
Движения его в ответ слагались
Его проникновенному уму,
Черты под властью мысли озарялись.
Владыке повинуясь своему,
Из уст полураскрытых, с силой жгучей,
Лилася речь, как некий ключ кипучий.
76. 60
Так в темноте распущенных кудрей
Стоял он тенью светлою, а рядом
Другая тень была, светлей, нежней;
Взяв за руку его, лучистым взглядом
Она сливалась с ним; но этих глаз
Никто другой не видел; под покровом
Вся красота ее, едва светясь,
Манила взор очарованьем новым -
Воспоминанья встали в нем волной,
И так в тиши рассказ он начал свой.
Песнь вторая
77. 1
Улыбки светозарные ребенка,
Взгляд женщин, грудь, вскормившая меня,
Немолчный звук ручьев, поющих звонко,
Зеленый свет изменчивого дня,
Глядящего сквозь виноград сплетенный,
Свет раковин морских среди песка,
Цветы лесные, луч лампады сонной,
Среди стропил идущий с потолка, -
Вот, в утро жизни, звуки и виденья,
Питавшие мое воображенье.
78. 2
Они во мне сложились в нежный свет,
Там, в Арголиде ласковой, у моря;
Как знак от тех, которых больше нет,
Я помню их; но вскоре, с ними споря,
Другие к ним на смену подошли,
Мир прошлого, те мысли и деянья,
Что временем быть стерты не могли,
И темные старинные преданья,
Откуда, суеверьям дав росток,
В умы течет отравленный поток.
79. 3
Я слушал, как и все, легенду жизни
И плакал с огорчением над ней.
Среди кого я был в моей отчизне?
Историки ее постыдных дней,
Рассказчики надежд и опасенья.
Рабы и слуги Гнета грубых сил,
Что в летопись тоски и униженья
Страницу ежедневно заносил.
Рабы того, кто гнал их, ненавидел, -
Такие тени в юности я видел.
80. 4
В моей стране, как дикая чума,
Власть деспотов свирепая царила.
В конюшни обратилися дома,
Для вольных мыслей каждый дом - могила.
Убивши стыд в разнузданных сердцах,
С тираном раб в Беспутстве состязался,
Смешались вожделение и страх,
И дружеский союз образовался:
Так две змеи, в пыли сплетясь, глядят
И путникам уготовляют яд.
81. 5
Земля, приют наш светлый, волны, горы,
Воздушные виденья, что висят
В лазури, для Земли плетя узоры,
Ничей не зачаровывали взгляд,
Никто не видел тучек, порожденья
Морей и Солнца, нежно не следил
Воздушных красок мягкое сплетенье;
В сердцах у всех был душный мрак могил;
Лучи стремят блистательные стрелы,
Но видят их лишь те, что духом смелы.
82. 6
Приют счастливых духов, мир живой.
Для всех моих был мрачною тюрьмою;
Хоть жалких крох - искал несчастный рой,
Терзаемый бедой своей слепою,
Но лишь темнее находил тюрьму,
Еще другие цепи, тяжелее;
Провал зиял и рос, идя во тьму,
Пред взором жадной пропастью чернея,
А сзади Страх и Время, вперебой,
Несли корабль с кричащею толпой.
83. 7
И создали Беда и Преступленье
Из океанских выбросков свой дом,
Жилье тревожной мысли; привиденья
Туда, сюда, на берегу морском.
Блуждают; и они, теней пугаясь,
Шептать молитвы стали; те мольбы
Из уст в уста вошли и, повторяясь,
Вещали: жизнь - тюрьма! Мы все - рабы!
И этот мир, прекрасный и безбрежный,
Пустыней стал, ничтожной, безнадежной!
84. 8
В цепях томились все: тиран и раб,
Душа и тело, жертва и мучитель,
Был каждый пред единой Властью слаб,
Над каждым был незримый притеснитель;
Свою свободу дьяволу отдав,
Кровавые моления слагая,
Для демонских насмешек и забав
Они бросались в прах, изнемогая,
И паутиной в капищах кругом
Плелся обман, рождаемый умом.
85. 9
В узоры жизни я пытливым взором
Проник и в сердце опыт записал;
Но из усмешек тех, кто жил позором.
Из бледности того, кто голод знал,
Из той тоски, которая терзает
Лишившуюся детской ласки мать,
Из сердца, что в борьбе горит и тает,
Собрал я много пищи, чтоб питать
Толпу неукротимую, живую, -
Мои мечты, их силу роковую.
86. 10
Среди руин давно отшедших дней,
Внимая, как шумит и стонет море,
Бродил я; первый слабый свет лучей
Луны всходящей жил в немом просторе,
Где между туч одна пленяла взор
На Севере, воздушная планета,
Едва светя на выси темных гор, -
И, сумерками бледными одета,
Как бы росла толпа колонн, могил,
И ветер, мчась, в них вечный стон будил.
87. 11
Кто создал их, неведомо мне было,
Что делали они, не ведал я,
Но раса тех, в ком чувствовалась сила,
Кто был не грубым в сказке бытия,
В жилищах, в саркофагах оставляет
Красноречивый, полный тайн, язык,
И кто пытлив, его он понимает;
В лучах луны и я в него проник,
Меж тем как Небо над безгласной бездной
Являло мне как бы толковник звездный.
88. 12
Таким был человек, и должен вновь
Таким быть, - о, мудрей, сильней, нежнее,
Чем те, что, в сердце чувствуя любовь,
Тот храм воздвигли, мощь свою лелея!
Я чувствовал, как водопад веков
Стремил мои текучие мечтанья,
И сердце билось, - мнилось, зов ветров
Рождался в свете лунного сиянья,
И дух мой, в блеске истины святой,
Летел вперед с надеждой молодой.
89. 13
О, слишком долго, в сумраке могилы,
Сыны могучих предков, спали вы!
У Правды, у Надежды мощны силы,
Проснитесь, встаньте, гордые, как львы!
И троны притеснителей пред вами,
Услышавши стремительный ваш бег,
Падут во прах, и свежими ветрами
Тот жалкий прах рассеется навек,
И Идол, убеждавший вас к бессилью,
Развеется неуловимой пылью!
90. 14
Так быть должно - я встану, подниму
Дремотную толпу, - вулканом серным
Гоня снега веков, пронзая тьму.
Она огнем зажжется беспримерным:
Так быть должно, в том разума закон,
Так будет! - и во тьме землетрясенья
Кто ж может твердым быть, как не Лаон?
Кто вражеское сдержит нападенье?
В пустыне гордой Вольности, во мгле,
Он мраморная башня на скале!
91. 15
Раз ночью, летом, радость той надежды
Лелеял я, среди седых руин,
И звездные светло дрожали вежды:
С тех пор всегда, в толпе или один,
В виденье иль во сне, в сиянье света
И в темноте ночной, всегда, везде,
Мне радостно горит надежда эта,
Подобная блистательной звезде,
Где б ни был я, она идет со мною,
В глухих горах и над морской волною.
92. 16
Моя душа нашла в себе слова,
Чтобы связать с собою нежным светом
Всех тех, в ком жизнь воистину жива,
Кто обменяться мог со мной приветом;
И как пылает утренний туман,
Дождавшись с солнцем столь желанной встречи,
Так в час, когда мой дух был осиян,
Мои горели мысли в свете речи:
И все, к кому струил я блеск ума,
Светлели, и в сердцах редела тьма.
93. 17
И часто думал я, что вижу брата,
У многих увлажнялся светлый взор.
Когда душа других, огнем объята,
В свои мечты вплетала мой узор,
Я чувствовал, что речь мою он слышит,
Вот тот, и тот, и вот еще другой,
Я слышал, грудь взволнованная дышит,
И все мы дети матери одной;
И точно, - так нам будни представлялись,
Мы к скорби от блаженства просыпались.
94. 18
Да, часто, между тем как вечер гас,
Близ тех руин, седевших над волнами,
Лаон и друг его, в прозрачный час,
Менялися высокими словами,
А между тем, свистя, шумя вокруг,
В пещеры бились бешеные волны;
Увы, неверным был тот лживый друг,
И ум его, людских обманов полный,
Мог ложными сияньями гореть,
Мог брату плесть предательскую сеть.
95. 19
И я такой постигнут был тоскою,
Что, если б не великий помысл мой,
Я ринулся бы к вечному покою,
Я слился бы с недумающей тьмой;
Без ласковой улыбки, без привета,
Быть одному среди людских пустынь.
Как тягостна для сердца пытка эта;
Но я не позабыл своих святынь,
Стараясь разогнать туман печали,
Те облака, что мудрость заслоняли.
96. 20
С бессмертными умами, что узор
Сиянья оставляют за собою,
Моя душа вступила в разговор;
И, усладясь беседою такою,
Я выковал оружье мощных слов,
Чтоб защищать высокие усилья,
Броней они для ярких стали снов,
Мечты раскрыли искристые крылья,
Но юный вестник истины, Лаон,
Был не один той правдой осенен.
97. 21
Сестру любил я, с светлыми глазами,
Подобными огню полярных звезд;
И ни к кому под всеми Небесами
Моя мечта не бросила бы мост;
Я шел куда-нибудь, но взоры эти
Меня всегда к себе назад влекли;
И вот когда все было в целом свете
Так холодно, - когда друзья ушли,
Забыв о всех, о, Цитна, лишь с тобою
Сливался я улыбкой и тоскою.
98. 22
Чем ты была в далекие те дни?
Ребенком, неземным, совсем невинным;
Хоть в помыслах уже зажглись огни,
И с этим миром, диким и пустынным,
Во внутренний уж ты вступила бой,
И иногда лучистый блеск алмаза
В твоих глазах туманился слезой,
От грезы, от печальных слов рассказа
Или от слов, чья страсть и чей привет
В их глубине зажгли свой беглый свет.
99. 23
Она была как нежное виденье
На этой утомительной Земле,
В себе самой тая все побужденья, -
Как облачко, что утром, в светлой мгле,
Блуждает без следа по бездне синей
И, возрастая в нежной красоте,
Усладою возникнет над пустыней;
Свою мечту стремя к моей мечте,
По зыби жизни, в час отдохновенья,
Шла эта тень бессмертного виденья.
100. 24
Она была мне как моя же тень,
Другое я, но лучше и нежнее;
Она зажгла непогасимый день
Среди крутых обрывов, где, чернея,
Все темное, людское, в цепь сплелось,
Где я один во тьме был, - и, покуда
Лишиться всех друзей мне не пришлось,
Еще не знал я, что такое чудо
Взамену той утраты мне дано,
Что сердцу с сердцем слиться суждено.
101. 25
Цветок прелестный, выросший на камне,
Ребенок, живший лишь двенадцать лет,
И раньше дорога она была мне,
Теперь же в ней замкнулся целый свет;
Товарищ мой единственный, со мною
Она охотно шла вперед, туда,
Где Океан встречается с Землею,
Где в горы бьет вспененная вода
И в глушь густых ветвей, в лесные долы,
Где аромат и где ручей веселый.
102. 26
Так радостно мы шли, рука с рукой,
Я счастлив был прикосновеньем нежным,
И все места, в стране моей родной,
Я обнимал стремлением безбрежным.
Все памятники прошлых славных дней
Я озирал сочувствующим взглядом,
А Цитна, нежный свет души моей,
Была со мною в те мгновенья рядом,
И взор ее как будто убеждал,
Чтоб я душой тех мест не покидал.
103. 27
Ни днем ни ночью мы не разлучались,
Нас только разлучал короткий сон;
И если волны моря чуть качались,
И воздух был затишьем напоен,
У самых волн, в полуденном покое,
Она дремала на моих руках,
Над нами было Небо голубое,
И мысль ее скользила в разных снах,
То в грусти, то в лучах душа купалась.
И плакала она и улыбалась.
104. 28
И иногда, в своем воздушном сне,
"Лаон" она шептала, и, вставая, -
Как птичка, в час заката, в тишине
Внезапным пеньем воздух наполняя,
Летит, - сестра и спутница моя
Над морем пела светлый гимн Свободе,
Который, полный страсти, создал я, -
И, мнилось, все внимало ей в природе;
Как нежный дух, в порыве торжества
Она роняла звонкие слова.
105. 29
И белые ее мерцали руки
Сквозь темную волну ее волос.
О, как впивал я сердцем эти звуки!
То упованье, что во мне зажглось
И выразилось в песне этой стройной,
Казалось мне возвышенным, когда
Она, смолкая, делалась спокойной,
И дух ее скользил туда, туда,
Уйдя из глаз глубоких в отдаленье,
На крыльях моего, ее виденья.
106. 30
Пред тем как Цитне отдал я его,
Рой мыслей в нескончаемой вселенной
Я создал из стремленья своего,
Чтоб дух людской, в глубоком мраке пленный,
Освободить от тягостных цепей, -
Подвластными я сделал все предметы
Для песни героической моей,
Простор морской, и Землю, и планеты,
Судьбу и жизнь, и все, что в дивный строй
Сливает мир, встающий пред душой.
107. 31
И Цитна поняла порыв могучий,
Усиливши, взяла его в себя,
Как белизна растущей в небе тучи
Вбирает ветер, гул грозы любя;
Все помыслы мои, пред тем как светом
И музыкой зажглись, горели в ней,
Ее лицо сияло мне приветом,
И бледностью, серьезностью своей
Она со мной безгласно говорила,
В моем лице за сном моим следила.
108. 32
В моей душе сильней зажегся пыл
От единенья с этой чистотою,
В ее уме мой разум мне светил.
Не тщетно мы над участью людскою
С ней размышляли, - мудрость возросла:
О, Цитна, дух и кроткий и могучий!
Без страха боли, смерти или зла,
Но нежности исполненная жгучей,
Она была как ясный детский сон,
Но гений был в ребенке заключен!
109. 33
То знанье было новым: возраст старый,
С легендой несущественных вещей,
Ничто - он разогнать не в силах чары
На жизнь души наброшенных цепей,
Душа всегда раскрыть стремится крылья,
Но старость ледяная холодна,
Исполнена насмешки и бессилья,
Невольнической жесткости полна,
И человек смеется, раб избитый,
Над той могилой, где надежды скрыты.
110. 34
Нет, не суровым мир принадлежит,
Так Цитна в чутком сне мне возвестила,
Не сознавая, чт_о_ за власть лежит
В таких словах, какая в этом сила;
Пока она в спокойствии спала,
Моя душа задумалась тревожно:
Над вестниками правды духи зла
Владычествуют - как это возможно?
И вот, в красноречивом полусне,
Она дала ответ желанный мне.
111. 35
Тот нежный облик, женский ум, невинный,
В себя совсем не воспринявший яд,
Которым так отравлен мир пустынный,
Был мой очаг, лелеявший мой взгляд;
Увы, родной Земли другие дети,
С природной красотой разлучены,
Подвластны Злу, в его попали сети,
Позорные его лелеют сны,
И служат всем его увеселеньям,
И дышат, наконец, легко - презреньем.
112. 36
Я чувствовал лишь холодно позор
Такой беды; но с Цитной я сдружился,
И более широким с этих пор
Сочувствием мой разум озарился;
Не раз о том скорбели вместе мы,
Что половина всей людской пустыни -
Орудье вожделений, жертвы тьмы.
Невольницы в тюрьме, рабов рабыни:
На кладбище убитых юных сил
Гиена-страсть хохочет меж могил.
113. 37
В ее лице огонь горел, сверкая,
При мысли о позорности такой.
И я сказал: "О, Цитна дорогая,
Я вижу, ты вступаешь с миром в бой;
Пока мужчина с женщиной не встретят
Домашний мир, свободны и равны,
Взор человека света не заметит;
Оковы быть разрушены должны, -
Тогда придет восторг освобожденья".
И вспыхнул взор у ней от восхищенья.
114. 38
С серьезностью сказала мне она:
"Лаон, мне надлежит задача эта,
С умов счастливых женщин - злого сна
Стряхну я гнет, и, полные привета,
Мы, вольные, толпою молодой,
Придем к тебе, лучисты будут взгляды.
И окружат весь Город Золотой
Свободные живые мириады".
Она меня за шею обняла
И трепетный во мне ответ нашла.
115. 39
Я улыбнулся и хранил молчанье.
"Зачем ты улыбаешься, Лаон? -
Сказала Цитна. - Пусть мои мечтанья
Неопытны, и пусть мой дух смущен,
И я бледнеть могу, но, не робея,
Коль хочешь, на тиранов я пойду.
И было бы гораздо мне труднее
В позоре жить, томиться, как в бреду,
С местами, сердцу милыми, расстаться
И, друг родной, с тобою не видаться.
116. 40
Как сделалась такою я, Лаон?
Ты знаешь, как ребенок может смело
На мир взглянуть. Ты властью наделен,
И на тебя я походить хотела,
Чтоб сделаться свободней и добрей;
Но там, вдали за темным Океаном,
Есть многие как бы с душой моей,
Хотя они окованы обманом;
Когда они, как я, в твой глянут взор,
Они отвергнут смело свой позор.
117. 41
Иль слов я не найду, полна боязни,
И холодны пребудут все вокруг?
Однажды, помню, присужденный к казни,
Невольник спасся тем, что спел он вдруг
Ту песню, что судья любил когда-то.
Так точно все? услышавши меня,
Смягчатся; и, в другом увидев брата,
Заплачет каждый; полные огня,
Сердца забьются в воле непреклонной,
Чтоб этот мир восстал - преображенный!
118. 42
Да, в золотые я дворцы войду,
И в хижины, и в душные подвалы,
Где женщина живет в больном бреду,
И рядом с ней тиран ее усталый;
Там музыкой твоих волшебных чар
Освобожу тоскующих я пленных,
И будет молод тот, кто был так стар;
Твой дух, что тайн исполнен сокровенных.
Через меня как солнце будет им,
И в знанье скорбь развеется как дым.
119. 43
Как человек способен быть свободным,
Когда с ним рядом женщина-раба?
Кто воздухом упьется благородным.
Когда вокруг гниющие гроба?
Как могут те, чьи спутники суть твари.
Восстать на тех, кто их гнетет весь век?
В позорном нескончаемом кошмаре
Живет, Обманом скован, человек:
Своих сестер позорят их же братья,
И женщина - насмешка и проклятье.
120. 44
Да, я еще ребенок, но идти
Мне нужно, хоть остаться я желала б.
На мой огонь, на жизненном пути.
Толпы рабов, забыв стенанья жалоб.
Придут из темных тюрем, ощутив.
Что с членов их спадает одряхлелость:
О да, могуч души моей порыв,
Никто мою не поколеблет смелость.
На детях правды - светлая печать,
Ее увидя, Ложь должна молчать.
121. 45
Еще помедли. Должный день настанет.
Уйдешь ты, я с берега взгляну,
Как парус твой из отдаленья глянет.
Как ты прорежешь синюю волну;
И я скажу: вот я одна отныне.
А ты над миром зов свой возгласишь,
И миллионы, как пески в пустыне,
К тебе придут, ты их соединишь,
Ты будешь им как свет освобожденья.
Ты будешь их восторг и возрожденье.
122. 46
Тогда как лес, что между гор, высок,
И вот объят пожаром разъяренным.
Настолько, что обширнейший поток
Подобен был бы каплям полусонным, -
Из наших сочетавшихся умов
Возникнет искра, зло сожжет всецело;
И Цитна, как ненужный гнет оков,
Младенчество свое отбросит смело.
Направит в мир людей шаги свои,
Как птичка мчится прямо в пасть змеи.
123. 47
"Разлука ждет нас. О, Лаон, могла ли
Я думать, что расстанусь я с тобой!
О, брат моей души, такой печали
Почти не принимает разум мой!" -
Рыданья мне сказали, как ей больно.
Она, дрожа, прижалася ко мне,
И я молчал, и плакал я невольно.
Вдруг, точно тот, кто был в глубоком сне,
Она со мной объятием сомкнулась
И страстно так, и бурно содрогнулась.
124. 48
"Мы встретимся - разлуке есть коней.
Для нас придет блаженная минута,
Не в нежной ласке двух родных сердец, -
В пустой Лазури нет для нас приюта, -
И не в могиле встретимся мы, - в ней,
Я думаю, мы встретим лишь забвенье;
Мы встретимся опять в умах людей,
Что скажут нам свое благословенье
И свет наш сохранят в своих сердцах,
Когда вот это тело будет прах".
125. 49
Я говорить не мог, ее волненье
Отхлынуло, смягчилися черты,
Вспененный ток прервал свое теченье;
При свете звезд сошли мы с высоты,
Без слез, без слов домой свой путь свершили,
Но оба были бледны, страсть была
Внутри, в душе, как вспышки звездной пыли,
Чей свет смягчает облачная мгла;
И в расставанье, хоть мечтою слиты,
Искали друг от друга мы защиты.
Песнь третья
126. 1
Какие мысли в эту ночь во сне
Моей сестры возникли, я не знаю;
Но тысячи веков приснились мне,
И мнилось, я не сплю, я их считаю,
В душе поток возник из темноты.
Безбрежный хаос буйствовал в тумане.
Еще ничьи не ведали мечты
Подобных волн, без отдыха, без грани,
И я глядел на тот бурун вокруг.
То восхищен, то весь исполнен мук.
127. 2
Так два часа промчались, кругом властным
Обнявши продолжительнее срок,
Чем тот, что мир, в младенчестве прекрасном,
Седым и престарелым сделать мог;
Когда ж они своей коснулись меры
И третий час настал, возникла тень;
Приснилось мне, что с Цитной у пещеры
Сижу я; нам сияет ясный день,
Бриония цветет, струятся воды,
И мы вкушаем радости Природы.
128. 3
Мы жили как всегда, но был наш взгляд
Сильнее всем, что видел он, прикован;
Весь мир оделся в праздничный наряд,
Светлее воздух был, и зачарован
Казался камень, свежие листы
Нежнее, чем им можно, трепетали, -
И в лике Цитны ясные черты
Так радостно, так сказочно блистали.
Что, если раньше я ее любил,
Теперь объят я агонией был.
129. 4
За утром полдень, вечер, ночь немая.
Взошла луна, и мы за мигом миг
Теряли, легкий звон их не считая.
Как вдруг в душе нежданный страх возник:
Во мгле пещеры, сзади, встали звуки,
Отрывистые, вверх пошли по ней.
Подавленные крики, стоны муки,
Все ближе, все слышнее и слышней.
И топот ног толпы неисчислимой
Возник в пещере этой нелюдимой.
130. 5
Картина изменилась, и вперед,
Вперед, вперед мы в воздухе летели!
Я Цитну сжал; кругом был небосвод,
Морские волны там внизу блестели.
А между тем разъятая Земля
Зияла, из расщелин извергались
Виденья, и, руками шевеля,
За Цитну эти чудища цеплялись.
А мы неслись, - и вскоре в страшном сне
Действительность являться стала мне.
131. 6
И все еще под властью сновиденья,
Старался я порвать мечтаний нить.
Чтоб тягостные эти ощущенья
С тем, что вокруг, умом соединить;
И в свете утра, бледный, бездыханный,
Я наконец прогнал свой страшный сон,
И вижу вдруг - наш дом, во мгле туманной,
Толпой вооруженной окружен;
Мечи сверкают в этой мгле тумана,
Явились к нам прислужники Тирана.
132. 7
И прежде чем успел я в тот же миг
Спросить причину, - слабый, отдаленный,
Привлек мое вниманье женский крик, -
И тотчас я, на крик тот заглушенный,
Схвативши нож, среди толпы пошел,
Я слышал, это Цитна закричала!
Кругом шумел бурун разгульных зол,
Как буря, агония бушевала;
Но я прошел к ней, - связана, бледна,
Лежала на сырой земле она.
133. 8
И на нее я глянул с изумленьем:
Улыбкою у ней был полон взор,
И вся она сияла восхищеньем,
Как бы надевши праздничный убор;
И я подумал, что мучений сила
Рассудок у нее сожгла в огне;
"Прощай, прощай, - она проговорила,
Спокойно обращался ко мне, -
На миг лишь возмутилась я тревогой,
Вот я тверда - я вестник правды строгой.
134. 9
Способны ль погубить меня рабы?
О нет, Лаон, промолви: "До свиданья",
Так не смотри; я для моей судьбы
Готова и легко пойду в изгнанье;
Не страшны мне оковы, я смеясь
Носить их буду; зная остальное,
Будь без тревоги, ждет победа нас;
Пребудем в упованье и в покое,
Что б ни было нам послано судьбой.
В конце концов сольемся мы с тобой".
135. 10
Ее я слушал, но во мне другая
В тот миг была забота: за толпой
Следя, как бы рассеянно взирая,
И увидав, что жертвою другой
Все занялись, что близ нее немного
Рабов, я острый нож свой ухватил.
И, прежде чем в них вспыхнула тревога,
Я трех из тех прислужников убил.
Четвертого душил в порыве диком,
Своих на бой хотел поднять я криком!
136. 11
Что было после, неизвестно мне:
На голову и руку тяжко пали
Удары, взор мой вспыхнул как в огне,
Я чувств лишился, и меня связали;
Очнувшись, увидал я, что меня
Несут по крутизне к скале высокой;
Равнина, от резни и от огня,
Была внизу стозвучной и стоокой,
И пламя крыш, взлетая так легко,
Над Океаном рдело далеко.
137. 12
Скала кончалась мошною колонной,
Изваянной как будто в небесах;
Для путников пустыни отдаленной,
Среди морей, в исчезнувших веках,
Она была как знак земной - в лазури:
Над ней лететь едва имеют власть
Лишь туча, жадный коршун или бури.
Когда ж теням вечерним - время пасть
На Океан вершиной вырезною,
Она горит высоко над скалою.
138. 13
В пещеру, что была под башней той,
Я принесен был; миг свободы снова;
Один меня совсем раздел; другой -
Сосуд наполнил из пруда гнилого;
И факел был одним из них зажжен,
И четырьмя я был из тьмы пещеры
По лестнице высокой возведен.
По ступеням витым, сквозь сумрак серый,
Все вверх, пока наш факел в блеске дня
Не глянул бледным, тусклым на меня.
139. 14
К вершине башни был подъят я ими:
К площадке, где сияла высота;
Скрипя, темнели глыбами своими
Тяжелые железные врата;
Я к ним, увы, прикован был цепями,
Въедавшимися в тело, и враги
Ушли с площадки, хлопнули вратами.
Раздался страшный гул, и вот шаги
Умолкли, вместе с этим шумом мрачным,
Погаснув, скрылись в воздухе прозрачном.
140. 15
В глубоком Небе был полдневный свет,
В глубокой тишине синело море,
Мной овладел безбольный краткий бред.
И чувствовал себя я на просторе;
Я устремлял далеко жадный взор;
Как облака, лежали подо мною
Равнины, острова, громады гор,
И, окружен лесною пеленою,
Виднелся город, серый камень скал
Вкруг бухты в блеске солнечном сверкал.
141. 16
Так было тихо, что едва былинка,
Посеянная на скале орлом,
Качалась; и, как тающая льдинка,
Одна светлела тучка под лучом;
Ни тени не виднелось подо мною,
Лишь тень меня и тень моих цепей.
Внизу огонь от кровель с дымной мглою
Терялся в необъятности лучей;
Ни звука до меня не доходило,
Лишь в жилах кровь неясный звон будила.
142. 17
Исчез, исчез безумный тот покой,
Как скоро! Там, внизу, на зыби водной
Стоял корабль и бури ждал живой,
Чтобы уплыть; вмиг, острой и холодной,
Знакомой боли был исполнен я:
Я знал, далеко водною пустыней
Корабль уйдет, на нем сестра моя
И Цитна станет жалкою рабыней;
Как взор мой вдаль бежал, все вдаль скользя,
Что думал я тогда, сказать нельзя.
143. 18
Я ждал, и тени вечера упали,
Закрыли Землю, точно смутный дым, -
И двинулся корабль, и ветры встали,
Он шел над Океаном теневым;
И бледных звезд мерцающие реки
Зажглись, корабль исчез! И я хотел
Закрыть глаза, но жестки были веки,
И против воли я вперед глядел,
Я встать хотел, поднять хотел я руки,
Но кожа расщепилась в жгучей муке.
144. 19
Я цепи грыз, я их хотел разъять
И умереть. Ты мне простишь, Свобода:
На миг один меня могла отнять
Моей души чрезмерная невзгода,
О Вольность, у тебя! На миг - и прочь
Прогнал я малодушье снов могильных;
Та звездная таинственная ночь
Дала мне много дум, великих, сильных,
Все вспомнила в тиши душа моя,
И был суров, но был доволен я.
145. 20
Дышать и жить, надеяться, быть смелым
Иль умереть, - был разрешен вопрос;
И пусть лучами, что подобны стрелам,
Жгло солнце, раскаляя мой утес,
Пусть вслед за ним спустился вечер сонный,
И звезды вновь открыли вышний путь,
Пусть с новым утром взор мой утомленный
На мир безбрежный должен был взглянуть, -
Я твердым был в пространствах распростертых,
Я не желал спокойствия меж мертвых.
146. 21
Прошло два дня - и был я бодрым, да, -
Но только жажда жгла меня, как лава,
Как будто скорпионьего гнезда
Во мне кипела жгучая отрава;
Когда душа тоски была полна,
Я оттолкнул ногой сосуд с водою,
Не уцелела капля ни одна!
На третий день, своею чередою,
Явился голод. Руки я кусал,
Глотал я пыль, я ржавчину лизал.
147. 22
С четвертым днем мой мозг стал поддаваться:
Жестокий сон измученной души
Велел в ее пещерах быстро мчаться
Чудовищам, взлелеянным в тиши, -
Они неслись и падали с обрыва, -
Я чувствовал, что чувства больше нет,
Все льется в пустоту, во мглу залива, -
Те привиденья в мой вступили бред,
Что сторожат во мгле могилы сонной, -
В безбрежности, беззвездной и бездонной!
148. 23
Все призраки чудовищного сна
Я помню, как виденья страшной сказки:
Хор дьяволов, живая пелена,
Они несутся в безрассудной пляске;
Как будто Океан сплетал их нить,
Их _ легионы, тени, тени, тени,
И мысль была не властна отделить
Действительность от этих привидений;
Я видел всех, как будто бы дробя
В кошмарной многоликости - себя.
149. 24
Сознанье дня и ночи, и обмана,
И правды - уничтожилось во мне.
Я два виденья помню средь тумана;
Второе, как узнал я, не во сне
Являлось мне и было не из сферы
Чудовищных отверженных теней;
Но первое, ужасное сверх меры,
Не знаю, сон иль нет. Хоть не ясней,
Но ярче, в торопливости проворной,
Мрак памяти они пронзают черный.
150. 25
Мне чудилось, ворота разошлись,
Те семеро внесли четыре трупа,
Их четырем ветрам швырнули вниз,
За волосы повесив их, и, тупо
Взглянув, ушли. Из этих мертвецов
Уж почернели трое, но четвертый
Прекрасен был. Меж светлых облаков
Взошла луна. И в воздухе простертый,
Я, жадный, к телу мертвому прильнул,
Чтоб есть, чтоб острый голод мой уснул.
151. 26
Труп женщины, холодный, сине-белый,
В котором жил червей кишащий рой,
К себе я притянул рукою смелой
И тощей повернул его щекой
К своим губам горящим. Что за пламень
Сверкнул в глазах застывших, в глубине?
На сердце лег мне точно тяжкий камень,
Мне показалось - призрак Цитны мне
В тех взорах усмехнулся, это тело
Во рту моем еще как будто тлело.
152. 27
Мой разум вдруг попал в водоворот;
Неукротимым схвачен ураганом,
За солнце он умчался в небосвод,
Где сонмы звезд раскинулися станом,
Туда, за грань их световых убранств,
Где темное глубокое молчанье,
К окраине бесформенных пространств;
Вдруг, в тишине, как будто изваянье,
Прекрасный Старец предо мной возник,
И сон исчез, его увидев лик.
153. 28
И плакал я; когда же слезы пали,
Я увидал колонну, и луну,
И мертвецов, - и точно острой стали
Во мне движенье было, я волну
Терзаний ощущал в себе, внимая,
Как голод возрастал; и я был рад,
Казалось мне, что смерть идет немая;
Вдруг ровный, но исполненный услад,
Раздался голос, точно ропот сонный,
Средь сосен в полночь ветром пронесенный.
154. 29
Ворота растворились; под луной
Явился Старец, просветленный, стройный;
Разбивши цепи, кротко он со мной
Беседовал, с душой почти спокойной
Я на него глядел. Он взял меня
И тканью влажной все обвил мне тело,
Исполненное боли и огня;
Внезапно что-то громко прогудело:
То цепь моя, меня освободив,
Вдоль лестницы низринулась в обрыв.
155. 30
Чт_о_ я потом услышал, - это ропот
Волны, что бьется в гавань, и, свистя,
Приморский ветер превращался в шепот,
Моими волосами шелестя;
Я вверх взглянул, - там, в бездне отдаленной,
Над парусом светилася звезда,
Гора с высокою колонной
Виднелась, а кругом вода, вода,
И я подумал, верно, Демон в злобе
Меня увлек в свой ладье, как в гробе.
156. 31
Действительно, соленою волной
Я плыл, но страх владел моей душою,
Не смел взглянуть я, кто мой рулевой,
Хоть на его коленях головою
Лежал я и хотя его покров
Закрыл мое измученное тело.
Но вот склонился он, как Гений снов,
Душа его из глаз его глядела
Так ласково, как будто он хотел,
Чтоб я совсем спокоен был и смел.
157. 32
Целительный к губам моим напиток
Он подносил - и вверх смотрел порой,
Чтоб увидать, - чт_о_ многозвездный свиток
Нисходит ли над дымною волной;
И весело, и радостно, порою, -
Хотя он и не тратил много слов, -
"Утешься, - говорил он, - друг с тобою,
Свободен ты, свободен от оков!"
Я радовался слышать эти звуки,
Как те, что годы знали рабства муки.
158. 33
Но эта радость беглым огоньком
Светила мне - и снова сновиденья;
Все ж думал я, что мы вперед плывем;
Бледнели звезды ночи; на теченье
Кипящих волн рассвет сошел седой,
А старец все склонялся надо мною,
Как будто я ребенок был больной,
А он моей был матерью родною;
Так плыли мы, и вот опять Восток
Свою лазурь в покровы мглы облек.
159. 34
От берега идущий ветер ночи
Принес по морю слабый аромат,
И с каждым новым мигом все короче
Был путь; вот вижу, волны бороздят
Прибрежье и тростник качают тощий,
Вон вижу, мирты нежные цветут,
Звездятся на листве зеленой рощи;
И кончилась дорога, вот мы тут,
Мы в тихой бухте, и во мглу залива,
Сквозь сосны, звезды смотрят молчаливо.
Песнь четвертая
160. 1
Отшельник принял весла, и челнок
Пристал близ башни - древняя громада;
Заросший вход был темен и высок,
Цветы плюща, усладою для взгляда,
На нем вились цепляясь; на полу
Песок и чудо-раковины были, -
Мать месяцев, пронзая полумглу,
Рождает их в кипенье влажной пыли;
Та башня здесь была, как призрак сна.
Искусством человека рождена.
161. 2
У берега челнок свой привязавши,
Взял на руки меня Старик седой,
И, несколько приветных слов сказавши.
Пошел он вниз по лестнице со мной,
По ступеням изношенным пришли мы
В покой уютный, всюду по стенам
Узоры мхов зеленых были зримы,
Тихонько положил меня он там,
Как бы в альков, к мечтам манящий сонным,
На ложе трав, с дыханьем благовонным.
162. 3
Луною было все озарено,
Ее лучистым желтым теплым светом,
Настолько теплым, что Старик окно
Раскрыл: за ним воздушным силуэтом
Качались зыбко тени на волнах,
До самого порога добегая,
И в призрачных заметил я лучах.
Что комната вверху была - резная,
И много было там томов, чей пыл
В себя приняв, мудрец стал тем, чем был.
163. 4
Предел морской во мгле был отдаленной.
По озеру скользил мой смутный взор,
Кругом - леса, их мир уединенный
И белые громады снежных гор, -
Что ж, дух мой уносился в бесконечность
В таком же многоцветном забытьи,
Как лента, что окутывает вечность, -
Извивы символической змеи?
И Цитна - сон, упавший мне на вежды?
Сон - юность, страх, восторги и надежды?
164. 5
Так вновь ко мне безумие пришло,
Но кроткое, не страшное, как прежде;
И я не ощущал, как время шло,
Но Старец верен был своей надежде,
Не отходил от ложа моего,
Как лучшего меня лелеял друга,
В бреду я все же чувствовал его,
И излечил меня он от недуга,
И он теперь беседу вел со мной,
Он показал мне весь свой мир лесной.
165. 6
Он утешать меня умел словами,
Что сам же я в бреду произносил,
И как себя я спрашивал мечтами,
Меня и он о Цитне так спросил.
И спрашивал, пока не перестало
То трепетное имя на его
Устах меня дивить; в том было мало
Лукавства, и ума он своего
Не ухищрял, но взор его был жгучим,
Как молния в стремлении могучем.
166. 7
Так постепенно ум мой просветлел,
Возникли мысли, стройное теченье;
Я думал, как прекрасен тех удел,
В ком неустанно строгое решенье -
Светильник Упованья зажигать
Над затемненной долею людскою;
В зеркальную глядя немую гладь,
В вечерний час склоняясь над водою.
Тому я открывал свой тайный сон.
Кто был Старик, но не был извращен.
167. 8
Седой, всю жизнь свою он вел беседу
С умершими, что, уходя от нас.
Умеют отмечать свою победу
В страницах, чей огонь в нем жил светясь;
Так ум его лучом стал над туманом.
Подобно тем, что он в себя впитал;
По городам и по военным станам
Скитаяся, не тщетно он блуждал;
Он был влеком глубокой жаждой знанья,
Среди людей знал все пути скитанья.
168. 9
Но даже благородные сердца
Обычай, притупляя, ослепляет:
Увидя, что мученьям нет конца, -
Тот рок, что человека угнетает.
Он вечным счел: чтоб чем-нибудь свой дух
Утешить, он ушел в уединенье;
Но до него дошел однажды слух.
Что в Арголиде претерпел мученье
Один, что за свободу смело встал
И, правду возвестивши, пострадал.
169. 10
Узнавши, что толпа пришла в волненье,
Возликовал Отшельник в тишине;
Покинувши свое уединенье,
Направился к родной моей стране,
Пришел туда, где битва прошумела, -
И каждое там сердце было щит,
И, точно правды меч, горящий смело,
Речь каждого "Лаон, Лаон" гласит;
В том имени Надежда ликовала,
Хоть власть тирана там торжествовала.
170. 11
К колонне одинокой, на скале,
Придя, он был таким красноречивым,
Что размягчил застывшие во зле
Сердца своим возвышенным порывом.
И он вошел, и победил он зло,
И стражи путь ему не преграждали;
С тех пор, как он сказал, семь лет прошло.
Так долго мысли у меня блуждали
В безумии; но сила дум, светла,
Мне снова власть надеяться дала.
171. 12
"Из юношеских собственных видений,
Из знания певцов и мудрецов
И из твоих возвышенных стремлений
Я выковал узоры мощных слов,
Твоих надежд бесстрашное теченье
В себе не тщетно жадный ум вмещал:
От берега до берега ученье
О власти человека я вещал,
Мои слова услышаны, и люди
О большем, чем когда-то, грезят чуде.
172. 13
Родители, в кругу своих детей,
В слезах, мои писания читают,
И юноши, сойдясь во тьме ночей,
Союз, враждебный деспотам, сплетают;
И девушки, которых так любовь
Томила, что во влажной мгле их взгляда
Жизнь таяла, страдать не будут вновь,
Прекраснейшая им нашлась отрада:
Во всех сердцах летучие мечты,
Как на ветрах осенние листы.
173. 14
Дрожат тираны, слыша разговоры,
Что наполняют Город Золотой,
Прислужники обмана, точно воры,
Не смеют говорить с своей душой;
Но чувствуют, одни других встречая.
Что правда - вот, что не уйти судьбы;
И, на местах судейских заседая,
Убийцы побледнели, как рабы;
И золото презрели даже скряги,
Смех в Капищах, и всюду блеск Отваги.
174. 15
Средь мирных братьев равенство - закон,
Везде любовь, и мысль, и кроткий гений.
Взамен того, чем мир был затемнен.
Под гнетом этих долгих заблуждений;
Как властно мчит в себя водоворот
Все выброски, что бродят в Океане,
Так власть твоя, Лаон, к себе влечет
Все, все умы, бродившие в тумане,
Все духи повинуются тебе,
Сплотилися, готовые к борьбе.
175. 16
Я был твоим орудием послушным, -
Так говоря, Отшельник на меня
Взглянул, как будто весь он был воздушным, -
Ты всем нам дал сияние огня
Нежданного, ты путь к освобожденью
От старых, от наследственных цепей;
Ты нас ведешь к живому возрожденью,
Ты светоч на вершине для людей.
Ни времени, ни смерти не подвластный;
Я счастлив был - пролить твой свет прекрасный.
176. 17
Но неизвестен я, увы, и стар,
И хоть покровы мудрости умею
Переплетать с огнем словесных чар,
Холодною наружностью своею
Показываю я, что долго жил -
Свои надежды в сердце подавляя;
Но именем Лаона победил
Я множество; ты - как звезда живая,
Что властвуешь и бурей, и волной,
Для шлемов зла ты как клинок стальной.
177. 18
Быть может крови и не нужно литься,
Раз ты восстанешь; у самих рабов
В сердцах способна жалость пробудиться,
Поистине могуча сила слов:
Чуть не вчера красивейшая дева,
Что тяжкий гнет от детских знала дней,
Как властью полнозвучного напева.
Всех покорила жен мечте своей;
Застыл палач, от слов ее бледнея:
"Не тронь меня - молю - себя жалея!"
178. 19
Она уже привязана была,
Чтоб быть казненной, но палач смягчился,
И ей в толпе никто не сделал зла,
Ее словами каждый обольстился;
Везде в великом Городе она
Проходит, говорит, ей все внимают,
Она сияньем слов окружена,
Презренье, смерть и пытка отступают.
Она слила в улыбке молодой
Змею с голубкой, мудрость с простотой.
179. 20
И женщины с безумными глазами
Толпятся вкруг нее; они ушли
Из чувственных темниц, где ласки сами
Как бы влачатся в низменной пыли:
Из тюрем на свободу убегают.
В ней видят упование свое;
Войска рабов тираны посылают,
Чтоб укротить могущество ее;
Но, чарами той девы обольщаясь,
Войска вождей свергают, возмущаясь.
180. 21
Так женщинам, что в рабстве с давних пор
Переживали тяжесть унижений,
Она, их увлекая на простор,
Велит освободиться от мучений;
И зло вооруженное пред ней
Трепещет, хоть оно еще могуче;
И девы, жены, все подвластны ей,
Она всегда с толпой, подобной туче!
Любовники, соединяясь вновь,
Припоминают прежнюю любовь.
181. 22
Приходит к ней и сирота бездомный,
И жертвы гордых, выброски того,
Кто, грубо наслаждаясь страстью темной,
Казнит плоды беспутства своего;
В вертепах и в дворцах, в истоме страстной,
Порок сидит, заброшенный, один;
Ее свободный голос, нежно-властный,
Над всей страной могучий властелин,
Ее враги, склоняя робко вежды,
Хотят любить и оживить надежды.
182. 23
Так дева, силой кроткою своей,
Смирила разрушительные страсти,
И выковали люди из цепей
Оружье, чтоб лишить тиранов власти;
В безвестных деревнях и в городах
Сбираются толпы вооруженных.
Из душ своих они изгнали страх.
Хотят восстановленья прав законных,
Но деспот, самовластьем ослеплен,
Готовит бой, чтоб поддержать свой трон.
183. 24
И неизбежно кровь должна пролиться,
Хоть не хотят свободные ее;
Обычай, Царь Рабов, незрячий, тщится
Всегда умножить царствие свое,
Он знамя развевает над телами
Пророков и Владык, он давит грудь,
Людскими он пробитыми сердцами
Усеивает свой жестокий путь:
И, сея мрак и сея гнет бессилья,
Безмерные он простирает крылья.
184. 25
Равнина есть под городской стеной,
Оплоты гор вокруг нее темнеют,
Там миллионы стяг воздвигли свой,
Там тысячи знамен свободных веют,
И крик борцов пронзает воздух - так,
Что чудится: то голос бурь и вьюги;
Короною увенчанный, их враг
Сидит в своем дворце, дрожит в испуге
И чувствует - поддержки нет ни в чем.
Что ж медлят победители с мечом?
185. 26
Еще телохранители Тирана
Крепятся кровожадные, они
От детства жили радостью обмана,
Свирепости, разбоя и резни;
Им любо сердце пытками забавить,
Как благо, дорога им сила зла,
Чтоб торжество жестокости доставить,
Толпа свирепых цепи создала;
Свободные хотят людской любовью
Склонить их дух не упиваться кровью.
186. 27
Любовь и днем и ночью сторожит
Над лагерем и над толпой свирепой;
В умах надежда луч зажечь спешит,
Внезапно все слилось незримой скрепой;
Так иногда, пронзая в небе мрак,
Промчится гром и смолкнет, отдаленный,
И видя, что утихло все, моряк
Молчанию внимает, облегченный;
В сердцах у победителей светло, -
О, пусть погаснет в сердце вольных Зло!
187. 28
Раз кровь прольется, это только смена
Одних оков другими, гнет цепей
Иных - взамен наскучившего плена,
Позорное паденье для людей! -
Пролей любовь на этих ослепленных,
Твой голос - мир преобразует в Рай,
Ты властен силой глаз, лучом зажженных!
Восстань, мой друг, смелее и прощай!" -
И бодро встал я, как от снов печальных,
И глянул вглубь, в прозрачность вод зеркальных.
188. 29
Мой образ в этом зеркале возник;
Была как ветер юность золотая,
Как ветер на водах: мой бледный лик
Волна волос, до времени седая,
Окутала; в морщинах и чертах
Не старость, но страданье говорило,
Но все же на губах и на щеках
Горел огонь, в нем чувствовалась сила,
Я хрупким был, но там в глазах горел
Дух сильный, он утончен был и смел.
189. 30
И хоть печаль теперь была во взорах,
Хоть изменились бледные черты,
Намек в них был на те черты, в которых
Светился гений высшей красоты;
В них чувствовался лик, что мне когда-то
Струил благословение свое,
Лицо ее - с ней слившегося брата,
Тот облик был похож на лик ее;
Был зеркалом он помыслов прекрасных
И все хранил следы видений ясных.
190. 31
Что ж я теперь? Спит с мертвыми она.
Восторг, и блеск, и мир сверкнули, скрылись.
Погибла ли та тучка, что, нежна,
Горела, но сиянья затемнились?
Или в безвестной ночи, в темноте,
На крылах ветра своего блуждает
И в новой освеженной красоте
Живым дождем на землю упадает?
Когда под морем рог острит луна,
Мерцаньем звезд лазурь озарена.
191. 32
С Отшельником расстался я, печальный,
Но бодрый: много было взглядов, слез
И замедленных слов, но в путь мой дальний
Вело меня сиянье высших грез.
Туда, где Стан. По мощным горным скатам
Я шел среди зазубренных вершин,
Среди лесов, с их пряным ароматом,
Среди глухих болот, среди долин.
Земля была в одежде звездотканой,
Была весна, с весельем, с грустью странной.
192. 33
И ожил я, и бодро шел вперед,
Как бы ветрами легкими влекомый;
Когда же ночь темнила небосвод,
Во сне ко мне склонялся лик знакомый.
Мне улыбались ласковые сны,
Я видел Цитну, но живой, не мертвой;
Когда же день светил мне с вышины,
Я просыпался, видел распростертый
Широкий мир, и этот нежный сон
Как будто был стеною отделен.
193. 34
Та дева, что светильник Правды ясный
Над Городом проснувшимся зажгла,
Чьих светлых дел сиял узор прекрасный,
В моих мечтах восторженных жила.
Надежда ум питает всем, что встретит,
Цветами, как и сорною травой.
Тот труп - была ли Цитна? Кто ответит?
Иль было то безумною мечтой?
Ум не терзало это упованье,
О нет, оно струило мне сиянье.
Песнь пятая
194. 1
Я наконец прошел последний скат,
Уклон обширный снеговой вершины;
Под низкою луной увидел взгляд,
И Стан, и Город, и простор долины,
А по краям верхи Азийских гор,
Полночное мерцанье Океана,
Домов и крыш причудливый узор,
Светильники, как звезды средь тумана,
И, вырвавшись как будто из Земли,
Костры горели там и сям вдали.
195. 2
Не спали лишь одни сторожевые
Да те, что за огнем на маяке
Смотрели; редко возгласы живые,
То там вдали, то здесь невдалеке,
Вставали; тишина потом полнее
Была средь этой спящей темноты.
Какая ночь! Квакая власть, лелея
Умы людей, питала в них мечты!
Добро и зло, в страстях переплетенных,
Свой вечный бой вели в тех душах сонных.
196. 3
Победной Власть Добра теперь была;
По множеству тропинок и уклонов.
Среди шатров, где были ночь и мгла,
Я шел среди безмолвных миллионов;
Луна, окончив странствие свое.
Сошла с Небес; восток белел зарею;
И юноша, склоненный на копье,
В редевшей мгле предстал передо мною;
Я вскрикнул: "Друг!" - и этот крик сейчас
Стал лозунгом живых надежд для нас.
197. 4
Я сел с ним, и до самого рассвета
О чаяньях мы говорили с ним,
Как высока была беседа эта!
И звезды уходили в светлый дым;
И мнилось мне, пока мы говорили,
Что голос у него как бы тонул
В какой-то давней, мне знакомой, были;
Когда ж рассвет широкий нам блеснул,
Он посмотрел и, точно пред виденьем,
"Так это ты!" - воскликнул с изумленьем.
198. 5
Тогда я вдруг узнал, что это он,
Тот юноша, с кем первые надежды
Мой дух связал; но был он отдален
Словами клеветы; и он в одежды
Холодного молчания замкнул
Свою любовь, а я, как оскорбленный,
Стыдился, - и надолго потонул
Наш свет во тьме, клеветником сгущенной;
Нам истина теперь открылась вдруг,
И снова каждый был и брат и друг.
199. 6
В то время как, с блестящими глазами,
Беседовали мы, раздался зов;
Встав точно из земли, он вдруг над нами
Промчался, исходя из всех шатров:
"К оружию!" Средь полчищ, распростертых
Во сне, прокрались воры-палачи.
И в быстрой схватке десять тысяч мертвых
Оставили их подлые мечи;
Те самые сердца они топтали,
Что жизнь щадили их и свет им дали.
200. 7
Подобно как ребенок для змеи
Приносит пищу и встречает жало,
Они рубились в диком забытьи.
И в воздухе проклятие дрожало;
Людей свободных дрогнули ряды,
Как вдруг: "Лаон!" - раздался крик могучий,
И точно под сверканием звезды
Раздвинулись густеющие тучи, -
Как будто вестник послан был с Небес,
И дерзостный порыв врагов исчез.
201. 8
Убийцы, точно жалких мошек стая
Под ветром, - скрылись прочь, их строй бежал,
Но наше войско, их опережая,
Замкнуло их в ущелье между скал;
Отчаянье, в усилиях бесплодных,
Прорвалось, но отмщение пришло,
И на мгновенье у бойцов свободных
Душа была способна сделать зло,
Один уж на врага копье наметил, -
"Стой, стой!" - вскричал я и удар тот встретил.
202. 9
Я руку поднял, и удар копья
Ее пронзил; я улыбнулся ясно,
Увидев кровь на стали острия;
Я молвил: "Влага жизни, ты прекрасна,
Такое красноречие в тебе,
Что с ним бороться сердцу невозможно;
Пока тебя могу пролить в борьбе,
Стремление мое живет не ложно;
Вы плачете - бледнеете - вот так:
Вам правда подала теперь свой знак.
203. 10
Солдаты, вами спящие убиты
Друзья и братья наши. Для чего?
Когда б вы были тернием увиты,
Они бы с вас хотели снять его;
Вы погасили взоры, что лучами
Сочувствия хотели вам светить,
Пролить бальзам над вашими сердцами,
И светлую в ваш мрак забросить нить.
А вы? Благих во сне вы закололи.
Но мстить не будут духи светлой воли.
204. 11
Зачем из зла исходит вечно зло,
Из пытки боль еще острейшей пытки?
Мы братья все - и ежели могло
Чье сердце только смерть в житейском свитке
Читать и по наему убивать,
Пусть и оно узнает, в чем свобода.
Несчастье - злом за злое воздавать.
О, Небо, о, Земля, и ты, Природа,
Все через вас: и тот, кто сделал зло,
И кто, отмщенью чужд, глядит светло!
205. 12
Друг другу дайте руки: мрак и злоба
Пусть в прошлом - сном задремлют вековым,
Как мертвые, что не встают из гроба!"
Тут ум мой погрузился в смутный дым,
Внезапно тенью взор мой затемнился, -
Так много крови вытекло моей;
Когда ж от забытья я пробудился,
Я был среди врагов и меж друзей,
Смотрели все с участьем и с любовью.
Заботливо склоняясь к изголовью.
206. 13
Тот воин, что пронзил меня копьем.
Сидел печальный, с влажными глазами;
Как братья, что в оазисе одном
Сошлись, идя различными путями,
Глядели дружно все, и я им был
Отец, и брат, и вождь, я в бой опасный
Как будто бы за них, за всех, вступил
И, ранен, спас от смерти их ужасной.
Так в этот день, восторгом братских уз.
Соединился мощный тот союз.
207. 14
И с возгласами бурными пошли мы
По направленью к Городу, толпой.
Желанием единственным томимы -
В добре быть превосходней, чем любой;
Свободные те воинства блистали
Прекрасней, чем омытые в крови
Рабы тирана, - мы лишь мира ждали,
Мы вольности хотели и любви;
Мы шли теперь не от резни позорной,
В сердцах у всех был свет, не сумрак черный.
208. 15
Была толпа на городских стенах,
На каждой башне были мириады,
И светлые знамена в Небесах
Качались, услаждая наши взгляды, -
Там, там, на шпилях; и, как голос бурь,
В толпе раздался общий крик привета,
Казалось, он наполнил всю Лазурь,
Им точно вся Земля была одета,
Как будто бы тот гулкий крик исторг
Безбрежный нескончаемый восторг.
209. 16
По сотням улиц Города, мелькая,
Мы разлились, - как горные ручьи
В тишь озера, со скатов убегая,
Скользят со звоном, льются в забытьи;
Живых лучей ласкала позолота,
И между тем как мы все шли и шли,
Венки бросали нам, венки без счета,
Прекраснейшие руки их сплели,
Нам ангелы любви смеялись нежно,
Над нами Небо высилось безбрежно.
210. 17
Я шел - как зачарован в странном сне:
Толпы людей, недавно столь враждебных,
Так дружно шли, и было видно мне,
Что все полны любви и чувств целебных,
И так как каждый раньше делал зло,
Они смотрели кротко друг на друга,
И было в сердце каждого светло,
Легка была бы каждая услуга,
Нас жизнь манила тысячью утех.
Закон свободы - равенство для всех.
211. 18
И все они запели песнопенье.
Приветствуя Свободу и меня.
"Друг вольных, светлый дух освобожденья,
Виновник столь пленительного дня!"
Как лики, что чарующим искусством
Воссозданы, - сияли мне кругом
Прекрасные глаза, блистая чувством.
Что было зажжено ее лучом.
Той дивной Девы, бывшей ярким светом.
Но где ж она? Никто не знал об этом.
212. 19
Лаоною она себя звала,
Она была без имени, без рода.
Но где ж Лаона в этот день была.
Когда победу празднует Свобода?
Была мне и желанна, и страшна
Мечта, что, может быть, я встречусь с нею.
Да, завтра всем покажется она,
Сказали мне. Что сделать я сумею
Для войска, начал думать я тогда;
Уж выступала за звездой звезда.
213. 20
Но все заботы были бесполезны.
Хотя велик наш строй безмерный был:
Закон необходимости железный
Заботливости братской уступил.
И в полумгле направился тогда я
К Дворцу Тирана и нашел его:
Он был один, уныло восседая
На ступенях престола своего,
Горевшего в сияньях переменных
Металла и каменьев драгоценных.
214. 21
Лишь маленькая девочка пред ним
Кружилась в грациозной легкой пляске;
Еще вчера толпой он был любим,
Еще вчера он знал и лесть, и ласки,
Сегодня он один. О вот она, -
За то, что он хвалил ее когда-то
За пляску, - вся бледна, истомлена,
Кружилась, грустью скорбною объята, -
Он слишком занят был душой своей,
Ни разу он не улыбнулся ей.
215. 22
Она к нему испуганно прижалась,
Услышав шум шагов; но он был нем.
Во взорах ничего не отражалось,
Он больше тронут быть не мог ничем;
Не поднял взгляда он на наши лица,
Хотя, когда вступили мы толпой,
На звук шагов, как пышная гробница,
Резные стены дали отклик свой:
И, как внутри собора склеп угрюмый,
Лелеял сумрак тягостные думы.
216. 23
Как бледно было детское чело,
И эти губы, и худые щеки.
Но темные глаза, горя светло,
У ней прекрасны были и глубоки;
Она очарованья своего
Как будто бы совсем не сознавала.
Тиран глядел сурово, рот его
Давнишнее презренье искривляло:
Казалось, эти созданы черты
В вулкане и в провалах темноты.
217. 24
Она пред ним, как радуга, стояла.
Рожденная грозою, что едва
Прошла, и солнце в тучах воссияло;
Казалось, Цитна в ней была жива,
Ее улыбка, этот свет мгновенный,
Что сердце взволновал в моей груди;
Я видел счастья призрак незабвенный,
Что в прошлом был, там, где-то позади;
Все вдруг припомнил я, когда, волнуем,
Я к ней прильнул отцовским поцелуем.
218. 25
Венчанного злодея я повел
Оттуда прочь и, искренно жалея,
Стал утешать его, но он был зол,
И в гордости, и в страхе цепенея,
Неловко злобу мрачную тая,
Он так смотрел, как посмотреть могла бы
Своих зубов лишенная змея,
Свирепей, чем смотреть умеют жабы;
Разумным не внимавший голосам,
Других губивший, вот, погиб он сам.
219. 26
Дворец его давил бы, как гробница;
Мы вышли сквозь изваянный портал,
Прекрасные на нем виднелись лица,
Там точно сон, застыв, чего-то ждал;
И тени, что следят за грезой сонной,
Как стражи, молча стали по углам.
Ребенок шел походкой утомленной.
Растерянно глядел вослед он нам,
В слезах дрожало звездное сиянье,
В ответ на мой вопрос - одни рыданья.
220. 27
Тиран вскричал: "Убей ее скорей
Иль дай ей хлеба, раб, она не ела!"
Лишь в гробе можно звук таких речей
Услышать. Это истина глядела
Ужасными глазами на меня.
Одни во всем дворце, забыты, оба
Не ели ничего в теченье дня:
Он - так как гордость в нем была, и злоба,
И страх - сидел у трона своего.
Она совсем не знала ничего.
221. 28
Тиран смущен был тем, что так могильно
Мир глянул на него, что власть прошла,
Что стало даже золото бессильно, -
Дивился он пресекновенью зла;
Столь быстрое и тяжкое паденье
Того, кто так недавно страшен был,
Пугало и внушало изумленье;
Его несчастный вид в сердцах будил
Смущенность удивления; как пена,
Исчезло все - настала перемена.
222. 29
Толпа, какая в доблестной стране
В тысячелетье раз один бывает,
Сошлась вокруг Тирана; в тишине -
Как дождь и град весною упадает -
Был слышен частый гулкий звук шагов,
Но все хранили строгое молчанье,
И этот одинокий меж врагов
Постиг впервые тяжкий гнет страданья.
Почувствовал, как силен стыд и страх,
И скрыл лицо, от взглядов острых, в прах.
223. 30
Лишился чувств; я на земле сел рядом,
Ребенка взял из слабых рук его
И посмотрел кругом спокойным взглядом,
Чтоб им никто не сделал ничего;
Когда им пищу принесли, хотела
Она его кормить, но отвратил
Он от нее лицо; малютка ела
И плакала; в нем голод победил
Отчаянье, и так, изнеможенный,
Сидел он, как в дремоту погруженный.
224. 31
Молчанье пошатнулося в рядах;
Так, медленно, как бы придя из дали,
Шум ветра собирается в лесах.
"Низвергнут деспот наш! - они вскричали. -
Тот, кто в дома к нам посылал чуму,
Тот, кто заставил нас изведать голод.
Убийца, пал! Проклятие ему!
Он нас ввергал в смертельный страх и холод,
Но в бездне тот, кто слезы пил и кровь,
Никто его не восстановит вновь!"
225. 32
И крик раздался: "Кто судил, пусть будет
Влеком на суд, чтобы ответ был дан!
Земля его деяний не забудет, -
Ужели безнаказан лишь Осман?
Ужели только те, что, надрываясь,
Богатства исторгали из земли, -
Чтоб жить он мог, пороком наслаждаясь, -
Как черви погибать должны в пыли,
А кровь его кипит, и он свободен?
Встань! Ты суду, ты палачу угоден!"
226. 33
"Что нужно вам? - тут я, привстав, вскричал. -
Чего боитесь вы? Зачем вам надо,
Чтобы Осман вас кровью запятнал?
Раз вольность - вашим помыслам отрада,
Не бойтесь, что один, кто жил во зле.
Вам может повредить; под Небесами,
Чей свет для всех, на Матери-Земле,
Пусть он теперь живет, свободный, с вами;
И, видя смену новой жизни, он
Как бы вторично будет в мир рожден.
227. 34
Что вы судом зовете? Неужели
Никто из вас другому, втайне, зла
Не пожелал? - Неужто вы сумели
Так сделать, чтоб вся жизнь была светла?
Когда же нет, - а это нет, наверно, -
Как можете желать убийства вы?
Негодованье ваше лицемерно,
И, ежели вы сердцем не мертвы,
Поймете вы, что истина в прощенье,
В любви, не в злобе, и не в страшном мщенье".
228. 35
Умолк народный ропот, и кругом
Стоявшие, разлучены с враждою,
Участливо склонились над врагом,
Что был в пыли, с покрытой головою;
Рыданья зазвучали в тишине,
И многие, в безумье состраданья,
Склоняясь, целовали ноги мне,
Исполнены надежд и ожиданья.
Нашли слова сочувствия в себе
К тому, кто был жесток и пал в борьбе
229. 36
Тогда, безмолвной окружен толпою,
В просторный дом он был сопровожден,
Где, пышною отравлен мишурою.
Подобие ее увидел он;
И если б обладал душой он ясной,
Как те, кем был прощен он в этот час,
Конец его мог быть зарей прекрасной;
Но в глубине его обманных глаз,
Как говорили мне, скрывалось что-то,
Измена и зловещая забота.
230. 37
Настал канун торжественного дня,
Когда решили братские народы,
Что жили раньше плача и стеня,
Отпраздновать священный миг Свободы,
Провозглашенье равенства для всех.
Настала полночь. По домам все скрылись,
И сновиденья, полные утех,
Над спящими, воздушные, носились.
Но чуждой сна была душа моя,
Тревожно о Лаоне думал я.
231. 38
Взошла заря, прогнала тьму ночную,
Надежду пил в ее сиянье взор,
И вышел я за стену городскую,
На светлую равнину между гор;
То - зрелище пленительное было,
Оно рыданья вызвать бы могло;
Давнишняя завеса отступила
От власти человека, и, светло
Глядя на мир, все вольны без изъятья,
Толпились в дружных чувствах люди-братья.
232. 39
В лучах зари, над утреннею мглой,
Бесчисленные веяли знамена,
Все возгласы в единый клик, живой,
Слились и вознеслись до небосклона;
А между тем верхи бессмертных гор,
Просторы моря в трепетном сиянье,
Как бы сплелись в один сплошной узор,
Участвуя в безмерном ликованье;
Сочувственно восторг людей деля,
Казалось, ликовала вся Земля.
233. 40
Как остров над пустыней Океана,
Алтарь Союза средь равнины встал,
Вздымаясь пирамидой из тумана;
Народ ему рожденье дружно дал
В теченье ночи, волей миллионов;
Так на востоке зрима иногда
Над сонмом гор, над цепью их уклонов,
Огромных туч немая череда;
В той мощной глыбе чувствовался гений,
До кораблей - ее тянулись тени!
234. 41
Везде кругом толпа у Алтаря
Шумела, поминутно возрастая;
Так под зарей, вкруг острова, горя,
Атлантика трепещет золотая;
Как бы возникши где-то в вышине,
Идя из светлой выси отдаленья,
Воздушные, как музыка во сне,
Сребрились и звучали песнопенья;
Так из плывущих сверху облаков
Идут лучи, лаская зыбь валов.
235. 42
То было счастьем, что дает нам Лета, -
В то утро видеть, чувствовать и жить!
Все слилось связью нового привета,
Воспоминаний всех порвалась нить.
Лишь у двоих, в тревоге возбужденной,
От собственной мечты горела грудь,
Я был одним, - и пусть я, пробужденный,
Дышал легко, но я хотел вздохнуть
Еще полней, хотел иного счастья,
Утраченного бывшего участья.
236. 43
Великой Пирамиды я достиг;
На ступенях ее сидели хором
Прекраснейшие женщины; в тот миг,
Всем овладев заоблачным простором,
Залило светом солнце небосклон,
Алтарь сверкнул вершиной огневою:
Из далей Самофракии Афон
Так видят виноградари, с зарею;
Резной престол горел там, как огнем,
И женский Призрак виден был на нем, -
237. 44
Как сказочное светлое Виденье,
Сплетенное из света и теней,
Рожденное во мгле воображенья,
Чтоб чаровать мечтающих людей.
Все смертные к ней взоры приковались:
Так моряки, плывя сквозь бурный мрак,
В котором сотни дней они метались,
Глядят на загоревшийся маяк;
Лишь дрогнул я один в терзанье новом:
Тот дивный лик закутан был покровом.
238. 45
И не слыхал приветственный я крик,
В котором, вдруг, нарушивши молчанье,
Двух родственных имен союз возник,
Ее и моего, одно слиянье;
Я не слыхал, как возглашали нам,
Что мы освободили все народы,
Привыкшие к томительным цепям,
И не видал я празднества Свободы;
На друга опираясь, я молчал;
Но вот волшебный голос зазвучал.
239. 46
И вдруг я был исполнен упоений.
Тот голос тем же был, войдя в мой слух,
Что музыка небесных песнопений
Тому, кого терзает злобный дух.
Как в зеркале, в моем предстали взоре
Три статуи, во всей красе своей,
То место, где стояли мы, и море,
И горы, и бесчисленность людей;
Так в час, когда окончится затменье,
Хрустально все сияет, как виденье.
240. 47
Сперва была Лаона смущена,
И трепетность в словах ее звучала;
Но вскоре успокоилась она.
"О, наш избранник, я тебя искала!
Любила брата я, но умер он;
Из всех людей, что на земле я знаю,
Ты сходством с ним один соединен;
Себя покровом я теперь скрываю,
Чтоб мог себе представить ты под ним
Того, кем был ты некогда любим.
241. 48
Того, кто, верно, умер. Ты мне это
Простишь? Отраду нежную прими,
Не отвечая на слова привета.
Была я Жрицей избрана людьми,
Но почему, не знаю; мне известно
Лишь то, что жизнерадостной волной
Сюда принесена я столь чудесно,
Чтобы могла я встретиться с тобой,
Желанный: дай теперь свою мне руку,
И в радости живой забудем муку.
242. 49
Пусть боль застигнет нас, восторг губя,
Коль в наших душах оскверним мы волю,
Коли других не будем, как себя,
Любить, деля сочувственно их долю".
И строго указала мне она
Три изваянья стройные близ трона:
Одно - Гигант, как будто в грезах сна,
Пред ним лежали скипетр и корона,
Он разрушал их: кто-то льнул к нему,
Не знал, скорбеть, смеяться ли ему.
243. 50
Другое - Женский Образ в центре диска
Земли; была прекрасна та Жена,
Дитя и молодого василиска
Кормила грудью нежною она;
В ее глазах пленительная нега,
Осенний вечер, мнилось, в них светил.
И третий Образ, точно в хлопья снега,
Одет был белизною быстрых крыл;
Топтал он Ложь, и вился червь ползучий,
Но он глядел на облик Солнца жгучий.
244. 51
Я сел пред этим Образом, пред ней,
Она стояла, а толпа, с волненьем,
Как свет звезды среди морских теней,
Обменивается зыбким восхищеньем.
В душе у всех был незабвенный сон,
В толпе пленительная чара,
И тот обряд, под Солнцем, был свершен;
Потом закат, как заревом пожара,
Зажег средь волн лазурных острова,
И слышались волшебные слова.
Во всех сердцах одна любовь светила,
В созвучье нежных слов дышала сила,
Прекрасная Лаона говорила.
"О, Мудрость, ты ясна, как тот закат,
Сильна, быстра, смела, неукротима.
Как те Орлы, что, юные, летят
В лучах превыше облачного дыма;
Безумие, Обычай, мрачный Ад,
И Суеверье, и Печаль бледнеют;
Смотри, основы всей Земли дрожат,
Они твой голос разумеют.
Все духи вольные ее
Обетование твое
Хранят в одной надежде жгучей,
Твой зов вошел во все сердца,
Они стремятся без конца,
Как туча мчится вдаль за тучей;
Один их ветер быстрый мчит,
О, Мудрость, посмотри, твои восстали чада,
Стихии - слуги им, тебе привет звучит,
Их воля - вся твоя, ты их умам - отрада.
О, Дух, обширный, как покров Ночной,
Глубокий, как бездонности Лазури,
Мать и душа всего, в чем свет живой,
Блаженство бытия, красивость бури,
Ты снова на престол восходишь свой.
В душе людской, где чувства еле тлели;
О, в дивных снах, чуть встретя призрак твой,
Поэты старых дней бледнели -
Теперь всевластна мощь твоя,
Лучистым блеском бытия,
Дрожа, прониклись миллионы;
Природа, Бог, Любовь, Восторг
Иль кто б ты ни был, ты исторг
Там счастья крик, где были стоны;
Ты нас смеяться научил;
Презренье, Ненависть, Бездушие и Мщенье
Забыты навсегда, и в блеске новых сил
В сердцах свободных - Мир, Любовь и Упоенье.
Старейшее из всех вещей,
Божественное Равенство! Ты знаешь:
Любовь и Мудрость, полные огней,
Твои рабы, лишь ты их озаряешь;
Сокровища из помыслов людей,
Со Звезд, из темной бездны Океана
Они несут как дань красе твоей;
Все те, что жили без обмана,
Хранили свет, за годом год,
И приближали твой приход,
Дождались твоего возврата,
Ты появилась как весна,
И вся земля оживлена.
Ты все дыханья аромата
В одно сливаешь для людей;
Сияния твои не лживы и не зыбки,
Все детища Земли хотят твоих лучей,
И льнут к твоим стопам, и ждут твоей улыбки.
О, братья, мы свободны! Сонмы гор.
Леса, равнины и прибрежье моря -
Приют счастливых, радостный простор.
Где вольные блаженствуют не споря;
Низвергнут рабства тягостный позор,
Ни женщинам оков нет, ни мужчинам,
И без условий взор встречает взор
Меж двух существ огнем единым.
И пусть, пока земные мы,
Не чужды боли мы и тьмы,
Настало утро после ночи,
Сияет солнце за грозой,
И беспечальною слезой
Горят проснувшиеся очи;
Улыбки детские в сердцах,
Мечты влюбленные согласны и слиянны,
Заря ума горит, и тонет мир в лучах,
Те пропасти зажглись, что были так туманны.
О, братья, мы свободны! Как горят
Под звездами плоды! Как ветры дышат
Над спелой рожью! Там, за рядом ряд,
Колосья спят, и зов их еле слышат,
И звери, и на ветках птицы спят,
Теперь их кровь не будет больше литься,
Вкушать не будут люди жгучий яд,
Что обвинением дымится,
Крича о мести к Небесам;
Где род людской, не будут там
Царить безумье и недуги,
И все, что дышит на земле,
Что носится в воздушной мгле,
В одном замкнется светлом круге,
Толпиться будет возле нас;
И Знание, светясь от мыслей благородных,
Поэзия, огнем своих лучистых глаз,
Преобразят поля и города свободных.
Победа всем, кто был повержен ниц,
Свидетель - Ночь, свидетели - Созвездья,
Глядящие с хрустальных колесниц.
И, вольные, мы не хотим возмездья,
Мы лишь гласим: "Победа!" - До границ,
Незримых взору, до пределов южных,
До западных прибрежий и станиц,
Земля услышит - наших дружных
Освобожденных мыслей зов;
Он донесется до песков,
До всех шумящих океанов,
И побледнеют, услыхав,
И задрожат, как стебли трав,
Ряды испуганных тиранов.
Когда-то всемогущий Страх,
Тень капищ, Дьявол-Бог, исчезнет в бездне мглистой!
От наших чар живых растает он в лучах,
И Радость с Правдою взойдут на трон лучистый".
245. 52
Ночной туман соткал свой дымный кров
И над толпой простерся мглой безбрежной,
Но слышалась еще напевность слов,
В молчании звучал тот голос нежный,
Лелеял зачарованный он слух.
Как будто шепот ветра отдаленный,
И вся она светилась, точно дух,
Кто этой речи, из огня сплетенной,
Внимал, тот слышал, как он восхищен,
Как сладко тем огнем и он зажжен.
246. 53
Тот звучный голос был как ключ звенящий,
Что, с гор струясь, осенние листы
С собою мчит, чтоб кончить бег блестящий
В зеркальной глади озера - Мечты;
И так, как эти листья под волною
Впивают влагу, чтоб ожить потом
На берегу, веселою весною,
И вглубь глядят травою и цветком, -
Так все внимали множеством согласным,
И шепот пробегал в восторге ясном,
247. 54
Теперь все разошлись среди костров.
Которые от берега морского
Тянулись в полумраке, полном снов.
До гор, до их оплота теневого;
У темных кипарисов, чьи стволы
Мерцали в ярко-красном зыбком свете,
Средь дрогнувшей от этих вспышек мглы,
Земли счастливой радостные дети
Вели беседу; в ней, как светлый сон,
Вставали - Счастье, Вольность и Лаон.
248. 55
И пировали все; их пир был ясный,
Безгрешный, как способна дать Земля,
Когда улыбкой Осени прекрасной
Озолотит она свои поля;
Иль как отец, исполненный участья.
Мирит своих враждующих детей,
И в их блеснувших взорах слезы счастья,
И пир их светел кротостью своей;
Все существа могли б в том слиться Пире,
Что на земле, иль в водах, иль в эфире.
249. 56
Там не были обычные яды,
Кровь не была, отсутствовали стоны,
Там громоздились пышные плоды,
Гранаты, апельсины, и лимоны,
И финики, и множество корней
Питательных, и гроздья винограда,
Который не был пагубой огней
В напиток превращен с проклятьем яда;
Не затемнен рассудок был питьем,
Кто жаждал, тот склонился над ручьем.
250. 57
Лаона со святилища спустилась,
И ею был прикован каждый взор,
И в каждом с нежной лаской сердце билось,
Хоть отблистал певучих слов узор;
В толпе она сняла покров свой белый,
И, как цветок, прекрасный лик расцвел,
Но я какой-то грезою несмелой
Удержан был и к ней не подошел,
К костру близ волн, что пенились широко,
Я на краю равнины сел, далеко.
251. 58
Наш праздник был весельем оживлен.
Улыбками, и шутками, и пеньем,
Пока горел далекий Орион
Над островами, над морским волненьем;
И нежной связью были слиты мы,
Пока не скрылся он среди тумана,
Не спрятал пояс свой средь дымной тьмы,
Что курится над грудью Океана;
Толпы людей пошли домой тогда,
И прошлый день светил им, как звезда.
Песнь шестая
252. 1
По берегу мерцающего моря,
В узор сплетая нежность ярких слов
И родственному сердцу сердцем вторя,
Я с другом шел, а между облаков
Светили звезды нам; воображенье
Нам рисовало радостные дни.
Любви и мира кроткие виденья;
Погасли бивуачные огни
Последние, и тьма покрыла волны,
И тишь была кругом и мрак безмолвный.
253. 2
Когда мы к городской пришли стене,
Как, почему, никто не знал причины,
Возникло беспокойство в тишине
Среди толпы, идущей от равнины;
Сперва один, весь бледный, пробежал
И дико поглядел, не молвив слова;
И с шумом, как морской вспененный вал,
Исполненные ужаса слепого,
Промчались женщин смутные ряды,
Спасаясь от неведомой беды.
254. 3
Возникли крики в сумраке туманном:
"К оружию! К оружию! Он тут!
Тиран меж нас, он с войском чужестранным,
Чтоб нас поработить. Они идут!"
Напрасно. Всеми Паника владела,
Тот дьявол, что и сильных, властью чар,
Сражает; словно буря налетела,
Так все бегут, увидевши пожар.
И я взбежал на башню городскую,
Я в бешенстве, я в гневе, негодую.
255. 4
На Севере весь город был в огне, -
Краснея, рос он каждое мгновенье,
И все яснее слышалися мне
Крик торжества и возгласы мученья.
Внизу, в проходах, между тяжких врат,
Толпа кипела длинной пеленою,
Как будто бы вспененный водопад,
Взлелеянный вершиной снеговою,
И бомбы, разрезая темноту,
Вонзались в ту живую густоту.
256. 5
И прискакали всадники - скорее,
Чем скорость этих слов; я увидал,
Как меч, в руке у каждого краснея,
В заре, еще не вспыхнувшей, блистал.
Я бросился в толпу, и силой взгляда,
И силою отчаянья и слов
Была на миг удержана громада,
Проснулся стыд в сердцах у беглецов,
Но, стиснутые новою толпою,
Они неслись, не властны над собою.
257. 6
Я бился, как захваченный волной,
Несущийся по зыби водопада
И слышащий его стозвучный вой;
Мной овладела быстрая громада,
Что мчалась все скорее и скорей,
Меж тем как бомбы, с треском разрываясь,
Прорывы образовывали в ней;
Живые, с умерщвленными сливаясь,
Исторглись на равнину наконец,
И в смертной ниве меч ходил как жнец.
258. 7
Собаки кровожадные Тирана
Предательской толпой примчались к нам,
Пришли, как духи страха и обмана,
И всадники носились по полям,
Звучал их хохот, смех души их низкой,
Сбирали жатву смерти наглецы,
А с кораблей, от Пропонтиды близкой,
Струился дождь огня во все концы:
Так иногда, во мгле землетрясенья,
Горят вулканы и в морях - волненье.
259. 8
Наш праздник был внезапно превращен
В зловещий пир для хищных птиц, простертых
Там в Небесах, как саван. Страшный сон!
В рассвете я ступал по грудам мертвых,
Стеклянными казались их глаза,
И я совсем не думал о спасенье,
В моей душе проснулася гроза,
Я громко о своем кричал презренье,
И многих к упованью я вернул,
Во многих стыд спасительный блеснул.
260. 9
Вокруг меня сплотилась кучка смелых,
И хоть оружья не было у нас,
В рядах мы прорывались поределых,
Врагов пугая блеском наших глаз;
Сомнительным мы сделали сраженье,
И, сплоченные волею одной,
Укрылися на холм, под возвышены;,
Нависшее скалистою стеной;
Но наших братьев все еще рубили,
И по кровавой мы ступали пыли.
261. 10
Недвижно мы стояли. Как я был
Обрадован, с собой увидев рядом
Отшельника, которого любил,
С божественным неукротимым взглядом;
Он был как бы могучею сосной,
Упорною среди ветров бегущих,
И юный друг мой также был со мной,
Среди борцов, судьбы бесстрашно ждущих;
И тысячи, ряды врагов дробя,
Столпились к нам, чтоб умереть любя.
262. 11
Пока всходило солнце по Лазури,
Враждебные ряды рубили нас,
Но сотни наших, точно силой бури.
Отбросили их тысячи, в тот час,
Когда, увлечены резней свирепой,
Они чрезмерно близко подошли;
И стали нам защитою и скрепой
Тела убитых; но, гремя вдали,
Не спали пушки, и враги смеялись,
Когда по ветру стоны раздавались.
263. 12
Холм защищал со стороны одной
Фалангу тех мужей неукротимых,
С другой же - трупы наросли стеной,
Теряли мы товарищей любимых,
Ручьями кровь на зелень трав лилась,
Как бы болото было под ногами,
Но мужество не погасало в нас;
Когда ж на запад, между облаками,
Спустилось солнце, стал сильнее бой, -
Сомнительной сменился он борьбой.
264. 13
В пещере, на холме, нашли мы груду
Тяжелых деревенских грубых пик,
Как некому обрадовавшись чуду.
Воинственный мы испустили крик,
Не всем из нас оружия хватило,
Был из Шести вооружен один,
Но нашу бодрость это пробудило,
И с длинной цепью вражеских дружин
С удвоенною силой мы схватились,
Бесстрашно с наступавшими мы бились.
265. 14
Враги почти готовы были прочь
Бежать от нас; но вот сплотились снова;
Поняв, что наступающая ночь
Победу нам отдаст, - полны двойного.
Усиленного бешенства, они,
Сойдя с коней, ряды свои сомкнули,
И началось неравенство резни,
И все смешалось в ропоте и гуле,
И то мечом, то силою гранат
Они фалангу тесную громят.
266. 15
О, ужас, о, позор - глядеть, как братья
Друг с другом сочетаются резней,
Звереют, на устах у них проклятья,
А сам виновник там, за их спиной! -
Мой юный друг, как молодость, прекрасный,
Заколот был! - хранитель мой, старик,
Мечом разрублен в схватке был ужасной,
На землю он у ног моих поник! -
Сознанье закружилось, улетело,
Я был как все, мной бешенство владело.
267. 16
И все сильней был бой, и все страшней;
Среди бойцов замедлив, я увидел,
Как ты гнусна, о, Ненависть, в своей
Свирепости, - хотя б, кто ненавидел,
Неустрашимо бился за любовь.
Земля кругом как бы была изрыта,
Менялся жребий схватки вновь и вновь,
И с грудью грудь была враждебно слита,
Одни других душили - страшный вид!
Глаза их выходили из орбит.
268. 17
Язык их, как у бешеной собаки,
Болтался, мягкий, пеной осквернен;
Нужда, Чума, таящийся во мраке
Безумный Лунатизм, Кошмарный Сон -
Все собственной отмечено печатью,
И в том была твоя печать, Война,
Наемник жадный, служащий проклятью,
Всю пропасть смерти видел я до дна,
Все образы ее, она богата,
Я видел смерть с рассвета до заката.
269. 18
Немного оставалося бойцов,
Но длился бой. В лазури небосклона,
Превыше гор, на фоне их снегов,
Еще возникли новые знамена:
Они дрожали в тающих лучах
Исчезнувшего между гор светила;
Все чаще, чаще смерть у нас в рядах,
И вот для всех раскрылася могила;
Лишь я один лежу, сражен, но живу,
И вижу смерть - ко мне спешит прилив.
270. 19
Вдруг страх среди врагов, их разгоняя,
Возник, - как будто с неба пал огонь;
Топча убитых и живых роняя, -
Гляжу, - бежит Татарский черный конь
Гигантский; стук копыт его ужасен,
И некто светлый, в белом, на коне,
С мечом, и лик сидящего Прекрасен;
Войска бегут, смешались, как во сне,
Сквозь их ряды, с чудовищною силой,
Летит как будто Ангел белокрылый,
271. 20
Бежали все испуганные прочь.
Я встал; сдержалось Призрака стремленье;
И ветер наступающую ночь
Наполнил как бы ласковостью пенья;
Остановился конь передо мной,
Мне женский лик предстал, как лик святыни,
И прозвучал мне зов души родной,
Пленительный, как звонкий ключ в пустыне:
"Лаон, садись!" - звала она меня,
И рядом с нею сел я на коня.
272. 21
"Вперед! Вперед!" - тогда она вскричала,
Взмахнув мечом над головой коня,
Как будто это бич был. Ночь молчала.
Как буря мчит туман, его гоня,
Так мчался конь, и были мы безмолвны,
Неслись, неслись, бесстрашно, как гроза;
Ее волос темнеющие волны,
Развеявшись, слепили мне глаза,
Мы миновали дол и гладь потока,
Тень от коня в ней зыблилась широко.
273. 22
Он высекал огонь из камня скал,
Копытами гремя по мертвым скатам,
Поток под ним весь брызгами сверкал,
И в беге, точно бурею объятом,
Он мчал нас, мчал вперед и все вперед,
Сквозь ночь, к горе, чья гордая вершина
Светилась: там виднелся некий свод,
Мерцала там под звездами руина;
Могучий конь напряг сурово грудь,
И наконец окончили мы путь.
274. 23
Утес стоял в выси над Океаном,
И можно было слышать с вышины,
Как, скрытая нависнувшим туманом,
Живет вода, и внятен звук волны,
Такие звуки слышатся порою
Там, где вздыхают ветры не спеша,
Где в чарах, порожденных Тишиною,
Как будто что поет, едва дыша;
И можно было видеть, там далеко,
Шатры и Море, спавшее широко.
275. 24
Глядеть, внимать - то был единый миг,
Он промелькнул - два существа родные
Один в другом нашли всего родник,
Всю глубь Небес, все радости земные;
Во взорах Цитны - то была она -
Такое было нежное сиянье,
Такой бездонной грусти глубина,
Что силою волшебного влиянья
Я заколдован был, - и вот у ней
Невольно слезы льются из очей.
276. 25
И скрыла омоченное слезами
Она на грудь ко мне лицо свое,
И обнял я усталыми руками
Все тело истомленное ее;
И вот, не то скорбя, не то в покое,
Она сказал мне: "Минувшим днем
Ты потерял сраженье в тяжком бое,
А я была в цепях перед Царем.
Разбив их, меч Татарский я схватила
И на коня могучего вскочила.
277. 26
И вот я здесь с тобою речь веду,
Свободны мы". Она коня ласкала
И белую на лбу его звезду
С признательностью нежной целовала,
И множество благоуханных трав
Рвала ему вокруг руины сонной,
Но я, ее усталость увидав,
На камень усадил ее, склоненный
К стене, и в уголке, меж темных мхов,
Коню я груду положил цветов.
278. 27
Был обращен к созвездиям востока
В руине той разрушенный портал,
Там только духи жили одиноко,
Которым человек приют здесь дал,
Оставив им в наследство то строенье,
Над кровлею его переплелись
Вокруг плюща ползучие растенья
И свешивались в зал, с карниза вниз,
Цеплялись вдоль седых его расщелин,
И плотный их узор бел нежно-зелен.
279. 28
Осенние здесь ветры из листов
Сложили даже, силой дуновений,
Как бы приют для бестревожных снов,
Под нежной тенью вьющихся растений.
И каждый год, в блаженном забытьи,
Над этими умершими листами,
Лелеяла весна цветы свои.
Звездясь по ним цветными огоньками,
И стебли, ощущая блеск мечты,
Переплетали тонкие персты.
280. 29
Не знаем мы, какое сновиденье
В пещерах нежной страсти нас ведет,
В какое попадаем мы теченье,
Когда плывем во мгле безвестных вод,
В потоке жизни, между тем как нами
Владеют крылья ветра, - и зачем
Нам знать, что там сокрыто за мечтами?
Любовь сильней, когда рассудок нем.
Нежней мечта, когда душою пленной
Мы в Океане, в музыке Вселенной.
281. 30
Для чистых чисто все. Мои мечты,
Ее мечты - окутало Забвенье:
Забыли мы, под чарой красоты,
Всех чаяний общественных крушенье,
Хоть с ними мы связали столько лет;
На нас нашла та власть, та жажда, знанье,
Что мысли все живит, как яркий свет,
Всем облакам дает свое сиянье:
Созвездия нам навевали сны,
На нас глядя с лазурной вышины.
282. 31
То сладкое в нас было упоенье,
Когда в молчанье каждый вздох и взгляд,
Исполненные страсти и смущенья,
О счастье безглагольном говорят -
Все грезы юных дней, их благородство,
Кровь общая, что в нас, кипя, текла,
И самых черт нам дорогое сходство,
И все, чем наша жизнь была светла.
Вплоть до имен, - все, что в душе боролось,
Нашло для нас безмолвный властный голос.
283. 32
И прежде чем тот голос миновал.
Ночь сделалась холодной и туманной,
С болота, что лежало между скал,
Сквозь щель в руину гость пришел нежданный -
Бродячий Метеор; и поднялось
До потолка то бледное сиянье,
И пряди голубых его волос
От ветра приходили в колебанье,
И ветер странно в листьях шелестел,
Как будто дух шептал нам и блестел.
284. 33
Тот Метеор облек в свое сиянье
Листы, на ложе чьем я с Цитной был,
И обнаженных рук ее мерцанье,
И взор ее, что нежил и любил, -
Одной звезды двойное отраженье,
На влаге переменчивой волны, -
Ее волос роскошное сплетенье,
Мы оба были им окружены.
И нежность губ я видел, побледневших,
Как лепестки двух роз, едва зардевших.
285. 34
К болоту Метеор ушел, во тьму;
В нас кровь как бы на миг остановилась,
И ясно стало сердцу моему,
Что вот она одним огнем забилась
В обоих; кровь ее и кровь моя
Смешалась, в чувстве все слилось туманном,
В нас был восторг немого бытия
С недугом, упоительно-желанным;
Лишь духи ощутить его могли,
Покинув темный тусклый сон земли.
286. 35
То было ли мгновением услады,
Смешавшим чувства, мысли в зыбях тьмы
И даже погасившим наши взгляды,
Чтобы друг друга не пугали мы,
И ринувшим нас в вольное забвенье,
Где встретили мы страстность, как весну?
Иль было это тех времен теченье,
Что создали и солнце, и луну,
И всех людей, что умерли, но были,
Пока мы здесь о времени забыли?
287. 36
Не знаю. Как назвать, мечтой какой,
Те полные забвенья поцелуи,
Когда рука сплетается с рукой
И с жизнью жизнь сливается, как струи?
Как взор назвать, что потонул в огне,
И что это за властное хотенье,
Что сердце по-обрывной крутизне
Ведет вперед, за грани отдаленья,
К тем вихрям мировым, где, пав на дно.
Два существа сливаются в одно?
288. 37
То тень, что между смертными незрима,
Хотя слепые чувствуют ее;
И власть ее божественного дыма
Здесь знать дала присутствие свое,
Где нежною четой, в любви сплетенной,
Мы пребывали до тех пор, когда
Ночь минула и новый день зажженный
Погас, - и я почувствовал тогда,
Луна была в выси над облаками,
Сбиралась буря с громкими ветрами.
289. 38
Казались побледневшими уста
У Цитны, под холодною луною
Ее волос роскошных красота
На грудь струилась темною волною;
А там, в груди, царила тишина,
В ее глазах, в их глубине бездонной,
Была услада радости видна;
Пусть за стеною ветер возмущенный
Свистел и пенил ключ, бежавший с гор, -
Мы были тихи, ясен был наш взор.
290. 39
Любовь горела в нас безгрешным светом,
И подтверждал безмолвно каждый взгляд,
Что слиты мы негаснущим обетом,
Что совершен таинственный обряд.
Немногим был восторг такой прозрачный
Дарован, - к нам пришел он вновь и вновь:
Мы праздновали в этой ночи брачной
Созвучность дум и первую любовь, -
И все мечты, с их вешним ароматом,
Пленительно сестру венчали с братом.
291. 40
Природы целомудренный закон
Любовь влагает в тех, что вместе были
В младенчестве, - когда свой первый сон
Они под властью новых не забыли,
И если их обычай не стеснил,
И рабство не связало роковое.
Там, где течет Эфиопийский Нил,
В священной роще дерево живое,
Чуть тень к нему от птицы с высоты
Падет, - сжимает, дрогнувши, листы, -
292. 41
Но родственные листья обнимает -
И в час, когда ему сияет день,
И в час, когда листы разъединяет
У всех других растений ночи тень.
Так мы сливались в ласке неизменной,
Любовь питала юные сердца
Той мудростью святой и сокровенной.
Чья музыка струится без конца;
Так мощный Нил дарит обогащеньем, -
Египет весь живет его теченьем.
293. 42
Как отклик тех журчавших родников
Был голос Цитны, нежно-переменный,
Мой голос слит был с ним, созвучьем слов,
Мы были двое в пропастях вселенной;
И между тем как буря в облаках
Гремела, говорили мы о грозном
Крушенье всех надежд, - о семенах.
Что скрыты все же в воздухе морозном
И зло убьют; для нас горел маяк,
Не поглотил нас в жадной бездне мрак.
294. 43
Но Цитна третий день уже не ела;
Я разбудил Татарского коня
И обнуздал его рукой умелой,
Доверчиво смотрел он на меня;
Скорбя о неизбежности разлуки,
Хотя и на недолгий, быстрый срок.
Был полон я такой глубокой муки,
Что уст от уст я оторвать не мог, -
В таких прощальных ласках есть безбрежность:
Еще, еще, растет и жаждет нежность.
295. 44
В последний раз поцеловать, взглянуть, -
И Цитна смотрит, как я уезжаю;
Гроза и ночь не закрывали путь
Среди стремнин ближайших; дальше, с краю.
Ползли туманы, ветер мглу принес,
Но все еще сквозь сеть дождя виднелась
На белой ткани темнота волос,
Разлившаяся их волна чернелась,
Домчался по ветрам прощальный крик,
И вот уже равнины я достиг.
296. 45
Я не боялся бури: не был страшен
Ее порыв и гордому коню,
Когда срывался гром с небесных башен.
Он радовался синему огню.
Широкие глаза налились кровью,
И ржаньем откликался он громам,
Как будто был охвачен он любовью,
И ноздри раздувал в ответ ветрам;
И вскоре пепелище я заметил,
Там, где Огонь Резню приветом встретил.
297. 46
Достиг я разоренного села,
С деревьев листья в буре облетали,
Там кровь людская пролита была.
Стояли груды стен, как знак печали,
Теперь огонь в жилищах тех потух,
Бежала жизнь, и смерть в права вступила,
Отшел от тел их согревавший дух,
Чернелись в блесках молнии стропила.
Лежали кучей, точно сонм теней,
Тела мужчин, и женщин, и детей.
298. 47
На площади был ключ, и были трупы;
Чтоб жажду утолить, я слез с коня,
Глаза усопших, стекловидны, тупы,
Глядели друг на друга, на меня.
На землю и на воздух безучастный;
Склонясь к ключу, отпрянул в страхе я:
Вкус крови был в нем, горький и ужасный;
На привязи коня я у ручья
Оставил, и в пустыне той гнетущей
Искать стал, есть ли в ней еще живущий.
299. 48
Но были мертвы все, и лишь одна
Там женщина по улицам бродила,
Какой-то странной скорбью сражена,
Она на духа ада походила:
Заслышав шум шагов, она сейчас
К моим губам горячий рот прижала,
И, в диком долгом смехе веселясь,
С безумным взглядом, громко закричала:
"Ты пил напиток Язвы моровой,
Мильоны скоро чокнутся с тобой".
300. 49
"Меня зовут Чума, сестру и брата -
Малюток двух - кормила грудью я;
Пришла домой: одна огнем объята,
Другой лежит разрублен, кровь струя.
И с той поры уж я не мать, живая,
Но я Чума - летаю здесь и там,
Блуждая и живущих убивая:
Чуть только прикоснусь я к чьим губам,
Они увянут, как и ты увянешь,
Но раз ты Смерть, ты помогать мне станешь.
301. 50
"Что ищешь ты? Сбирается туман,
Горит луна, и росы холодеют;
Мой мальчик спит, глубоки язвы ран,
И черви в нем теперь кишат, густеют.
Но что ты ищешь?" - "Пищи". - "Ты ее
Получишь; Голод - мой любовник жадный,
Но он удержит бешенство свое;
Тебя во мрак не бросит непроглядный:
Лишь тот, кого целую я теперь.
Придет на пир, в отворенную дверь".
302. 51
И с силой сумасшедшего схватила
Она меня и повела с собой;
Все мимо трупов, каждый шаг, - могила,
Вот мы дошли до хижины одной;
Из всех домов, теперь опустошенных,
К себе она собрала хлебы в дом
И в виде трех столбов нагроможденных
Меж мертвецов поставила кругом.
Она младенцев мертвых нарядила,
Как бы на пир, и рядом посадила.
303. 52
Грозясь рукою на гремевший гром,
Она вскричала, с сумасшедшим взглядом:
"Пируйте, ешьте - завтра мы умрем!"
И хлебный столб, который был с ней рядом,
Толкнув ногой, разрушила она,
Как бы гостям бескровным предлагая;
Я был в сетях чудовищного сна,
И, если б не ждала меня родная,
Там далеко, - меня б схватила тьма,
От состраданья я б сошел с ума.
304. 53
Теперь же, взявши три-четыре хлеба,
Уехал я - безумную с собой
Не мог увлечь. Уже с востока Небо
Мелькнуло мне полоской голубой, -
Гроза притихла; по прибрежью моря
Могучий конь проворно нес меня,
Седые скалы показались вскоре,
И гул пошел от топота коня,
Меж этих скал, над вьющейся дорогой,
Сидела Цитна и ждала с тревогой.
305. 54
Как радостно мы встретились! Она,
Вся бледная, покрытая росою,
Истомлена была, почти больна,
И я домой повел ее тропою,
Обнявши нежно; мнилось мне, что в ней
От этого такое было счастье,
Какое неизвестно для людей;
Наш конь, как бы исполненный участья,
За нами мирно шел, и в полумгле
Окончили мы путь наш по скале.
306. 55
Мы ласками друг друга отогрели,
Был поцелуем встречен поцелуй.
Потом мы наши яства мирно ели;
И как порой осенней, возле струй.
Цветок, совсем иззябший под дождями,
Вдруг радугой распустится в лучах, -
Жизнь юная, улыбкой и огнями,
Сверкнула на щеках ее, в глазах.
Забота уступила власть здоровью,
И озарилась вся она любовью.
Песнь седьмая
307. 1
Так мы сидели в утренних лучах,
Веселые, как этот блеск рассвета,
Прогнавший ночь, горящий в облаках;
Трава была росой полуодета,
И в ней играл чуть слышно ветерок.
Светили нам созвучья слов и ласки,
И наш восторг настолько был глубок,
Что время, видя роскошь этой сказки,
Забыло, что мгновения летят,
Забыло стрел своих смертельный яд.
308. 2
Я рассказал ей все мои страданья, -
Как я терзался, как сошел с ума.
И как Свободы гордое восстанье
Вернуло ум, и как распалась тьма;
И по щекам ее струились слезы,
Вслед мыслям быстрым, что питали их;
Так солнце, победив в горах морозы,
Струит потоки с высей снеговых;
Я кончил, воцарилося молчанье,
И начала она повествованье.
309. 3
Необычаен был ее рассказ,
В нем точно память многих душ сплеталась.
И хоть в уме огонь тех дней не гас,
Она почти в их правде сомневалась.
Так много было сказочного в них.
В тот страшный день она не проронила
Слезы, была тверда в мечтах своих.
Душевная в ней не слабела сила,
Когда рабы ее, чрез Океан,
Перевезли к пределу новых стран.
310. 4
И вот она раба, кругом рабыни
Тирана, низких полного страстей.
Они могли смеяться в той пустыне,
Был устремлен к иному дух у ней,
К высокому; она была спокойна,
Хотя грустна, и как-то в грустный час
Она под звуки лютни пела стройно,
Как пел бы дух, когда восторг погас;
Тиран ее услышал - на мгновенье
Своей души забыл он оскверненье.
311. 5
И увидав, как вся она нежна,
Смягчил он дух, где было все сурово,
На миг вкусил чудесного он сна;
Когда ж в сокрытость своего алькова
Ту жертву он, что билася, стеня,
Велел ввести, и все ее терзанья,
Слова и взгляды, полные огня,
Не оказали на него влиянья, -
Пред ней, что в пытке билась, не любя,
Проснулся зверь, властитель, раб себя.
312. 6
Она узнала гнусное мученье,
Прикосновенье нежеланных губ,
Кошмар, в котором грубость наслажденья
Терзает безучастный полутруп;
Та ночь была ночь ужаса и страха,
В ее душе зажегся свет такой,
Что лишь душе, стряхнувшей бремя праха,
Бросает луч свой пламень огневой;
Тиран, ее увидев исступленье,
Бежал, исполнен страха и смущенья.
313. 7
Ее безумье было точно луч,
Прорвавший темноту души глубокой,
Ее порыв настолько был могуч,
Такою возмущенной, светлоокой
Была в негодовании она,
Что захватило всех ее волненье:
В водоворот попавши так, волна
Не может не испытывать вращенья,
Рабы прониклись жалостью; они
Горели, как подземные огни.
314. 8
Бояться стал Тиран за трон свой пышный,
И ночью к ней послал он двух рабов:
Один был евнух, с поступью неслышной,
Не человек, орудье царских слов,
Уродливый, ползучий, весь согбенный;
Другой был с детства от отравы нем,
Все в нем навеки тайной было пленной,
Внимал он молча повеленьям всем,
Он был пловец-ныряльщик, тощий, длинный,
Как бы взращен волной морей пустынной.
315. 9
От огненных пришел он островов
Оманова кораллового моря.
Они ее снесли ко мгле валов,
И вот челнок, с морскою зыбью споря,
Поплыл вперед, и в бездне голубой
Причалили мы там, где под ветрами
И без ветров всегда кипит прибой;
Пловец своими длинными руками
Ее обвил, сжал ноги сталью ног,
И вместе с нею ринулся в поток.
316. 10
Проворный, как орел, что в лес тенистый
Свергается с заоблачных высот,
В зеленой тишине пустыни мглистой
Он мчался сквозь пещеры вечных вод,
Где логовища были чудищ темных, -
И тени мощных форм бежали прочь,
Другие тени форм иных, огромных,
За ним гнались, плывя сквозь эту ночь,
Он был быстрей и до скалы примчался,
Где цепи золотой узор качался.
317. 11
Послышался засовов тяжких гул,
Он повторен был темной глубиною,
Могучий столб кипящих вод плеснул,
Открылося пространство под скалою,
Блеснуло небо, точно изумруд,
Сквозь влагу многих волн переплетенных,
Так вечером лучи сиянье льют
Сквозь нежную листву акаций сонных, -
Пловец в пространство светлое нырнул,
Он искрою проворной промелькнул.
318. 12
Потом в пещеру, - Цитна продолжала, -
Меня провел он, что над бездной вод
В кипении немолкнущем лежала,
Прилив и днем и ночью там ревет;
Он отдыхал короткое мгновенье,
И, вновь нырнувши, пересек поток;
Была моя пещера как строенье,
Как храм - вверху открыт, широк, высок.
И лишь с вершины этого собора
Лились лучи усладою для взора.
319. 13
Внизу был обрамлен тот водоем
Всем, что в глубинах привлекает взоры:
Жемчужины, кораллов яркий сон
И раковин пурпуровых узоры
Расписаны не смертною рукой,
Песок, как драгоценные запястья
Из золота, рожденные волной
В приливные мгновенья полновластья,
Как изваянья - формы, ряд колонн,
И тут престол, и тут свободный трон.
320. 14
Безумный бред, как демон, овладевший
Моей душой на краткий срок, прошел,
Все видела я мыслью проясневшей:
Мне пищу приносил морской орел,
Его гнездо на острове том было,
Он был тюремщик странной той тюрьмы,
Я дружеский его прилет любила,
Как днем и ночью брата любим мы;
Единственной он был душой родною, -
Но вновь безумье овладело мною.
321. 15
Оно, как мгла, окутало меня,
И мнилось мне, что море - все воздушно,
Что вся земля - из яркого огня,
Что облака, чуть плывшие послушно
В полдневный час под легким ветерком,
Уродливые страшные виденья,
Морской орел был демоном, врагом,
Мне в клюве он, для полноты мученья,
Куски тебя кровавые давал,
Меня отравный саван обвивал.
322. 16
Я знала вновь течение мгновений,
Я видела орла, и водоем;
Был бред другой и новый гнет мучений -
Во мне, - на сердце кто-то был моем;
Живое что-то прочно поселилось
Там, в родниках заветных бытия, -
Виденье предо мной всегда носилось,
Его в душе сплела тоска моя,
Во мгле кошмаров, зыбкой, безнадежной,
Оно мне засветилось правдой нежной.
323. 17
Казалось мне, я жизнь родить должна,
Шли месяцы, недели и недели,
Мне говорили ощущенья сна,
Что кто-то возле сердца в самом деле
Трепещет, что дитя мое и я -
Мы скоро будем миром друг для друга;
И вот когда, веселый дождь струя,
Повеяла весна, как бы над лугом,
Над водоемом, - вижу я во сне,
Что милое дитя смеется мне.
324. 18
Оно прекрасно было от рожденья,
Совсем как ты, твои глаза и рот,
Я чувствую, в блаженстве восхищенья,
Как пальчики свои оно кладет
На руку мне, - как ты теперь, мой милый, -
И пусть умчался быстр дивный сон,
Во мне живет сейчас с такою силой,
С такою сладкой болью бьется он".
И Цитна на меня светло взглянула,
Как будто бы догадка в ней блеснула.
325. 19
Догадка, и сомненье, и вопрос,
И нежность испытующей печали;
Потом, когда прошло волненье слез,
Как та, кого рыданья потрясали,
Промолвила она: "В пустыне лет
Оазисом она душе блистала,
И нежен был тот благотворный свет;
Своею грудью я ее питала,
И страха не испытывала я,
Я чувствовала, это дочь моя.
326. 20
Следила я за первою улыбкой,
Когда она глядела на волну,
И видела на этой влаге зыбкой
Созвездия, и солнце, и луну,
Протягивалась нежная ручонка,
Чтоб из лучей один, любимый, взять,
Но он в воде был, и смеялась звонко
Она, что луч не мог ее понять,
И детские следили долго взоры,
Как зыблились лучистые узоры.
327. 21
Мне чудились слова в ее глазах,
Так много в них виднелось выраженья,
И звуки сочетались на устах,
Неясные, но полные значенья,
Я видела в ее лице любовь,
И пальчики ее моих искали,
Одним биеньем билась наша кровь
В согласии, когда мы вместе спали;
Однажды, светлых раковин набрав,
Мы выдумали много с ней забав.
328. 22
Пред вечером, в ее взглянувши очи,
Усталую в них радость я прочла,
И спали мы под кровом нежной ночи,
Как две сестры, душа была светла;
Но в эту ночь исчезло наслажденье,
Она ушла, как легкий призрак сна,
Как с озера уходят отраженья,
Когда дымится пред грозой луна,
Ушла лишь греза, созданная бредом,
Но та беда была венец всем бедам.
329. 23
Мне чудилось, в полночной тишине
Явился вновь пловец из бездны водной,
Ребенка взял и скрылся в глубине,
Я увидала зыбь волны холодной,
Когда, как раньше, быстро он нырнул;
Настало утро - светлое, как прежде,
Но жизни смысл, как камень, потонул,
"Прости" мечтам, "прости" моей надежде;
Я тосковала, гасла день за днем,
Одна меж волн, с моим погибшим сном.
330. 24
Ко мне вернулся ум, но мне казалось.
Что грудь моя была изменена,
И каждый раз кровь к сердцу отливалась,
Как я была той мыслью смущена,
И сердце холодело на мгновенье;
Но наконец решилась твердо я
Прогнать мечту и вместе с ней мученье,
Чтоб вновь ко мне вернулась жизнь моя,
И наконец виденье отступило,
Хотя его безмерно я любила.
331. 25
И вновь владела разумом теперь,
И я боролась против сновиденья.
Оно, как жадный и красивый зверь,
Хотело моего уничтоженья;
Но изменилось все в пещере той
От мыслей, что навеки незабвенны,
Я вспоминала взгляд и смех живой,
Все радости, что были так мгновенны;
Я тосковала, гасла день за днем.
Одна меж волн, с моим погибшим сном.
332. 26
Шло время. Сколько? Месяцы иль годы,
Не знала я: поток их ровный нес
Лишь день и ночь, круговорот природы,
Бесследность дней, бесплодность дум и слез;
Я гасла и бледнела молчаливо,
Как облака, что тают и плывут.
Раз вечером, в прозрачности прилива,
Играл моллюск, что Ботиком зовут,
Лазурный парус свой распространяя,
Качался он, меж светлых волн играя.
333. 27
Когда же прилетел Орел, - ища
Защиты у меня, тот Ботик мглистый,
Как веслами, ногами трепеща,
Пригнал ко мне челнок свой серебристый;
И медленно Орел над ним летал,
Но, видя, что свою ему тревожно
Я пищу предлагаю, - перестал
Ерошить перья он и осторожно
Повис над нежным детищем волны,
Роняя тень с воздушной вышины.
334. 28
И вдруг во мне душа моя проснулась,
Не знаю как, не знаю почему,
Вся власть былая в сердце шевельнулась;
И дух мой стал подобен твоему,
Подобен тем, что, светлые без меры,
Должны бороться против зол людских.
В чем было назначенье той пещеры?
В глубоких основаниях своих
Она не знала той победной силы.
Которой ум горит над тьмой могилы.
335. 29
И где мой брат? Возможно ль, чтоб Лаон
Был жив, а я была с душою мертвой?
Простор земли, как прежде, затемнен,
Над ним, как раньше, саван распростертый, -
Но тот покров клялась я разорвать.
Свободной быть должна я. Если б птица
Могла веревок где-нибудь достать.
Разрушена была б моя гробница.
Игрой предметов, сменой их Орла
Я мысли той учила, как могла.
336. 30
Он приносил плоды, цветы, обломки
Ветвей, - не то, что нужно было мне.
Мы можем разогнать свои потемки,
Мы можем жить надеждой в ярком сне:
Я вся жила в лучах воображенья,
То был мой мир, я стала вновь смела,
Повторность дней и длительность мученья
Мне власть бесстрашно-твердой быть дала;
Ум глянул в то, что скрыто за вещами.
Как этот свет, что там за облаками.
337. 31
Мой ум стал книгой, и, глядя в нее.
Людскую мудрость всю я изучила.
Богатство сокровенное свое
Глубь рудника внимательной открыла;
Единый ум, прообраз всех умов.
Недвижность вод, где видны все движенья
Вещей живых, - любовь, и блески снов,
Необходимость, смерть как отраженье,
И сила дней, с надеждою живой,
И вся окружность сферы мировой.
338. 32
Ткань мысли, сочетавшейся в узоры,
Я знаками чертила на песках,
Основность их читали ясно взоры,
Чуть тронь узор, и вновь черты в чертах:
Ключ истин тех, что некогда в Кротоне
Неясно сознавались; и во сне,
Меня как бы качая в нежном звоне,
Твои глаза склонялися ко мне,
И я, приняв внезапность откровенья,
Слова любви слагала в песнопенья.
339. 33
По воле я летела на ветрах
В крылатой колеснице песнопений.
Задуманных тобой, и в облаках
Как бы хрустальных был мой юный гений;
Вдвоем сидели мы в волнах лучей
На берегу седого Океана.
Счастливые, как прежде, но мудрей
Мы были над могилою Обмана
И Суеверья рабского; навек
Был мудрым, чистым, вольным человек.
340. 34
Мои мечтанья все мои хотенья
Осуществляли волею своей;
Из теневой волны воображенья
Они сзывали мне толпы людей,
Лучистые я им бросала взоры,
Их покоряла силой страстных слов.
Проникла я в земные их раздоры,
Я поняла войну земных умов,
И власть я извлекла из пониманья, -
Их мыслям дать восторг пересозданья.
341. 35
Так стала вся Земля моей тюрьмой,
И, так как боль мучений лишь преддверье
И свет востока властвует над тьмой,
Я видела, как гибнет Суеверье,
Как пало Зло, чтоб не воскреснуть вновь.
Как стали все и кротки, и счастливы,
Как сделалась свободною любовь.
Как нераздельно зажелтелись нивы, -
Из крови и из слез взрастили мы
Роскошный мир взамен былой тюрьмы.
342. 36
Потеряно не все! Есть воздаянье
Для тех надежд, что ярко так горят.
Бессильно, хоть венчанно, Злодеянье,
Вокруг него кипит жестокий ад;
Не заглушить слов правды и свободы,
Грань смерти можно смело перейти,
Есть души, что в тюрьме томятся годы,
И все ж они как светоч на пути,
И многое, как бы сквозь сумрак дыма,
Сверкает и горит непобедимо.
343. 37
Такие мысли светят нам теперь.
Они в те дни мне пели, точно струны,
Они для нас - в тот мир счастливый - дверь.
Где не шумят вкруг острова буруны;
Они как цвет фиалки, полной слез.
Пред тем как день прольет потоки света,
Как в Скифии растаявший мороз,
Узнавший блеск весеннего расцвета,
Те вестники, что посланы с небес,
Предчувствия нелживости чудес.
344. 38
Так годы шли, - как вдруг землетрясеньем
Была разъята в море глубина,
Как будто схвачен мир был разрушеньем
И смерть была вселенной суждена;
Под громкий гул глубин и их раската
В пещеру сверху лился водопад.
Очнулась я, и вижу - все разъято,
Приливы волн вокруг меня кипят.
Разрушен мой приют, тюрьма распалась,
Кругом широко море расстилалось.
345. 39
Пред взором - воды, небо надо мной,
На камне я разрушенном стояла,
И с плеском, над вспененной глубиной,
Скала, еще, еще скала упала,
И вдруг - молчанье мертвое кругом.
И ясно стало мне, что я свободна,
Дрожала зыбь в безлюдии морском,
Над влагой ветер ластился бесплодно,
Крутясь, в моих он вился волосах,
И луч горел в высоких Небесах.
346. 40
Мой дух бродил над морем и в лазури,
Как ветер, что окутывает мыс
Лелейно, - хоть поднять он может бури
И устремить дожди из тучи вниз;
Уж день почти прошел; в лучах бледневших
Корабль я увидала, там, вдали,
На парусах он шел отяжелевших,
И тени от него на зыбь легли;
Увидев новых странных скал откосы,
В испуге якорь бросили матросы.
347. 41
Когда они сидящей на скале
Увидели меня, ладью послали;
Зубцы утесов новых к ним во мгле
Как будто бы с угрозой нависали,
И воды мчались, пенясь и звеня;
Причаливши, - как я попала в море,
Они спросили с робостью меня
И смолкли, елейной жалостью во взоре,
Услышавши дрожащий голос мой;
И молча мы поплыли над волной.
Песнь восьмая
348. 1
На корабле я, севши к рулевому,
Вскричала: "Распустите паруса!
Подобная светильнику морскому.
Луна горит, покинув небеса, -
Там, возле гор; волненье нарастает:
За этим Мысом Город Золотой,
От севера к нам буря долетает,
Дрожит созвездий зябких бледный рой!
Нельзя вам быть в пустыне беспредельной!
Домой, домой, к усладе колыбельной!"
349. 2
И Моряки повиновались мне;
И с Кормчим Капитан шептался: "Злая
Тень Мертвой, что увидел я во сне,
Пред тем как нам отплыть, теперь, желая
Нас погубить, вселилась в Деве той!"
Но Кормчий отвечал ему спокойно:
"Нет злого в этой Деве молодой,
Ее призыв, что прозвучал так стройно,
В нас будит грусть, нас увлекает в путь,
О да, она невеста чья-нибудь!"
350. 3
Мы миновали островки, влекомы
Теченьем вод и свежим ветерком;
Как некий дух, с боязнью незнакомый,
Я говорила смело, и кругом
Столпились Моряки: "Зачем вы спите?
Проснитесь. Все вы - люди; лунный лик,
Лучистые к нам протянувши нити,
Вещает всем, что брату брат - двойник;
И те же мысли в вас, что в миллионах,
Как тот же свет в лесу, в листах зеленых.
351. 4
Зачем вы спите? Собственный свой дом
Вы строили для собственного счастья;
Для многих там, вдали, в краю родном,
Зажжется взор, исполненный участья,
Навстречу дети выбегут к нему,
Бросаясь от давно знакомой двери,
К нему, кто служит счастью своему.
Иль мните вы, что где-то в вышней сфере
Проклятием отметил темный Рок
Всех ваших дней земных недолгий срок?
352. 5
Кто скажет Рок, тот произвольно вложит
Людское в то, что неизвестно вам;
Как будто бы причина жизни может
Жить, мыслить, ощущать - подобно нам!
Тогда и жизнь людская ощущала б,
Как человек, - все внешние дела
Узнали б свет надежд и сумрак жалоб.
Но вот! Чума свободна, Сила Зла
Кипит, Болезнь, Нужда, Землетрясенье,
Яд, Страх, и Град, и Снег, и Угнетенье.
353. 6
Что ж значит Рок? Один безумный лжец,
Увидев тень души своей трусливой,
Закрыл ей Небо из конца в конец
И Землю сделал мрачно-молчаливой;
И почитать стал свой же Призрак он
В зеркальности огромной мирозданья, -
Подобие свое; то был бы сон
Невинный, но за ним пришли страданья,
И было решено, что Смерть есть бич,
Чем Рок врагов всегда готов застичь.
354. 7
И люди говорят, что Рок являлся,
Был зримым для избранников порой,
Как форма он огромная склонялся
С высот, - Тень между Небом и Землей;
Святоши и тираны, суеверья,
Обычаи, домашний тяжкий гнет,
Что держат дух людской во мгле преддверья
Тех областей, где вольный свет живет, -
Прислужники чудовищного Рока,
Что ненавидят истину глубоко.
355. 8
И говорят, Что Рок отмстит, в своей
Свирепости прибавит к мукам муки,
Что ад кипит среди бессмертных змей,
И воплей там не умолкают звуки;
Что, наложив позорное пятно
На жалких, живших язвой моровою,
Он к злу, что здесь им было суждено,
Прибавит там, за гранью гробовою;
Добро и зло, любовь и злость - равны,
Они на пытки им осуждены.
356. 9
Что значит сила? Сила есть лишь мненье,
Непрочное, как тучка над луной:
Пока глядим, в единое мгновенье
Ее уж нет, сокрыта глубиной;
Лик правды затемняется обманом,
Но лишь на миг он ложью затемнен,
Которая - слепой оплот тиранам,
Туманный призрак с тысячью имен;
Ложь учит, в слепоте повиновенья,
С мучительством сливать свои мученья.
357. 10
Названья лжи, любое - как бы знак
Насилия, позорное проклятье:
Безумье, похоть, гордость, злоба, мрак,
Всего здесь злого, низкого - зачатье;
Закон неправый, перед ним любовь
Повержена, убийца беспощадный,
Проливши материнскую ту кровь,
Созвал сирот во тьме и хочет, жадный,
Их, будто бы любя, усыновить,
Чтобы наследства матери лишить.
358. 11
Любовь, ты для сердец людских, в печали,
Как тишина для океанских волн;
Ты вместе с правдой, из туманной дали,
Ведешь людских стремлений зыбкий челн,
Из лабиринта рабских заблуждений
Выводишь, им свою давая нить,
На волю, на простор, для наслаждений,
К которым всех ты хочешь приобщить;
Бесстрашию ты учишь и терпенью, -
Идти к добру, прощая преступленью.
359. 12
Быть в ясности, гармонии с собой,
Всех видеть, никого не оскорбляя,
Как бы шатер раскинуть голубой,
В котором светит Радость молодая,
И так закончить вечер бытия, -
Иль отереть со щек Печали слезы,
Жить так, чтобы любовь и жизнь твоя
Слились в одну воздушность нежной грезы, -
Такая участь только тем дана,
В ком, вольная, царит любовь одна.
360. 13
Но дети пред родителями ныне
Трепещут в послушании слепом,
Высоким, низким правит Рок в пустыне,
И брату брат является рабом;
И Злоба с бледной матерью, Боязнью,
Сидит в пределах высшей вышины,
Всему живому угрожая казнью;
Источники любви затемнены,
И Женщина живет с рабом рабою,
И жизнь полна отравой роковою.
361. 14
И человек в глубоких рудниках
Отыскивает золото, чтоб цепи
Себе сковать; он терпит труд и страх,
Проходит чрез леса, моря и степи,
Чтоб услужить таким, как он, рабам;
Убийство совершает он в угоду
Своим же мрачным деспотам-врагам;
Приносит в жертву он свою свободу,
И кровь свою пред идолом он льет,
Слепец, к своей же гибели идет.
362. 15
Что Женщина? Раба! Сказать мне стыдно,
Что Женщина - отбросок очага,
В ней все, о чем и думать нам обидно,
Она игрушка подлого врага;
От слез у ней вдоль щек идут морщины,
Хотя у ней улыбка на щеках, -
Правдива зыбь и борозды пучины,
Обманет свет на гибельных волнах;
Известно всем вам, Женщиной рожденным,
Какая боль дается угнетенным.
363. 16
Так быть не должно; можно вам восстать,
И золото своей лишится силы;
Любовь способна в мире возблистать,
Как луч; и суеверья мрак унылый,
Себя связавший с кровью в старину,
Рассеется. Взгляните, мыс высокий
Скрывает нисходящую луну;
Так тюрьмы - только призрак одинокий,
И капища исчезнут как туман,
Лишь Человеку светоч вечный дан.
364. 17
Пусть будут все и равны, и свободны!
В душе у всех вас отклик слышу я,
Нежнейший звук, отрадно-благородный.
Откуда вы? Скажите мне, друзья.
Увы, как много я читаю горя,
Как много скорбных, тягостных страниц,
Всего, что возникало, тайно споря,
В чертах изнеможенных ваших лиц;
Легенды я читаю в ваших взорах
О войнах, о владыках, о раздорах.
365. 18
Откуда вы приходите, друзья?
Вы лили кровь? Вы золото сбирали,
Чтобы Тиран, обман в душе тая,
Мог быть убийцей, создавать печали?
Или у бедных вымогали вы
Достаток их, над чем они корпели?
Иль кровь на вас еще свежа, увы?
Сердца у вас в обманах поседели?
Познав себя, омойтесь, как росой,
Я буду вам и другом, и сестрой.
366. 19
О не скрывайтесь, - сердце в нас людское,
Одно, - у мыслей всех один очаг;
Что в том, коль преступленье роковое
Тебе сказало: будь живущим враг;
В том приговор, что был, мог быть иль будет
Твоим и всех людей. В том нам судьба.
На краткий срок нас Жизнь из тьмы пробудит,
И Время замыкает нас в гроба,
И нас, и наши мысли, и стремленья,
Всей цепи нескончаемые звенья.
367. 20
О, не скрывайтесь - вы полны борьбы,
Сестра Стыда, в вас есть Вражда глухая;
В ваш ум взгляните - книга в нем судьбы, -
Там имена и тьма в них роковая,
В них множество зеркал для одного;
Но черный дух, что, обмакнув в отраве,
Железное перо, для своего
Бессмертья, о своей там пишет славе,
Безвредным был бы, если б у людей
В сердцах берлоги не нашел своей.
368. 21
Да, это Злоба, призрак безобразный,
Что носит много мерзостных имен,
Под маскою является он разной,
Но смертным жалом вечно наделен;
Когда свои змеиные извивы
Вкруг сердца он совьет и утолит
Голодные свирепые порывы,
Он с бешенством всем, кто кругом, грозит;
Так Амфисбена, возле трупа птицы,
Шипя, вращает узкие зеницы.
369. 22
Не упрекай же собственной души,
Не ненавидь чужого преступленья,
Порыв самопрезренья утиши.
В том себялюбье, самопоклоненье,
Желать, чтоб плакал, бился человек,
За мысли прошлых дней и их деянья;
Напрасно; что прошло, прошло навек,
Слилось со Смертью, тщетно воздаянье;
Но - твой простор идущих к нам годов,
В груди создать ты можешь рай цветов.
370. 23
Откуда вы? Скажи мне!" - Некто Юный
Ответил мне: "В пустыне бурных вод
Плывем мы, и шумят вокруг буруны,
И ветер нас на зыбкой влаге бьет;
Твоя душа в глазах читать умеет.
Но многое в приниженных сердцах
Так глубоко, так боязливо тлеет,
Что отраженья нет ему в глазах;
Хлеб рабства, горький, мы едим от детства,
Дается безнадежность нам в наследство.
371. 24
Да, я тебе отвечу, хоть меня
Без слов томила, до сегодня, тайна,
Что, тлея, жгла меня, как головня;
На всех ты смотришь так необычайно,
О, дивная, что блеску острых глаз
Бесспорно надлежит повиновенье;
Да, верно ты зовешь рабами нас,
От мест, что сердцу дороги с рожденья,
Оторваны, влачим мы по волнам
Добычу, что назначена не нам.
372. 25
Из мирных сел, от долов молчаливых,
Красивейших из горных дочерей
Влачим туда, где свет вещей красивых
Пятнается навек в душе своей;
Ряд лет прошел и сжал свои посевы,
И не было мышления во мне
До той поры, как очи нежной Девы
Блеснули мне, горя в своей весне;
В ней жизнь моя, - я только отраженье,
Я дым костра, - и ждет уничтоженье.
373. 26
Ее везут к Тирану во дворец!" -
Он смолк и сел у паруса, согбенный,
Как будто был в его душе свинец;
И плакал; между тем над влагой пенной
Корабль бежал, покуда за звездой
Звезда не стала гаснуть, и Матросы
Толпились вкруг меня, и Рулевой
Глядел, - в душе у каждого вопросы, -
И Капитан смотрел в немой тоске,
В нем скорбь была - как в вечном роднике.
374. 27
"Проснитесь! И не медлите! Скорее!
Ты стар. Надежда может молодить.
Любовь, Надежду с Юностью лелея,
Связует их, свою дает им нить.
На нас глядят созвездья с небосклона.
Жива ль в вас правда? Жалость есть ли в вас
К другим сердцам, чтоб жгучий яд погас? -
Свободны будьте, - вмиг от тьмы проснемся.
Клянитесь! - И вскричали все: "Клянемся!"
375. 28
Тьма дрогнула, как будто тяжкий гром
Проснулся в отдаленном подземелье,
И отклики на берегу морском
Зарокотали, точно ночь, в веселье,
С Землей и с Небом в празднике слилась,
Свободу торжествуя, в честь которой
Семья матросов радостно клялась;
Раздвинулись тяжелые запоры,
И пленницы, при факелах, толпой,
На палубе сошлись во мгле ночной.
376. 29
Нежнейшие чистейшие созданья,
В глазах у них виднелася весна,
Святилище дремотного мечтанья,
Где мысль еще не нарушала сна,
На их челе тяжелое мученье
Еще не начертало страшный след.
Была свобода им - как сновиденье,
Но через миг, поняв, что рабства нет,
Они слились в словах, в улыбках нежных,
В восторгах молодых и безмятежных.
377. 30
И лишь одна в безмолвии была,
Она была нежней, чем день лучистый,
Она была, как лилия, светла
Под прядями акации душистой;
Но бледность переменная ее,
Как переменность лилии от тени,
Являла грусть; дыхание свое
Сдержавши в неге сладостных мучений,
Тот Юный встал, я руки их взяла,
И счастьем их я счастлива была.
Песнь девятая
378. 1
В ту ночь пристали к бухте мы лесистой,
И так же к нам не прикасался сон,
Как в час, когда нет больше скорби мглистой,
Он нежен в том, кто счастлив и влюблен;
Ночь провели мы в радости взаимной,
Кругом был лес дубов и тополей,
Сиянье звезд, своею тенью дымной,
Они скрывали в зеркале зыбей,
И нам шептали шепотом приветным,
И трепетали в ветерке рассветном.
379. 2
И каждой девой, каждым моряком
Принесена была из чащи леса
Живая ветка, не с одним цветком,
И вскоре их зеленая завеса
Виднелась между мачт и парусов,
Цвели цветы над носом и кормою;
Как жители веселых островов,
Мы плыли в свете солнца над волною,
Как будто гнаться были мы должны
За смехом вечно радостной волны.
380. 3
И много кораблей, чей парус белый
Пятнал воздушно-голубой простор,
От нас бежало в робости несмелой;
И тысячи людей глядели с гор,
И точно пробудилась вся Природа,
Те тысячи внимали долгий крик,
В нем был восторг, в нем был твой смех, Свобода,
Земля явила детям нежный лик.
Все слышали тот крик - так над горами
Высь к выси шлет свой "Добрый день!" лучами.
381. 4
Как те лучи над цепью дружных гор,
Окутанных редеющим туманом,
Возник всеобщий возглас и в простор
Вознесся, точно вскинутый вулканом;
В людских сердцах безумья яркий луч
Промчался победительным потоком,
И этот ток настолько был могуч,
Что смыл всю тьму в стремлении широком,
Никто не знал, как Вольность к ним пришла,
Но чувствовали все - она светла.
382. 5
Мы гавани достигли. Были души,
В которых жил тот блеск лишь краткий час.
Как свет зари, не осветивши суши,
За морем вспыхнув, тотчас же погас;
Но вскоре пламя, точно из расщелин,
Обнимет трупы, саваны сожжет,
И снова будет мир весенний зелен,
И будет синим ясный небосвод.
Во все умы проникнет восхищенье,
Как судорожный блеск землетрясенья.
383. 6
Через великий город я тогда,
Окружена счастливою толпою,
Прошла без страха, чуждая стыда;
И как среди пещер глухой грозою
Подземною встревожен сонный лес,
Над каждою душою пробужденной
Промчался шепот, веянье чудес,
И плакали иные, и, смущенный.
Иной твердил, что кончился позор,
Восстановлял забытых слов узор.
384. 7
Я речью порвала покров тот черный,
Что Правду скрыл, Природу и Любовь,
Как тот, кто говорит с вершины горной,
Что солнце там, вон там зажжется вновь,
И тени подтверждают указанье,
Бегут из рощ, уходят от ручьев.
Так помыслы зажгли свое сиянье
Во мгле едва проснувшихся умов;
И мудрость для сердец была бронею,
Соединившись с волею стальною.
385. 8
Иные говорили, что ума
Лишилась я, другие, что Пророка
Невеста к ним явилася сама,
Иные же, что демон, дух порока,
Украв людскую форму, к ним пришел
Из темной зачарованной пещеры;
Нет, это дух к нам Божий снизошел, -
Иные утверждали, полны веры. -
Чтоб с женщин смерть и цепи рабства снять
И на себя гнет их грехов принять.
386. 9
Но вскоре я для слов людских правдивых
Сочувствие в людских сердцах нашла,
Союз возник из душ вольнолюбивых,
В которых мысль была, как жизнь, смела;
Другие, в ожидании успеха,
Вступили в тот союз в своих сердцах;
И каждый миг, - светила ль им утеха,
Иль проводили день в своих делах, -
Они в себе лелеяли усилья,
Чтоб Жизнь легко свои взмахнула крылья.
387. 10
Но женщин главным образом мой зов
Извлек из их темниц, немых, холодных;
Вдруг, сбросив гнет мучительных оков,
Они в себе увидели свободных;
Тираны их сидят в своих дворцах
Пустынных, все рабы из них бежали,
В глазах исчез когда-то бывший страх,
И вспышки гнева их не удержали;
Ничем не наложить цепей на тех,
Кто раньше был готов на рабский грех.
388. 11
И те, кого меня схватить послали,
Рыдали, опустив свои мечи,
В них таял дух, свои увидев дали,
Как тает воск в пылающей печи;
Над Городом великое молчанье,
В предчувствии таящихся громов,
Лелеяло и страх, и упованья,
Так глыбы темных грузных облаков
Висят, и люди бледные томятся,
Пред тем как змеи молний разразятся.
389. 12
Как тучи, что пришли из дальних стран,
На горные, в ветрах, ложатся склоны,
Раскинулся вольнолюбивых стан,
Вкруг Города собрались миллионы;
Надежды - темных вызвали из нор,
Людей сплотила истина святая,
Твои напевы, дивный их узор,
Твоих созвучий сила молодая
По воздуху плыла, как аромат,
Под крик "Лаон" светился смелый взгляд.
390. 13
Тиран узнал, что власть его бессильна,
Но Страх, сын Мщенья, приказал ему
Быть преданным тому, что грязно, пыльно, -
Измена, деньги снова могут тьму
Родить в людских умах, затмить обманом
Возможно мысли, возбудить в них страсть;
Святоши были посланы тираном,
Жрецы, чтобы мятежников проклясть. -
И вот они взывали к Разрушенью,
К Чуме, к Нужде, к Беде, к Землетрясенью.
391. 14
И подкупил он важных стариков
Вещать о том, что славные Афины
Лишь пали оттого, что гнет оков
Им был противен; нужны властелины
Немногие, чтоб многих обуздать,
Необходимость в том и глас Природы,
На людях старых - мудрости печать,
А в юных - дикий бред, недуг Свободы,
В неволе - мир, и люди старых дней
Всех вольных, гордых утишили ей.
392. 15
И низкой ложью уст своих отравных
На время затемнить они могли
Сиянье мудрецов и бардов славных;
Нам нужно быть смиренными, в пыли, -
Так купленные громко возвещали, -
Вся жизнь - необходимость темноты,
Земной удел - тревоги и печали,
Мы слабы, грешны, полны слепоты,
И воля одного есть мир спокойный,
А мы должны терзаться в день наш знойный.
393. 16
Так устраним мы нам грозящий ад.
И лицемеры лгали богохульно,
Но время их прошло, пришел закат,
Не ликовать им властно и разгульно;
Не обмануть умов им молодых,
Смешна была тщеславность их седая;
Еще была толпа рабов других,
Они кивали, пошло утверждая,
Что отошло владычество мужчин
И ныне разум женщин - господин.
394. 17
На улицах монеты рассыпали,
Лилось вино на пиршествах дворцов,
Напрасно! Башни шпили вверх вздымали,
Как прежде, но на возгласы жрецов
Чума Эфиопийскою дорогой
Не приходила, Голод жадный взгляд
Кидал, как прежде, вниз, к толпе убогой,
Из пышных и возвышенных палат,
Куда награбил он достаток бедных;
И Страх не омрачал надежд победных.
395. 18
Да, Золото, а с ним и Страх, и Ад,
Как некие развенчанные боги,
Утратили победоносный взгляд,
Жрецы их храмов ждали на пороге
Напрасно почитателей своих,
День изо дня их алтари пустели,
Их голос в мрачном капище затих,
И стрелы лжи безвредные летели,
И тщетный клевета плела узор,
Чтоб между вольных возбудить раздор.
396. 19
Тебе известно, слишком, остальное.
С тобою от крушенья мы спаслись,
Мы здесь, и в странном я теперь покое
С тобой, взираю я с утеса вниз,
И хоть могла бы вызывать рыданье
Любовь людская, я смеюсь светло,
Мы пережили радость вне страданья,
И чувство тишины в меня вошло,
Нет мысли о случайностях измены,
О детях Завтра, что обманней пены.
397. 20
Не знаем мы, что будет, но, Лаон,
Знай, Цитна светлой вестницею будет.
Той нежностью, чем дух твой озарен,
Она в чужих сердцах любовь пробудит,
Свое одевши этой красотой
И сливши с ней воздушные виденья;
Я связана с тобой одной мечтой,
Единой крови в нас горит теченье.
Насилие - как беспредметный сон,
Что безвозвратной зыбью унесен.
398. 21
Осенний ветер семена немые
Мчит над Землей, - затем придут дожди,
Мороз, метели, вихри снеговые
Из Скифии далекой. Но гляди!
Опять Весна промчалася над миром,
Роняя росы с нежно-светлых крыл,
Цветы в горах, окутанных эфиром,
В лесах, везде биенье новых сил,
И музыка в волнах, в ветрах воздушных,
В живых - любовь, спокойствие - в бездушных.
399. 22
Весна - эмблема радости, любви,
Крылатый символ юности, надежды!
Откуда ты? Приют свой назови.
Ты надеваешь светлые одежды,
Сливаешь слезы с темною Зимой.
Дочь Осени, с ее улыбкой нежной,
Соединенной с радостью живой,
Ты на ее могиле безмятежной
Рождаешь блески свежие цветов,
Но не тревожишь саван из листов.
400. 23
Любовь, Надежда, Благо, как сиянье
И Небо, - суть окружность наших сфер.
Мы их рабы. От нас порыв мечтанья
Занес - до отдаленнейших пещер
Людских умов - посевы Правды ясной.
Но вот приходит мрачная Зима,
Печаль могил и холод Смерти властной,
Прилив насилья, буря и чума,
Кровавость вод сгустившихся застыла,
И в каждом сердце - темная могила.
401. 24
Посевы спят в земле, а между тем
Во мгле темниц - ряд жертв, как в бездне зыбкой,
И их казнят - на поученье всем;
На эшафот они идут с улыбкой,
И день за днем во тьме бледнеет лик
Ущербной славы Мудрости, и люди
Молчат, их ум пред идолом поник,
Они лежат в пыли, в стесненной груде,
Ликуют седовласые Жрецы,
И бич забот прошел во все концы.
402. 25
Зима настала в мире; мы с тобою
Застынем, как осенняя волна,
Покрытые туманной пеленою.
Но вот гляди. Опять идет Весна,
Залогом были мы ее рожденья,
Из нашей смерти, как сквозь горный свод,
Грядущее приходит оживленье,
Широкий, яркий солнечный восход;
В одежде из теней, Земля блистает,
Под тенью крыл своих орел взлетает.
403. 26
Любовь моя! Остывшим будешь ты,
И буду я остывшею, холодной,
Когда займется утро красоты.
Ты хочешь видеть блеск ее свободный?
Взгляни в глубины сердца твоего,
В нем дышит рай бессмертного расцвета,
И между тем как все кругом мертво
И в Небесах лазурь Зимой одета,
В лучах твоей мечты цветы горят,
И слышен звон, и дышит аромат.
404. 27
В своих сердцах все те, в ком упованье,
Все те, кто упованием велик,
Находят волю добрую, сиянье,
Непогасимо-бьющийся родник,
И если мгла завистливая встанет,
Есть нечто, что встает живым звеном,
И неизбежно лживого обманет,
И свяжет зло со злом, добро с добром,
И власть добра пребудет беспредельна,
С тем, что - благое, слита нераздельно.
405. 28
Они в могилах, и глубок их сон,
Мыслители, Герои и Поэты,
Властители законченных времен,
Но бездны мира славой их одеты -
Мы им подобны; пусть могила их
Сокроет, - их мечты, любовь, надежды,
Их вольность - для мечтаний мировых
Как легкие лучистые одежды;
Все, что сковал их гений, - для времен
Позднейших - знак примера и закон.
406. 29
Пусть также под землей останки наши
Уснут, познавши странный тот удел,
Хотя б своей не выпили мы чаши,
Не охладили жизнью наших тел:
Пусть наша мысль, и чувства, и мечтанья
От нашего отступят существа,
Не будут там, где дышат все созданья,
Где будет нашей волей мысль жива,
Пусть те, что через нас в покой вступили,
Не будут даже знать, кто в той могиле.
407. 30
Пусть. Наша жизнь, и мысли, и любовь,
И все, чем были мы, и наше счастье,
Бессмертно будут жить, светиться вновь,
Как яркий день над сумраком ненастья;
В разорванности тьмы был явлен свет,
Лик мира явлен был над бездной шумной;
И как, увидев сцену давних лет,
К надежде возвращается безумный,
И, вспомнив все, опять живет, любя,
Так вспомнит темный человек - тебя.
408. 31
И Клевета меж тем терзать нас будет,
Как пожирают черви мертвецов,
Презренье и проклятия пробудит
Во мраке капищ, в душной мгле дворцов;
Что мы свершили, будет всем известно,
Хотя никто того не подтвердит,
Но наша память будет повсеместно,
А их дела забвенный прах затмит;
В людской душе живые изваянья
Прочней живут, чем льстивых рук созданья.
409. 32
Но Разум с Чувством между тем от нас
Уйдут, и волшебство их прекратится,
Погаснет свет вот этих губ и глаз
Во тьме могил, где жадный червь таится,
В чудовищности мрачной слепоты,
И нам не вспыхнут блески возрожденья,
В дремотности той душной темноты
Не загорятся золотом виденья;
Бесчувственная смерть - гниенье, тьма,
Глубокая холодная тюрьма.
410. 33
Нет, дух наш лишь фантазией терзаем:
Как знать уму - что мыслью не поймем,
Ни чувством не постигнем! Мы не знаем,
Откуда мы и как, зачем живем,
Не знаем мы, какое Повеленье
Велит гореть созвездьям в вышине,
Влагает жизнь свою в зверей, в растенья,
Вот в эти мысли. - О, поди ко мне!
Я цепь кую, чьи звенья неразрывны,
Огни их слишком ярки и призывны.
411. 34
Да, да - горят огнем твои уста,
Твой поцелуй пленителен, о, милый,
И раз твоя погибнет красота,
Пусть будет взор мой скрыт глухой могилой,
Пусть я засну, чтоб не проснуться вновь:
Что жизнь, не разделенная с тобою!
Да, Цитну мудрой сделает Любовь,
Когда погаснет Мудрость предо мною:
Смерть темная, раз только смерть верна,
Милей, чем жизнь, коль без тебя она.
412. 35
Что мыслим мы, уносится теченьем
И не придет к началу своему;
Земля и Небо, с вечным их сплетеньем,
Их дети - тучи, Свет, ведущий Тьму,
Зима, Весна и все цветы земные
Несутся в бездну, где их вечен плен;
С тех пор как речь я начала впервые,
Как много совершилось перемен!
Но всякую прощу я жизни смену,
Лишь не в тебе, лишь не твою измену".
413. 36
Она умолкла, день меж тем погас,
Умолкла, но как будто речь звучала
В сиянии глубоких темных глаз,
И ласка ветра прядь волос качала
Так нежно. - "О, восторг моей души,
Воскликнул я, - звезда любви безбрежной!
Когда б я Небом был в ночной тиши,
Я тысячами глаз с любовью нежной
Глядел бы на тебя!" - Воздушно-нем,
В ее улыбке вспыхнул мне Эдем.
Песнь десятая
414. 1
Не дух ли человеческий скрывался
В коне, что громким ржанием прервал
Наш сон, когда рассвет не зачинался?
Иль тот, кто жив, велик ли он иль мал,
С другими слит, живыми, и мышленьем
Для всех один воздвигнут общий трон,
Куда приходит каждый с приношеньем
Посильным? И Земля, услышав стон
Своих детей, сама, любя, тоскует,
Своей любви богатства всем дарует?
415. 2
Я часто слышал нежный зов друзей
В речах, рожденных не душой людскою:
Мне пел с воздушной лаской Соловей
Среди плюща, меж тем как я тоскою
Был угнетен; в долинах я видал,
Как Антилопы легкие блуждают,
В их голосах родной мне звук вставал,
Они, как люди, чувствуют, страдают;
Так мне теперь сказал тот гордый конь,
Что вот уж скоро день зажжет огонь.
416. 3
Тот конь могучий каждой ночью мчался
Среди равнин, меж гор, во мгле ночной,
И с пищею домой я возвращался;
Но конь запятнан кровью был людской,
Она текла везде: и в полумраке
Волков я видел, коршунов и змей,
Рычали одичавшие собаки,
Гиены, с мерзкой жадностью своей,
В ужасном мире трупами питались,
Перед конем, как волны, размыкались.
417. 4
С пределов отдаленнейших земли
Рабы к Тирану шли и шли толпами,
Их деспоты в них злой огонь зажгли;
И как на Юге, жгучими волнами,
Пожар жжет травы, окружив стада,
Так шли войска держав соединенных,
Вождем тех рабских войск была Беда,
Их путь - пожары деревень зажженных;
Земля дрожала от толпы людей,
И море - от бегущих кораблей.
418. 5
Они пришли от каждого народа,
Толпы существ, лишившихся сердец,
Не знавших, что такое есть Свобода;
Они пришли с покорностью овец,
Которых их пастух окровавленный
Ведет на бойню; волей их владык
Сюда пришел Татарин разъяренный,
И Франк, и миллионы тех, чей лик
Ветров Индийских ведал дуновенье,
И Северные были здесь виденья.
419. 6
От Идумейских были здесь песков
Толпы теней, - чудовищное братство,
Сын Азии был слушаться готов,
Когда его, исполненный злорадства,
Европы хищный сын учил пускать
Стрелу в грудь пастуха, что на высокой
Скале сидел - и в счастье - убивать,
У дикаря улыбкою широкой
Лицо сияло, и друг друга так
Учили злу враги, сгущая мрак.
420. 7
Исполненный позорного обмана,
В тот самый час, когда он был спасен,
Тиран воззвал к врагам, - и за Тирана
Восстал за миллионом миллион.
Другим владыкам, с горных башен, знаки
Он подавал, - днем устремляя дым
И зажигая цепь огней во мраке;
Они пришли, соединились с ним,
И в перемирье странное вступили
Те, что волками меж собою были.
421. 8
Уж мириады к Деспоту пришли,
Еще в дороге были миллионы;
Кровь перед ним ручьем лилась в пыли,
Средь палачей он жадно слушал стоны,
Смерть посылал Тиран во все концы.
"Я чувствую, что я теперь Владыка!" -
Сказал он, принести велел щипцы,
Огонь и дыбу и смеялся дико,
Что крючья и жестокий скорпион
Извлечь из тела могут долгий стон.
422. 9
"Но для чего вернутся дружины? -
Спросил он. - Пусть мятежных бьют и бьют,
Их миллионы, а из них единый
Зажечь пожар способен: тлеет трут;
Пусть, кроме тех, что здесь в стенах сокрыты,
Погибнут все, и каждый пятый здесь
Залог того, что дерзкие избиты, -
Чтоб город был от них очищен весь!"
Один солдат ответил: "О, владыка,
Прости, но царство ночи многолико!
423. 10
И утренний уж близится огонь;
Занес я руку над вождем ужасным,
Вдруг вижу, мчится черный адский конь,
Несется он под Ангелом прекрасным,
Меч огненный у Ангела того".
"Ты смеешь говорить со мной, несчастный? -
Воскликнул Деспот. - Привязать его
На дыбе; пусть за этот бред напрасный
Терзается; получит плату тот,
Кто женщину найдет и приведет.
424. 11
И если у него есть враг заклятый,
Он может сжечь его. - Вперед! Скорей!"
И вот копыт послышались раскаты,
То конница помчалась средь полей,
За нею потянулася пехота,
Как облако, до отдаленных гор.
Пять суток не сомкнула глаз дремота,
И кровь лилась, заполнила простор,
И в день шестой у города сгустилась,
И на седьмой резня остановилась.
425. 12
Мир - на полях, в селениях пустых,
Средь жалких, изуродованных мертвых.
Мир - в городе, на улицах немых,
Погостом неоглядным распростертых;
Лишь там и сям безумной жертвы крик,
Которую влачат к терзаньям пытки,
И близкие? бледнеют, - вдруг язык
Кричащего отметит в длинном свитке
Кого-нибудь еще; во мгле дворца -
Мир, пиршество и песни без конца.
426. 13
День ото дня, как огненное око,
Над оскверненной смертию Землей
Катилось Солнце жгучее с востока,
Колосьев редких вырощая строй;
Оно, как факел Осени, горело,
В лазури зной стоячий тяготел,
Безветрием лазурь отяжелела,
Объят был жаждой воздух, - и из тел
Всю выпил влажность, этот пар гниенья
Был скор, незримо было испаренье.
427. 14
К зверям пришла Чума, пришла Беда,
Они вдыхали воздух зараженный,
Их запах крови заманил сюда,
Они пришли толпой многомильонной
Вослед толпе враждующих людей,
Себя сполна им трупы в пищу дали;
Они теперь, как полчища теней,
Свирепые и тощие, блуждали,
В глазах зеленых странный был недуг,
К ним смерть являлась в судорогах, вдруг.
428. 15
В отравных реках рыбы умирали,
И в чаще птицы гибли без следа;
Род насекомых вымер; и стонали
Последние исчахшие стада,
Животные, глядя друг другу в лица,
Кончались; а вкруг Города, всю ночь,
Гиен худых рыдала вереница,
Как дети, - точно им прося помочь, -
И многие из матерей с тоскою
Дрожали, болью тронуты такою.
429. 16
Средь минаретов, легких, как мечты,
Эфиопийских коршунов чернели
Ряды: вдруг коршун падал с высоты,
И люди, вздрогнув, с ужасом бледнели.
В тех знаках слишком ясной весть была,
Что быть беде. И паника настала.
Предчувствие пугающего зла,
Во всех сердцах прикосновенье жала:
Неизреченный и тошнотный яд
Распространялся быстро, точно взгляд.
430. 17
С исходом года наступает холод,
Венок листов срывая каждый день;
Так вихрем к этим странным людям Голод
Примчался, их орды сдавила Тень,
И воздух застонал от новой пытки;
У Смуты порожденья нет страшней,
Хотя она рождает их в избытке,
Питая тени тысячью грудей,
Чуму, Резню, Ложь Мысли, Бич Заботы,
Без век глаза их, чуток мрак дремоты.
431. 18
Есть нечего, хлеб вытоптан в полях:
Стада погибли все; гнилые рыбы
Лежали на зловонных берегах;
Глубины вод, озер и рек изгибы -
Без пищи; на поверхности ветров
Нет тени крыльев птиц, как в дни былые;
Пространстеа виноградников, садов,
Все Осени амбары золотые
Сгорели; каждый маленький кусок -
Вес золота; дух Скряги изнемог.
432. 19
Нет хлеба - на базарах продавали
Все гнусности, вплоть до кусков людских,
При виде их у многих застывали
От страха лица; в кладовых своих
Взяв золота, скупец звенел им звонко;
И дева, став от голода смелей,
Себя продать хотела б; и ребенка,
Влекомая слепой нуждой своей,
Мать приносила, снова возвращалась,
Его кормила грудью и кончалась.
433. 20
На род людской низвергся синий Мор.
"О, если б сталь, что так еще недавно
Здесь кровь лила, вновь ослепила взор!
Когда б землетрясенье полноправно
Взыграло, иль взметнулся б Океан!
Напрасный вопль. Безумный строй несется
Средь улиц, каждый пыткой обуян,
И каждый воет, и горит, и жмется,
Или, под властью сумасшедших снов,
Сидят на свежих грудах мертвецов.
434. 21
Теперь не голод был, а ужас жажды.
Гнилою кучей тяжких темных тел
Набит был, как котел, колодец каждый
И мглой зеленой по утрам блестел.
К ним все же притекали мириады,
Чтобы залить огонь горячих мук
Гниющей влагой мерзостной услады;
Без мыслей, без стыда они вокруг
Толклись, нагие, возрастов различных,
В багровых язвах, в ранах необычных.
435. 22
Теперь была не жажда, дикий бред,
Пред многими везде их образ тощий
Шел рядом, от него спасенья нет, -
Двойник упорный, полный тайной мощи, -
И убивали жалкие себя,
Чтобы уйти от привиденья сразу;
Иные ж гибли, но, других губя,
Распространяли радостно заразу;
Иные рвали волосы, крича:
"Мы дождались небесного меча!"
436. 23
Порой живой был спрятан между мертвых.
На площади, где водоем большой,
Средь трупов, пирамидой распростертых,
Крошившихся и принимавших зной,
Был слышен вздох задавленный, о жизни;
И было странно видеть красоту.
Лежащую на этой гнусной тризне,
Как бы во сне хранящую - мечту;
Под золотом волос, как изваянье,
Иной был в смерти - вне ее влиянья.
437. 24
В дворец Тирана Голод не входил, -
Он пировал с покорною толпою
Ханжей и стражей. Призрак их щадил,
И не было Нужды: не так с Чумою,
На все она свою роняет тень.
Дай Голоду поесть, и он смеется,
Проходит мимо, как минувший день;
Но Волк-Чума за много миль несется,
Крылат и жаден, вечно сам не свой,
Не будет сыт он жалкой требухой.
438. 25
Так на пиру в дворце, средь безрассудства,
Закованный в блестящую броню
Или полураздетый для распутства,
Вдруг преданный заразному огню,
Смолкал на полуслове воин сильный, -
Ночь новая в его входила взор,
Вниз головой он падал в мрак могильный,
Или сидел, застыв, глядя в упор,
Иль выкликал, в припадке исступленья,
Провидец ада, тьмы и угнетенья.
439. 26
Смутились и Владыки, и Жрецы;
Они в своих обманах были смелы,
И вот, по недосмотру, их стрельцы
Спустили в них же гибельные стрелы:
Приюта нет, а смерть идет, близка,
И провожатый был слепец слепому;
И шли, и шли по улицам войска,
По направленью к Капищу большому,
И каждый в той процессии слепой
Напрасно умоляет Идол свой.
440. 27
Они кричали: "Боже, мы надменно
Презрели поклонение тебе,
Мы думали, что будем неизменно,
Смеясь, противоборствовать судьбе:
Но мы теперь полны стыдом и страхом,
Будь милостив, о, мощный Царь Небес,
Мы прах, и мы хотим смешаться с прахом,
Дерзнули мы не знать твоих чудес,
Но отпусти нам наши прегрешенья,
Твоим рабам не дай уничтоженья.
441. 28
Всесильный Бог, лишь ты имеешь власть.
Кто те, что пред тобою будут смелы?
Коль ты кого задумаешь проклясть,
Кто сдержит наказующие стрелы?
Кто сдержит ток нарывного дождя?
Будь милосерд в своей победной силе!
Твоих врагов, как пашню, бороздя,
В один алтарь мы Землю превратили,
Мы Небо храмом сделали твоим,
Где кровью дерзновенных был ты чтим.
442. 29
Низлив на этот Город нечестивый
Ток мщенья, ныне гнев свой отзови.
Клянемся мы тобой, что мир строптивый,
Покорные, потопим мы в крови,
Лишь только дай свое соизволенье
Дружине умоляющей твоей,
Мы приготовим страшные мученья,
Ад дьяволов и медленных огней
Для дерзких, что искупят долгим стоном
Насмешку над святым твоим законом".
443. 30
Они так чтили, бледные, дрожа,
Огромный призрак собственного сердца,
Как бы завесу, с трепетом держа
Пред каждым чуждым светом иноверца;
Из Храма вышли; между тем Чума
То одного сражала, то другого,
Внезапная в глазах вставала тьма,
Исполненная ужаса немого,
И смута овладела всей толпой,
Был прославляем каждым бог иной.
444. 31
Ормузд, и Моисей, и Фо, и Брама,
И Заратустра, Будда, Магомет,
Пред зданием оставленного храма
Возник имен, паролей дикий бред;
Вздевая руки, каждый исступленный
Кричал: "Наш Бог есть Бог, и только он!"
И бой уж надвигался, разъяренный,
Вдруг каждый точно льдом был охлажден:
Раздался голос, жуткий, как шипенье,
Под клобуком возникло привиденье.
445. 32
То был ревнивый Иберийский жрец,
От запада привел он легионы,
В его словах - расплавленный свинец,
Удел неверных - пытки, казнь и стоны;
Он был зловещим даже для друзей,
Притворство жило в нем и вместе злоба,
Как узел двух сплетенных тесно змей,
Как двойня под одною крышкой гроба;
Был враг ему - кто быть иным посмел,
Страшась Небес, он людям мстить хотел.
446. 33
Но более всего он ненавидел
Свет мудрости и вольного ума.
Уж он, дрожа, в воображенье видел,
Что Идола его разъята тьма;
В Европе уже искрилось веселье,
В предчувствии, что кончен сумрак снов,
И много жертв, в одной с убийцей келье,
Узнали гнет колодок и оков,
И видели, что дети их ханжами
Захвачены и быть должны рабами.
447. 34
В Европе он не смел карать огнем
Или мечом неверных, только пытки
Мог назначать законным он путем,
Но у закона слишком длинны свитки.
И вот, на время - в мире, был он там,
Где Бог его презреньем беспредельным
Был окружен: он ждал, чтобы Ислам
Возник как бич врагам его смертельным;
Страх Неба тлел в нем вечно, как очаг,
И был он людям - нетерпимый враг.
448. 35
"Умолкните! - вскричал он. - После смерти,
Когда настанет Страшный День Суда,
Чей Бог есть Бог, узнаете, - о, верьте,
За все ошибки в вере вы тогда
Заплатите мученьем бесконечным.
Но месть теперь на землю снизошла
За то, что, над судом смеяся вечным,
Болезнь нечестья смелой быть могла,
И потому возмездья вас коснулись,
Основы государства пошатнулись.
449. 36
Вы думаете, сдержит Бог Чуму
В ответ на ваши стоны и рыданья?
Ее по милосердью своему
Таил он, было долго ожиданье,
И выпустил на волю, наконец,
Судить его врагов: так что ж, мы ст_о_им,
Чтоб этот Полномочный божий жрец
В служении своем был беспокоим?
Нет, не замкнутся смертные врата,
Пока живет его врагов чета.
450. 37
Да, голод есть в глубокой бездне ада.
И зев раскрыт у змей огнистой тьмы,
Они от нас не отрывают взгляда,
В их пасти все, что пали от Чумы,
Они кишат, как рыбы в мелководье,
Им голодно, хотят пожрать они
Их братьев, Сатанинское отродье,
Что манит души в вечные огни;
Они хотят железными клыками
Натешиться над гнусными сердцами.
451. 38
Чуме велит умолкнуть Царь Небес;
Возвышенный костер нагромоздите,
Ветвистый оборвите целый лес,
Камеди ядовитой положите,
Она лениво будет липнуть, жечь,
Прокрадываясь медленной походкой,
Огонь пройдет по сучьям, будет жечь,
Под красною железною решеткой,
А снизу будут жалить все больней
Стоножки, скорпионы, ленты змей.
452. 39
На тот костер Лаона и Лаону
Взведите, медью жаркою их слив.
Тогда молитесь Высшему Закону.
Услышан будет Небом ваш призыв".
Он смолк, они молчание хранили,
Меж тем как отзвук голоса вдали
Стихал, как в сказке молкнет отзвук были,
И на колени, злобный, встал в пыли,
И бормотал проклятья, и в раздоре
Толпа заволновалася, как море.
453. 40
Тот голос был как властный ураган,
В легенде растворивший двери Ада:
Разверзся, мнилось, огненный туман.
Раскрылася небесная громада,
Возник как будто трон на облаках,
На нем Судья, окутанный грозою,
В душе у всех восстал безвестный страх,
Сдавил их всех палящей полосою;
Они как звери были в летний зной,
Когда кругом кипит пожар лесной.
454. 41
То было утром - в полдень, между мертвых!
И средь живых, глашатай возгласил:
"Владыка стран, как море, распростертых,
В своем совете высшем так решил:
Кто приведет Лаона иль Лаону
Живыми иль обоих их убьет,
Наследник царства будет по закону,
Но кто живьем обоих приведет,
Тот вступит в брак с владетельной Княгиней
И будет, равным, царствовать отныне".
455. 42
До ночи был костер нагроможден
И сверху был решеткою украшен,
А снизу страшным ложем гадов; он
Превыше был окрестных мощных башен;
Страх следует покорною стопой
За Злобою, не чувствуя обиды, -
Был создан сумасшедшею толпой
Огромный темный остов пирамиды;
Рабы, как овцы под огнем слепней,
Толклись, несли еще, еще ветвей.
456. 43
Настала ночь, беззвездная, немая,
Толпа ждала вкруг этого костра,
Глубокое молчанье сохраняя,
Войска не расходились до утра;
И только змей свистанье и шипенье
Порою раздавалось в этой тьме,
Да кто-нибудь в дремотное забвенье
Впадал, поддавшись бешеной Чуме,
В веселии она носилась диком,
Свой путь в толпе отметив быстрым криком.
457. 44
Настало утро, - в полчищах людей
Безумье, Голод, Страх, Чума крылами
Тела нагромождали: так ручей
В осенний день чернеет весь листами;
Живые бледный составляли круг;
Пред полднем вспыхнул страх всеобщий ада,
Панический, как голод, как недуг,
Он всех душил удавной силой яда;
Шептались все: "Чу! Чу! Они идут?
О, Боже, близок час твой, близок суд!"
458. 45
Жрецы, Святоши были в полной силе,
Они в толпе бродили, и одни
Являли рвенье, а другие были
В действительном безумье: да, в огни,
Они кричали, надо богохульных.
Иначе не насытим адских змей.
И вот зажглись, как в пиршествах разгульных,
Три сотни алчных пламенных печей,
И каждый, хоть родной, но раз неверный,
Родным сжигался в ревности примерной.
459. 46
В свирепом дыме полдень потонул,
Вечерний ветер прах развеял серый,
От этих жертв, на время, бред уснул,
Но на закате вновь восстал, без меры.
Кто скажет, чт_о_ случилось в темноте,
Добра и зла кто уровень отметит?
Он тайну к должной приведет черте
И лабиринт людской души осветит,
Где чаянье, близ мысленных стремнин,
С тоской в борьбе - не час, не год один.
460. 47
Так, мать одна троих детей со смехом
Приволокла к огню и умерла;
И преданные мерзостным утехам
Служители чудовищного зла,
Что ели трупы, в Небе трон узрели
И Ангела, и Ангел тот - она;
И в ту же ночь, как на восторг веселий,
К огню один, как бы под властью сна,
Придя, сказал: "Я - он! В огонь - скорее!"
И был сожжен, и умер, пламенея.
461. 48
И в ту же ночь ряд нежных юных дев,
Прекрасных, как живые изваянья,
Сгорел, под тихий сладостный напев,
И пламени дрожали очертанья;
Одетые как бы сияньем снов,
Они в огне ложились, как в постели,
"Свобода" - было слышно между слов
Той песни, что они, сгорая, пели,
И многие, целуя ноги их,
Сгорели, их последний час был тих.
Песнь одиннадцатая
462. 1
Над пропастью застывши, как виденье,
Не слыша и не чувствуя меня,
Без возгласа, без вздоха, без движенья
Она стояла в ярком свете дня,
И что-то было у нее во взоре,
То, что бывает только в тишине,
Мысль глубины, бездонная, как море;
Безгласно было Небо в вышине;
В пещерах, там внизу, потоки пели;
Сквозь сеть волос ее глаза блестели.
463. 2
На западе, над скатом темных гор,
Висела туча; перед ней седые
Туманы низливалися в простор
От севера, как волны снеговые;
День умирал; вдруг яркий сноп лучей,
Как золото на зыби Океана,
Прорвался всей текучестью своей
И плыл на клочьях быстрого тумана;
Как выброски морские на волнах,
Они носились в красных Небесах.
464. 3
То был поток живых лучей, и справа,
И слева туча берегом была;
В ее разрыв он лился величаво,
Она в краях вдвойне была светла;
Как бы веленьем безглагольной бури
Прилив огня стремился прямо к ней;
Ее блестящий образ на лазури
Как бы мелькал в текучести лучей;
Свет побледнел, она затрепетала,
Волна ее волос огнем блистала.
465. 4
Она меня не видела, хоть я
Был рядом; взор ее глядел на море,
На Небо; счастье, радость бытия,
Блаженство быть в таком немом просторе -
Соткали страсть, сильнее слез и слов,
Сильнее всех обыденных движений;
Та страсть ее сковала чарой снов,
Нашедших много нежных отражений
В ее глазах, все существо мое
Затмивших и являвших лишь ее.
466. 5
В устах, я слышал, мерное волненье
Дышало; в зыбкой бездне темных глаз,
Круг в круге, глубже смерти, сновиденья,
Весь блеск Небес горел, дрожал и гас;
С волненьем сердца слился он безбрежным,
Которое вошло в глубокий взор
И всю ее своим сияньем нежным
Окутало на этой грани гор,
Дрожанием ее же атмосферы,
Блестящей и пленительной сверх меры.
467. 6
Она во мне могла бы Рай зажечь,
Ко мне прильнуть горячими устами,
Всем телом, этой негой груди, плеч,
Но, унесен холодными ветрами,
Не вспыхнул нежно-страстный поцелуй;
Мог услыхать я этот звучный голос,
Что был нежней весной поющих струй,
И все, что у меня в душе боролось,
Нашло бы в ней живой ответ тогда,
Но миг, и мы расстались навсегда.
468. 7
Мы встретились лишь раз еще, не боле.
Мои шаги услышала она,
И я с своей почти расстался волей,
Услышав зов, и цепь уж создана
Почти была, и я лишился силы.
"Куда? Мне не догнать тебя! Куда?
Слабею я! Вернись ко мне, мой милый!
Вернись, вернись! Приди ко мне сюда!"
Тот зов домчался в ветре, замолкая,
Слабея и в конец изнемогая.
469. 8
О, эта ночь без звезд и без луны!
Чума и Голод страшны, но страшнее,
Чем эти ужасающие сны,
Страх Ада; о, как гидра, злость лелея,
Все возрастал и жертвами владел,
И каждый, этим страхом удушенный,
Был в пламени, был меж горящих тел,
Как скорпион, огнями окруженный;
Но страх не мог одну надежду сжечь,
Она была - на нити острый меч.
470. 9
Не смерть - смерть больше не была покоем,
Не жизнь - в ней дикий ужас! - и не сон:
Он преисподней и свирепым роем
Бесов был всех обычных снов лишен;
Кто бодрствовал, тот знал, что он пред бездной,
Грядущее влекло в провал огней,
И каждого вело рукой железной,
Уторопляя шаг бичом из змей,
И каждый час, с походкой равномерной.
Грозил им адским ревом бездны серной.
471. 10
Погаснув для всего, что на земле,
Одно лелеял каждый упованье;
Так на объятой пеною скале
Моряк, дрожа, глядит на возрастанье
Кипучих волн; так в бурю на судне
Стоят матросы, сдерживая шепот;
Дрожали все, чуть только в тишине
Раздастся, там далеко, конский топот,
Или невнятный возглас, здесь и там,
Возникнет и помчится по ветрам.
472. 11
Зачем бледнеют лица от надежды?
В них смерть, и здесь ничем нельзя помочь.
Зачем не спят и не смыкают вежды
Толпы людей уже вторую ночь?
Нет жертв, - и час за часом, дети праха,
Ложатся на тела еще тела,
И в смертный час уста дрожат от страха,
Плоть холодеет, что была тепла;
Толпы молчат, как скошенные нивы;
Вверху Арктур сияет молчаливый.
473. 12
А! Слышишь? Смех, и вскрик, и топот ног?
Восторг, что разразился полновластно?
Идет, бежит стремительный поток.
Они идут! Дорогу им! Напрасно.
То лишь толпа безумных, бледный хор,
От душного колодца мчится с криком:
Земной, рожденный гнилью, метеор,
Оттуда выйдя в блеске многоликом,
В их спутанные волосы впился,
Как синий дым, окутавший леса.
474. 13
И многие, с сочувствием ужасным,
В толпе пустились в этот странный пляс;
Спокойствием сменялся безгласным,
Последний отклик странных воплей гас
И отзвучал средь улиц отдаленных,
Как сдавленный последний смертный стон. -
Среди своих советников бессонных
Тиран сидел и, опершись на трон,
Ждал вести; вдруг пред ними Некто стройный
Предстал один, прекрасный и спокойный.
475. 14
Ряды Бойцов надменных и Жрецов
На пришлеца взглянули с изумленьем,
В монашеский он был одет покров;
Но овладел он тотчас их смущеньем,
Едва заговорил: в его словах
И в самом тоне голоса дышали
Уверенность, которой чужд был страх,
И кротость; эти люди задрожали
От чувства неизвестного, когда
Заговорила с ними не вражда.
476. 15
"Вы в ужасе, Властители Земные,
Вы проклинали, - что ж, на звук тех слов
Проснувшись, встали силы роковые,
И темный Страх явился к вам на зов.
Я враг ваш, - вы хотите быть врагами;
О, если б мог зажечь я светлый день
Своим врагам, я тотчас был бы с вами
Как брат и друг! Но зло бросает тень,
Которая не так проходит скоро,
И Злоба - мать печали и позора.
477. 16
Вы к Небесам взываете в беде.
О, если б вы, в ком мудрость есть и страстность!
Постигли, что возможно вам везде,
Всегда являть живую полновластность,
Лишь нужно не бояться ложных снов,
Что ты и ты, вы создали, чтоб ими
Держать в повиновении рабов;
Задумайтесь над мыслями своими:
Готовите вы жертву, и она
Бесцельности, жестокости полна.
478. 17
Вы счастия желаете - но счастья
Нет в золоте, нет в славе, нет его
В уродующих играх сладострастья;
Обычай - ваш тиран, и для него
Свои сердца пустили вы в продажу.
Хотите вы, чтоб в вашей смерти ум
Забыл кошмары, снов тревожных пряжу;
Но смертный в смерти холоден, без дум,
И, если остается что, конечно,
Любовь, - ее сиянье дышит вечно.
479. 18
Зачем скорбеть о прошлом и дрожать
Пред будущим! Когда я мог заставить
Вас в вольном мире радостно дышать,
И полному забвенью предоставить
Эмблемы ваших пыток - багрянец,
И золото, и сталь! Когда б могли вы
Вещать народам, из конца в конец,
Что вы отныне люди все счастливы,
Что лишь от рабства - Страх, Чума, Нужда,
Что больше лжи не будет никогда!
480. 19
"Раз так, отлично, если ж нет, скажу я,
Ваш враг Лаон", но в тот же самый миг,
Злорадную победу торжествуя.
Внезапный страх и шум в дворце возник:
Из молодых воителей иные,
Как пчелы мед, впивали те слова,
Они проникли в смыслы их живые
И видели, что истина права;
Вскочил невольно каждый юный с трона, -
Их закололи вестники закона.
481. 20
Со смехом в спину закололи их,
И раб, что был близ Деспота за троном,
Взял трупы, чтоб во мгле могил глухих
Кровавость тел под дерном скрыть зеленым;
Один, смелей других, пронзить хотел
Безвестного, но он сказал сурово:
"Прочь от меня, ты, тело между тел!"
И дерзкого сразило это слово,
Он выронил кинжал и сел без сил
На трон свой, - Юный вновь заговорил.
482. 21
"О нет, вы недостойны сожаленья,
Вы стары, измениться вам нельзя,
И ваша участь - ваше же решенье;
От книги вашей славы кровь, скользя,
Струится наземь; в сказке, полной стона,
Жизнь будет правду в лучший день читать.
Теперь победа - вам. Я друг Лаона
И вам его теперь хочу предать,
Раз вы мое несложное желанье
Исполните. Я все скажу. Вниманье!
483. 22
Народ есть мощный в юности своей,
В нем ценится Правдивость и Свобода;
Страна за гранью Западных морей -
Приют того великого народа;
Ему напиток Мудрости был дан
Той гордою и мудрою страною,
Что первою была меж прочих стран,
Когда простилась Греция с весною;
Теперь же просит помощи она
У той страны, что ею рождена.
484. 23
Тот край Орлу подобен, что в лазури
Питает взор свой утренним лучом,
Бестрепетно плывя в теченье бури,
Когда Земля еще сокрыта сном;
Ты будешь новой жизнью над гробницей
Европы умерщвленной, Юный Край,
Твои деянья встанут вереницей
Прекрасных дум; цвети, преуспевай;
Твой рост - блеск дня, что ширится с рассветом.
Ты на Земле сверкнешь роскошным цветом.
485. 24
У Вольности в пустыне есть очаг.
Под новым Небом возникают зданья,
Эдем еще безвестных, новых благ;
И те, которых бросили в скитанья
Тираны, там находят свой приют.
Хочу, чтоб Цитну в этот край свезли вы,
Где люди песни Вольности поют,
Где все, что здесь бездомны, там счастливы,
В Америку, от вас навеки прочь, -
Лаона я предам вам в ту же ночь.
486. 25
Со мною поступите как хотите.
Я враг ваш!" Вдруг во взорах ста людей
Сверкнули как бы искристые нити,
Как изумруд в глазах голодных змей.
"Где, где Лаон? Зачем не за порогом,
Не здесь? Скорей! Исполним просьбу мы!"
- "Клянитесь мне ужасным вашим Богом!"
- "Клянемся им и бешенством Чумы!"
На них взглянувши ясными глазами,
Плащ сбросив, Юный молвил: "Он - пред вами!"
Песнь двенадцатая
487. 1
Чудовищная радость и восторг
По улицам распространились людным;
Безумный, задыхаясь, вдруг исторг
Из сердца звучный крик, в боренье трудном;
Кто умирал меж трупов в этот час,
Услышав перед смертью благовестье,
Закрыв глаза, в спокойствии погас;
Из дома в дом весь Город и предместья
Та весть веселым криком обошла
И отклики во всех сердцах нашла.
488. 2
Рассвет зажегся в полумраке дымном, -
И вот открылся длинный ряд солдат;
Жрецы, с своим кровавым жадным гимном,
В котором мысли черные звучат,
Шли рядом; на блестящей колеснице
Средь ярких копий восседал Тиран;
С ним рядом, в этой длинной веренице,
Был Призрак, нежным светом осиян,
Пленительный ребенок. И в суровых
Цепях Лаон - свободный и в оковах.
489. 3
Босой, и с обнаженной головой,
Он твердо ждал пылающего гроба;
И тесной был он окружен толпой,
Но ни в одном не шевелилась злоба;
Не побледнев, он был спокойно-смел,
В устах его не виделось презренья,
Как утро, на идущих он глядел,
Приняв свое великое решенье;
Как нежное дитя в дремоте, он
Со всеми и с собой был примирен.
490. 4
Кругом был страх, злорадство и сомненье,
Но, увидав, что жертва так светла,
Толпа пришла невольно в изумленье,
И тишь в сердца глубокая сошла.
К костру идет процессия, в убранстве
Зловещем; сотни факелов немых
Лишь знака ждут в обширнейшем пространстве,.
В руках рабов покорных; ропот стих;
И утро стало ночью похоронной,
Принявши свет, толпой рабов зажженный.
491. 5
Под балдахином ярким, как рассвет,
На возвышенье, что с костром равнялось,
Сидел Тиран, блистательно одет,
Вокруг престола свита помещалась;
У всех улыбки, лишь у одного
Ребенка взор печален; окруженный
Немыми, вот уж гроба своего
Коснулся я, Лаон, неустрашенный;
Все острова, там в море, видны мне,
И башни, точно пламя в вышине.
492. 6
Так было все безгласно в то мгновенье,
Как это можно видеть в страшный миг,
Когда, узнав удар землетрясенья,
Все ждут, чтоб вот еще удар возник;
Безмолвствовали все, лишь, умоляя
Тирана, тот ребенок говорил,
Он смел был, в нем была любовь живая,
Он за Лаона Деспота молил;
Малютка трепетала, как в долине
Меж мрачных сосен - листья на осине.
493. 7
О чем он думал, солнцем осиян,
Средь змей? Среди всего, что необычно?
Чу! Выстрел - и сигнал для казни дан,
Чу! Новый выстрел прозвучал вторично.
А он лежит, как в безмятежном сне,
И факелы дымятся, - выстрел третий
Раздался в этой страшной тишине -
И в каждом сердце как порвались сети:
Все чутко ждут, дыханье затаив,
Чтоб вспыхнул пламень, ярок и бурлив.
494. 8
Рабы бегут и факелы роняют,
Крик ужаса идет к высотам дня!
Они в испуге жалком отступают.
Вот слышен топот мощного коня,
Гигантский, темный, он с грозою сроден,
Он пролагает путь среди рядов,
И женский призрак, нежен, благороден,
На том коне; сияющий покров
На этой тени ласки и привета,
На этом стройном призраке рассвета.
495. 9
Все думали, что Бог послал его,
Что ждет их адский пламень, дик и зноен;
Тиран бежал с престола своего,
Ребенок был невинен и спокоен;
Притворством свой испуг сокрыв, жрецы
К нему взывали с лживою любовью,
Его молили злобные льстецы,
Служившие ему чужою кровью;
И страх животный в сердце ощутив,
Толпа бежала, как морской отлив.
496. 10
Остановились, думают, стыдятся,
Раздался общий вопль, как всплеск пучин,
Когда потоки моря возмутятся;
Все множество остановил один,
Кто никогда пред нежной красотою
Не преклонил упорной головы,
И в сердце жестком верою слепою
Оледенил разорванные швы -
Жрец Иберийский мудрыми считает
Лишь тех, кто кровью в сердце истекает.
497. 11
Другие также думали, что он
Велик и мудр, божественным считая
Все, в чем терзанья пыток, страх и стон
И красоты в любви не замечая.
Теперь, с улыбкой демонской в глазах,
Возникши как злорадное виденье,
В товарищах своих сдержал он страх,
Сказав устами, полными презренья:
"Владыки перед женщиной бегут?
Опомнитесь, другая жертва - тут".
498. 12
Тиран сказал: "Но это нечестиво
Нарушить клятву!" - И воскликнул Жрец:
"Сдержать ее - бесчестно и трусливо!
Пусть этот грех - мой будет, наконец!
Рабы, к столбу ее! Представ пред троном
Всевышнего, воскликну я: тебе
Я предал ту, что над твоим законом
Смеялась, непокорная судьбе;
Когда б не я, она бы радость знала,
Но мысль моя тебя не забывала".
499. 13
Дрожа, никто не двигался кругом,
Молчали все. И, повода бросая,
Рассталась Цитна с бешеным конем,
Целует лоб его, и, убегая,
По улицам пустынным он летит,
Как ветер, как порыв грозы мятежной,
И скрылся. О, какой печальный вид, -
Вид женщины такой прекрасной, нежной,
Чей юный, полный мягких блесков лик
В густом огне исчезнет через миг.
500. 14
Из многих глаз невольно лились слезы,
Но не могла роса весны блистать,
Оледенили светлую морозы;
И что ж они могли, как не рыдать!
Увы, усталость Цитну победила,
Она изнемогла в своем пути,
И вот немых улыбкой убедила
Помочь ей на костер ко мне взойти;
Заставив их себе повиноваться,
Она взошла, чтоб с жизнию расстаться.
501. 15
Со мною, у столба, средь жадных змей,
Она стояла. Ласковым упреком
Она сказала все, и вот мы с ней
Слились глазами, в счастии глубоком;
Молчание бестрепетно храня,
Насытиться друг другом не могли мы;
Не слитые с толпой и с светом дня,
Друг с другом были мы неразделимы,
Перед любовью нашей мир исчез,
Земля сокрылась, не было Небес.
502. 16
Одно - одно - возвратное мгновенье,
В пространствах незапятнанного дня
Огней кроваво-красных воспаленье,
Взметнувшися, коснулось до меня;
Окутано свирепым током дыма,
Оно плеснуло с шумом, как прилив,
Свистя и трепеща неукротимо;
И сквозь его пылающий разрыв
Увидел я, как будто из тумана,
Что пал ребенок наземь, близ Тирана.
503. 17
И это смерть? Костер исчез от глаз,
Нет Деспота, Чумы, толпы несчетной;
Огонь, что был так яростен, погас;
Я слышал звуки песни беззаботной,
Подобной тем, что в юности поют,
Когда нежна любовь с отрадой цельной,
И ласки для души - живой приют;
Она росла усладой колыбельной,
Она плыла, меняясь каждый миг,
И дух ее к моей душе приник.
504. 18
Я был разбужен ласковой рукою,
Коснувшейся меня; передо мной
Сидела Цитна: светлою водою
Блистал затон, манивший глубиной;
На берегу, в сияниях приветных,
Росли, склоняясь, нежные цветы,
Был странен лик коронок звездоцветных,
Безвестные деревья с высоты
Глядели вглубь, цветы их, нежно-юны,
В зеркальной влаге были точно луны.
505. 19
Кругом вздымался склон зеленых гор,
С пещерами, с душистыми лесами,
Идущими в блистательный простор;
Там, где вода встречалась с берегами,
Лесное эхо с откликами струй
Вело переговоры; из расщелин
Волна стремила влажный поцелуй
В мир трав, который ласков был и зелен,
И возникала меж холмов река,
Быстра, стрелообразна, глубока.
506. 20
Меж тем как мы глядели с изумленьем,
Приблизилась воздушная ладья,
Она плыла, влекомая теченьем,
И ветер пел, волну под ней струя;
Ребенок с серебристыми крылами
На ней сидел и так прекрасен был,
Что тень, как от созвездий, над волнами
Ронял он с этих нежно-томных крыл;
И, ветру подчиняясь, эти крылья
Бег лодки направляли без усилья.
507. 21
Была из перламутра та ладья,
Она плыла, внутри лучом играя:
И были заостренными края,
Она была - как будто молодая
Луна, когда, превыше темных гор,
Над соснами горит поток заката,
Но багрянец и золотой узор
Бледнеют, даль земная мглой объята,
И грань Земли приемлет поздний свет,
Отлив лучей отхлынул, солнца нет.
508. 22
Ладья у наших ног остановилась,
И Цитна повернулася ко мне,
Сиянье слез в ее глазах светилось,
Восторг внезапный был в их глубине;
"Так это Рай, - она сказала нежно, -
Не сон, мы - вместе, здесь передо мной
Мое дитя, и счастие безбрежно;
Когда моей измученной душой
Безумие владело, как могила,
Ко мне малютка эта приходила".
509. 23
К пленительному Призраку она
С рыданьем упоения прильнула,
Нежней, чем этот нежный образ Сна,
Ее земная красота блеснула,
И чудилось, что воздух задрожал
И заалел от светлого блаженства,
Согрелся и теплом ее дышал;
Вся - нега, вся - виденье совершенства,
Она дитя волной своих волос
Закрыла, сердце с сердцем здесь сошлось.
510. 24
Тогда тот Серафим голубоглазый
Заговорил, приблизившись ко мне,
И искрились в его зрачках алмазы:
"Я вся была как будто бы во сне
С тех пор, когда мы встретились впервые;
Меня очаровав мечтой своей,
Ты дал узнать мне грезы золотые,
Твой образ я соединяла с _ней_;
И встретились в блаженный миг мы снова,
Изъяты от страдания земного.
511. 25
Когда зажгли костер, мечта моя
Исчезла и, поддавшися бессилью,
В бесчувствии упала наземь я,
Мой смутный взор закрылся серой пылью,
Мой ум блуждал; вдруг, яркий, точно день,
Передо мною Лик Чумы промчался,
Дохнул, и вот меня коснулась тень,
И шепот, мне почудилось, раздался:
"Спеши к ним, ждут они, окончен мрак!"
И грудь моя прияла смертный знак.
512. 26
И стало мне легко - я умирала.
Я видела дымящийся костер,
Зола седая кучею лежала,
И черный дым, заполнивший простор,
Еще висел у шпилей и на башнях;
Молчали отупевшие войска,
Забывши о своих мечтах вчерашних,
В сердцах была глубокая тоска,
Исполнилось заветное желанье,
И пустота сменила ожиданье.
513. 27
Вид пыток был как миг бегущих снов,
И налегло жестокое молчанье;
Тогда один восстал среди рядов
И молвил: "Ток времен, без колебанья,
Течет вперед, мы - на его краю,
Они же к мирным отошли пределам,
Где тихо смерть струит реку свою.
И что же, вы своим довольны делом?
Погибли те, кем жизни душный сон
Мог быть в виденье счастья превращен.
514. 28
Они погибли так, как погибали
Великие - великих прошлых дней;
Убийцы их узнают гнет печали,
И много слез прольется из очей
Лишь потому, что вам скорбеть придется
О тех, чьей жизнью был украшен мир,
Чей яркий светоч больше не вернется;
Но, если неземной их взял эфир,
В том мудрость есть для тех, что горько знают, -
Жизнь - смерть, когда такие умирают.
515. 29
Теперь бояться нечего Чумы.
От нас должны исчезнуть страхи Ада,
Освободились от неверных мы,
Их казнь в огне была для вас услада;
Но горестно вернетесь вы домой,
Несчастные и робкие, как дети,
И этот час забросит отблеск свой
В немую бездну будущих столетий;
И эту ночь, в которой все мертво,
Навеки озарит огонь его.
516. 30
Что до меня, мне этот мир холодный
Стал тесен, как уродливая клеть.
Узнайте же, как может благородный
Республиканец смело умереть, -
И детям расскажите". - Тут, нежданно,
Себе кинжалом сердце он пронзил;
В моем уме все сделалось туманно,
И смерть меня совсем лишила сил,
Но все же гул толпы сказал мне ясно.
Что новый свет возник в ней полновластно.
517. 31
Крылатой Мыслью очутилась я
С бессмертными, с их Хором многоликим,
Там, где, сиянье звездное струя,
Над всем, что можем мы назвать великим,
Был Дух блестящий. Гений мировой.
Вкруг Храма простирает он владенья;
Там острова, Элизиум живой,
Там вольные живут для наслажденья;
От их жилищ я послана сюда.
Чтоб в этот Рай ввести вас навсегда".
518. 32
Ласкающей безмолвною улыбкой
Она дала нам знак войти в ладью,
И вот мы, молча, сели в лодке зыбкой,
Тревожившей прозрачную струю;
И, распустив блистающие крылья
По ветру благовонному, она
Вела свой челн; воздушно, без усилья,
Как паутинка, что едва видна,
Ладья летела, устремляясь к дали,
И точно берега от нас бежали.
519. 33
Все вниз и вниз ликующий поток
Среди стремнин, где кедры смотрят мрачно,
Бежал, и по нему летел челнок,
И глубь воды под ним была прозрачна,
Незримый ветер, рея и звеня,
Мчал звуки и дыханье аромата,
Так плыли мы три ночи и три дня,
В рассвете, в полдень, в зареве заката,
Мы уносились весело вперед,
По лабиринту светлых вольных вод.
520. 34
Какая поразительная смена
Теней, и форм, и всех картин реки!
Горит заря, и золотится пена,
Дрожат, переливаясь, огоньки;
Средь скал, поросших нежными цветами,
С певучим всплеском льется водопад;
Сверкают искры быстрыми звездами,
Водовороты зыбкие кипят;
Блеснет луна и глянет с небосклона, -
Вкруг островов недвижна гладь затона.
521. 35
Сквозь день и ночь жемчужная ладья
Летела вдаль, как тучка золотая,
Как мысль, что вечно мчится, свет струя,
И мчится все, нигде не отдыхая, -
Через леса дремучие, как тьма,
Средь мощных гор, на чьих немых вершинах
Циклоповские были терема,
Вещая нам о давних властелинах;
Нахмурившись, глядели с высоты
На блеск воды их грубые черты.
522. 36
Порой среди лугов необозримых
За милей милю плыли мы вперед,
И в очертаньях еле уловимых
Бежали тени облачных высот;
Порой сквозь мглу пещер дугообразных
Скользили, с их высоких потолков
Струился свет как бы лучей алмазных,
Воздушно-изумрудных нежных снов,
И проскользали тени чрез теченье,
Как сны на светлой зыби сновиденья.
523. 37
И между тем как мы вступали в Рай,
В умах у нас любовь и мудрость были,
Как в чашах, что налиты через край,
Кипит вино сверканьем влажной пыли;
Безумны были острые слова,
Звучавшие как отклик в чаще леса,
Улыбки, слезы, радость в них жива, -
И порвалась великая завеса;
Мы знали, что, хоть благо на Земле
Затемнено, оно горит во мгле.
524. 38
Три дня, три ночи - мысли сосчитали,
Как много обольстительных часов!
Меж тем в лазурной выси, в новой дали,
Неслись Луна и Солнце, сонмы снов
Лучистых, луноликие светила,
Созвездья неизведанных Небес;
В четвертый раз заря озолотила
Весь этот мир непознанных чудес,
И стал поток - как яростное море,
Но прямо дух стремил челнок в просторе.
525. 39
Да, прямо там, где, точно глыбы гор,
Вздымались груды волн в лощине смутной,
И изо всех щелей лился в простор,
Под дикий гром, поток ежеминутный,
И ветер прилетал от берегов,
Как стая вихрей, зарыдавших звонко, -
Как тень, на зыби яростных валов,
Летел челнок прекрасного ребенка,
И радуг исступленных блеск сверкал,
И бился пенный дождь о камни скал.
526. 40
Поток реки, безумьем обуянной,
Умолк; челнок застыл, как он взвился;
Мы глянули назад: во мгле туманной
Прибой блестящий с озером слился;
И, точно овладела ей услада,
Ладья застыла между двух Небес;
Четыре рокотали водопада,
Как бы из золотых идя завес;
Они из туч бегут по горным склонам,
И это море делают затоном.
527. 41
На глади недвижим, я увидал,
Как льнет вершина снежная к вершине,
И каждый остров, там вдали, блистал,
И, точно сфера света, посредине,
Храм Духа возвышался вдалеке,
Оттуда исходил к нам звук призывный,
К нему, в объятом чарой челноке,
Скользили мы дорогой переливной,
Так диск Луны проходит вкруг Земли,
И гавань здесь мы светлую нашли.
528. КОММЕНТАРИИ
Возмущение Ислама (Лаон и Цитна).
Поэма написана в 1817 году. В первом варианте она называлась "Лаон и
Цитна, или Возмущение Золотого города. Видение девятнадцатого века", но по
причинам нелитературным Шелли поменял название на "Возмущение ислама" и
несколько переделал текст. Если определять жанр поэмы, то, скорее всего, это
социальная утопия, навеянная Французской революцией.
В этой поэме, пожалуй, впервые английская поэзия подняла голос в защиту
равноправия женщин. Для Шелли, поэта и гражданина, эта проблема была одной
из важнейших.
К сожалению, К. Бальмонт не сохранил в переводе Спенсерову строфу
(абаббвбвв, первые восемь строк пятистопные, девятая - шестистопная),
которой написана поэма Шелли, оправдывая себя тем, что, упростив ее, он
"получил возможность не опустить ни одного образа, родившегося в воображении
Шелли". Дальше Бальмонт пишет: "Считаю, кроме того, нужным прибавить, что
мне, как и многим английским поклонникам Шелли, спенсеровская станса
представляется малоподходящей условиям эпической поэмы: наоборот, она
удивительно подходит к поэме лирической "Адонаис"..."
Предисловие.
...бурях, которые потрясли нашу эпоху... - Имеется в виду Французская
революция и ее последствия, то есть наполеоновские войны, реставрация
Бурбонов, деятельность Священного союза, а также национально-освободительные
движения в Европе.
Дрюммонд Вильям (1770?-1828) - английский мыслитель и публицист.
Мальтус Томас Роберт (1766-1834) - английский экономист,
утверждавший, что бедственное положение трудящихся - результат "абсолютного
избытка людей".
...трагические поэты эпохи Перикла... - Эсхил, Софокл и Еврипид.
Спенсер Эдмунд (1552?-1599) - английский поэт эпохи Возрождения.
...драматурги Елизаветинской эпохи... - Драматурги второй половины XVI
столетия, первым из которых был Вильям Шекспир (1564-1616).
Бэкон Фрэнсис (1561-1626) - английский философ, автор трактата "Новый
органон" и утопии "Новая Атлантида".
...Лукреций, когда он размышлял над поэмой... - Имеется в виду поэма "О
природе вещей".
Астарот (Астарта) - финикийская богиня брака и любви.
Сократ (ок. 469-399 гг. до н.э.) защищал принципы высокой
нравственности.
Зенон (IV в. до н.э.) отличался крайне суровым образом жизни.
Чапман Джордж (1559?-1634) - английский поэт и драматург.
Л. Володарская
Перси Биши Шелли. Атласская колдунья
Посвящение
(Мэри, упрекнувшей мою поэму в том,
что она лишена человеческого интереса)
1. 1
Как, Мэри? Ты ужалена хулой
(Змея страшна и мертвая) газеты?
Мою поэму ты зовешь плохой
За то одно, что лишена сюжета?
Мышей не ловит котик молодой,
Но он прелестен, несмотря на это,
Резов и смел. Я просто в этот раз
Фантазию слагал, а не рассказ.
2. 2
О, чья рука, скажи мне, растерзает
За то лишь трепетного мотылька,
Что, словно лебедь, он не воссылает
Хвалений солнцу? Не твоя рука!
Ведь он живет часы и умирает,
Как только день, два ока-огонька
И светлое лицо с твоей улыбкой
Утопит в оперенье ночи зыбкой.
3. 3
И вот к твоим ногам прекрасным льнет
Крылатое и бренное творенье.
Оно за славой бросилось в полет,
И увядающее оперенье
Вдруг под твоим дыханьем оживет;
Но только солнце совершит вращенье,
Оно погибнет... Вряд ли может быть,
Что созданное мной достойно жить.
4. 4
Наш Вордсворт девятнадцать лет трудился,
Покамест свет увидел Питер Белл,
И слез поток на лист бумаги лился -
Для лавров Пита слез он не жалел,
И лавр корнями в бездну погрузился,
Листвою застя рай. Так преуспел,
Бедняга, он в искусстве садовода,
Что досадил земле и небосводу.
5. 5
Я не хочу волшебницу равнять
Ни с Руфью, ни с Люси. Однако Питу
Она была бы, кажется, под стать.
Но, впрочем, я, в отличье от пиита,
В три дня сумел красавицу убрать,
А Питер, словно денди знаменитый,
Хоть убирался девятнадцать лет,
Не лучше Лира нищего одет.
6. 6
И вот еще. Разденьте Пита Белла.
От экваториальной той жары,
Какою славны адские пределы,
Он пожелтел, как серные пары.
Он видом Скарамуш, лицом Отелло.
Но лишь с волшебницы, его сестры,
Одежды снимете, - из грешной плоти
Кумира сотворив, вы пропадете!
7. 1
Среди существ, пленительных для глаз
И оправдавших труд стихосложенья,
Но изгнанных с земли, когда сошлась
Со Временем-отцом в кровосмешенье
Превратность буйная и родилась
Их двойня - Истина и Заблужденье, -
Жила в одной из атласских пещер
Колдунья-дева, Атлантиды дщерь.
8. 2
Там куталась она, как в покрывало,
В очарованье красоты живой,
И солнце, что ни разу не встречало
Под небом мира прелести такой,
Лучами золотыми целовало
Свод серокаменной пещеры той
С укрытым в темноте ее потоком,
Где забывалась дева в сне глубоком.
9. 3
И не было ее - а только пар
Иль облачко, что мотыльком витает
На западе, где темно-красный шар
За горы клонится и пропадает;
То, силою своих волшебных чар,
Кометой страшной, что луну пугает,
Колдунья становилась, то звездой,
Затерянной меж Марсом и Землей.
10. 4
Мать месяцев в виду звезды туманной,
Должно быть, наклонилась десять раз,
Повелевая водам океана
Избороздить пески, - как, возвратясь
В свой изначальный облик, всем желанный,
На каменистом ложе улеглась
Колдунья; в ней дышала мощь без меры,
Обогревая внутренность пещеры.
11. 5
Глаза колдуньи - огнь во тьме густой,
Взгляд этих глаз, пленительный и томный,
И стройный стан, пьянящий красотой,
И волосы - как будто купол темный
У храма предвечернею порой,
И губы нежные с улыбкой скромной,
И низкий голос, и живая речь -
Все, все могло в сердцах любовь зажечь.
12. 6
К ней шли в пещеру леопард пятнистый,
Премудрый и неустрашимый слон,
Лукавая змея - клубок огнистый;
К ней гневные спешили на поклон,
Чтоб усмирил их девы взор лучистый,
А также те, кто мужества лишен,
Чтоб чаровницы ласковая сила
Их обнадежила и укрепила.
13. 7
И львица к ней вела подросших львят -
Пусть в них убийства жажда истребится,
И кровожадный ягуар был рад
Глазам красноречивым подчиниться,
Которые без речи объяснят,
Как сделать хищника смирней телицы, -
Или веселым взором невзначай
Убийцам яростным откроют рай.
14. 8
Старик Силен ей нес гирлянды лилий;
За ним толпой шумливой и босой
Лесные божества из чащ валили,
Словно цикады, пьяные росой;
Дриопа с Фавном ласково просили
У бога Пана: "О приди и спой!" -
И улыбалось всем живое чудо
На ложе, созданном из изумруда.
15. 9
И появлялся вездесущий Пан.
Никто его не знал, но сквозь алмазы
Глубинных недр, сквозь воздух и туман
Он видел все, хоть от простого глаза
Скрывался сам: ведь дар ему был дан
Весь мир охватывать очами сразу.
И сердце мира было - ведал он -
Возложено на изумрудный трон.
16. 10
И нимфа водоема, и дриада,
И та пастушка, что пасет в морях
Своих барашков белорунных стадо,
И Океан, в чьих соль блестит кудрях,
И сам Приап, и рать его, и чада -
Дивились, что в безжизненных горах
Могло родиться в мир созданье это,
Исполненное доброты и света.
17. 11
И горные красавицы к ней шли,
И грубые владыки пасторалей -
Как пламя той лампады, что зажгли
На сквозняке, в них души трепетали.
Сатиры и кентавры всей земли
Ее приют с охотой навещали
И стая дивных полумертвецов
С ногами птиц и головами псов.
18. 12
И так волшебница была прекрасна,
Что перед нею меркло все кругом,
И так мудра, что было бы напрасно
Ей преданного утверждать в ином
Учении. Все было ей подвластно
В широком мире вольно-молодом.
Другого не было еще кумира
Под небом вечнокружащимся мира.
19. 13
Потом она брала веретено,
Три нитки тонкорунного тумана
И три луча зари сводя в одно -
Зари, что освещает океаны
И в небе облака, пока темно
Не станет в мире, - и золототканый
Из рук волшебных выходил вуаль,
Который красоту ее скрывал.
20. 14
И сладостными звуками эфира
Таинственный переполнялся грот -
Им подчинялись все владыки мира.
Она в ячейках, словно в сотах мед,
Хранила их... Средь чувственного пира
Мы думаем, что чувство не умрет.
Но зрелость над бессмертными смеется.
Уходят чувства. Горечь остается.
21. 15
Там спали сотни образов в тени,
Как будто драгоценности в футлярах.
Мятежны, ярки, взрывчаты одни,
А те, в отличье от собратьев ярых,
Смиренные и томные они,
Как богомольцы на картинах старых, -
И зелены, и белы, и черны -
Все как один лишь ей подчинены.
22. 16
И ароматы... От любви страдая,
В часы, когда луна еще спала,
Для них, рожденных цветниками рая,
Волшебница вместилища ткала
Из паутин. Как бабочки, играя
У окон сыроварни, близ тепла
Они вились, одних одушевляя,
В других унынье горькое вселяя.
23. 17
Здесь были жидкости. Сладки, чисты,
Они больных душою врачевали,
Тьму смерти - в ночи, полные мечты
И милых сновидений, превращали,
А плачущему горечь маеты
Восторгом вдохновенным замещали.
Колдунья в хрустале хранила их
Для исцеленья мертвых и живых.
24. 18
И свитки. Их создатель был верховный
Сатурнов маг. Он наставлял людей,
Как можно только силою духовной
Вернуть на землю рой счастливых дней,
Как искупить людской удел греховный
И наделить неистовство страстей
Незыблемою силой созиданья.
Там многих действ хранились описанья.
25. 19
И знанье было там закреплено,
Что вещества и существа живые,
Смирить которых, молвят, не дано,
И время, и пространство, и стихии -
Все это может быть подчинено,
А также воля и дела людские,
Но тайна, что содержат письмена,
Чужда непосвященным и страшна.
26. 20
Собрание камней шероховатых
Отец прекрасной феи превратил
В чреду вещей изящных и богатых.
Лампады, вазы, чаши сгромоздил
Кудесник в лабиринтах и палатах,
И странный свет от каждой исходил -
Так светляки взлетают от нарциссов
К вершинам черных стройных кипарисов.
27. 21
В ущелье том она жила одна,
И мысли ей служили как министры:
Одна была бурливая волна,
Другая ветер, третья пламень быстрый,
И что б ни приказала им она,
Какой безумный план она ни выстрой -
Все выполнялось. Властию своей
Был Гелиос один подобен ей.
28. 22
Океаниды и гамадриады,
Чьи волосы, как листья трав, длинны,
А также ореады и наяды -
В холодный мир подводной глубины
Колдунью звали, вверх, где скал громады,
И вниз, где корни дуба сплетены:
Украсить жизнь мечтали ученицы
Соседством богоравной чаровницы,
29. 23
Колдунья же им отвечала: "Нет!
Тогда иссякнут ручейки и реки,
И волосы наяд утратят цвет;
Дуб силу истощит свою навеки,
Став тощим и безлистным, как скелет,
И море будет пар. О человеке
Не говорю: повсюду, где он был,
Полдневный ветерок поднимет пыль.
30. 24
А я без вас останусь сиротою,
И в час, когда, явившись из-за туч,
Бесстрастно бросит солнце золотое
На ваш упадок свой веселый луч,
Я буду плакать. Дерзкою мечтою
Вы мир погубите, что так могуч.
Шумите, листья, надо мной. Ведите
Домой меня, ручьи! Друзья, простите!"
31. 25
Роняли слезы грустные глаза
На темную поверхность водоема,
И каждый круг, где капнула слеза,
Как зайчик, улетал под своды дома;
И доносились крики, как гроза,
В раскатах оглушающего грома:
То погибали формы бытия
В зеленых ветках, в белизне ручья.
32. 26
Весь день колдунья разбирала свитки;
Прочтя преданье древности глухой,
Она достала ткани, иглы, нитки;
Очарованье нежности живой,
В ее душе заложенной в избытке,
Прибавила к поэзии чужой, -
И неба предзакатного сиянье
Возникло под иглой на тонкой ткани.
33. 27
И вспыхивал на очаге сандал,
Камеди редкостные и корица.
Жаль, что никто из смертных не видал
Огня, что так играет и искрится,
Как растворенный в воздухе кристалл -
Он всем принадлежит, кто им дивится.
Но вышивка у девушки в руках
Горела так, что мерк пред ней очаг.
34. 28
Бессильная заснуть, всю ночь лежала
В серебряном источнике она,
Своей красой воспламеняя скалы,
И странно преломляла глубина
Плеяды звезд. Колдунья созерцала
Полет светил - на жестком ложе дна
С огромными открытыми глазами
И сжатыми недвижными руками.
35. 29
Но вихрь кипел, снижались облака,
И чаровница из своих ущелий
Вдаль ускользала, девственно-легка,
Там в отсветах раскрытых асфоделей
Поверхность пламенного родника,
Укрытая ветвями древних елей,
Переливалась пурпурным огнем -
Им до краев был полон водоем.
36. 30
Зимою вьюга игры заводила,
Подернув рябью пламенную гладь,
Бесчисленные луны и светила
На глади заставляя танцевать.
Змея, заслышав вьюгу, прочь скользила,
И девушка любила наблюдать
Сквозь слой огня, как белый снег летает
И, чуть коснувшись глади, тут же тает.
37. 31
Она владела дивною ладьей -
Той, что Вулкан построил в дар Венере
В обличье колесницы золотой;
Но в звездном мире, в раскаленной сфере,
Не место было колеснице той,
И Феб ее купил для нашей пери, -
Теперь она по глади мертвых вод
В ладью преображенная плывет.
38. 32
А то еще иное говорили,
Что в незапамятные времена
Амур-младенец, чуть расправя крылья.
Похитил у кого-то семена,
И на звезде Венере в черном иле
Он семя высадил; прошла весна;
Он омывал крылом, поил росою
И наблюдал за порослью младою.
39. 33
А летом удивительный цветок
Опал, и странный плод продолговатый,
Впитав росу и вод подземных ток,
Стал покрываться росписью богатой
И веером прожилок. Сладкий ток
Был как у спелой тыквы. И тогда-то
Ребенок сделал из плода ладью
И бросил в океанскую струю.
40. 34
Когда ладья досталась чаровнице,
Та разожгла в ней некий дух живой,
В любую скорость властный обратиться
Иль сделаться как леопард ручной,
Тот, что на лапы Эвана садится,
Иль стать поэмой, что Гомер слепой
Оставил смертным. И ладья стояла
В счастливом ожиданье у причала.
41. 35
А фея, взяв любовный эликсир,
Смешала два враждебные начала -
Огонь и воду, между ними мир
Установив, слила их, замешала, -
И выпорхнул из рук ее кумир
Прекраснейший живого идеала,
Который изваял Пигмалион,
К которому проникся страстью он.
42. 36
Творение без пола, не страдая
Пороками ни мужа, ни жены
И взор великолепьем поражая.
Тем было славно, что съединены
В нем прелесть женщины и мощь мужская,
А кто отобразил его, должны
Быть славны в жизни бренной и загробной
За воплощенье красоты подобной.
43. 37
И два крыла вздымались за спиной,
Способных возносить в седьмую сферу
И там терпеть невыносимый зной -
Так их закаливала атмосфера;
Кивнув на свой колодец огневой,
На нос ладьи, поставленной в пещеру.
Волшебница шепнула: "Здесь сиди!" -
И у руля уселась позади.
44. 38
Ладья скользила по волнам течений,
Где островки - убежища зверей -
Дарят покой и запахи растений,
Где кроется услада для людей
В томленье меланхолии. И тени
Высоких пирамид во тьме ночей
Им виделись - или глаза пантеры
Сверкали из разверзшейся пещеры.
45. 39
В лощине ветер выл, и лунный луч
Наклонным светом проступал сквозь хвои -
Совсем как солнце из вечерних туч
Иль пламя бледное и колдовское,
Что источает, нежен и пахуч,
Лилеи цвет. И вот лицо земное
Покрыла ночь, и лентой голубой
Чуть неба виделось над головой.
46. 40
Все время плавания без движенья,
Смеживши очи и сомкнув крыла,
В ладье лежало дивное творенье;
Мечты, которым не было числа,
Как мошкара, над ним вились, как тени,
Меняя выражение чела,
Впивая то слезу, то выдох сладкий,
Что дух могучий исторгал украдкой.
47. 41
А башенка ладьи скользила вниз,
Гонимая меж берегов наклонных,
И в заводях, где стебли трав сплелись,
Задерживалась, то на мелях сонных,
Где пенится вода, - и собрались
Песчинки, гальки на обшивках донных.
Что ж! Смертное творение земли
Быть скорым не умело на мели.
48. 42
По страшным водопадам, тем, чьи воды
Подобны снегу в воздухе златом,
Через ущелий мраморные своды,
Где волны спят, как в склепе, но потом
Взрывают грунт, дорвавшись до свободы,
Они прошли, и - мост вслед за мостом -
Вставала радуг солнечных аркада
Над темною дорогой водопада.
49. 43
И лабиринтами, где ветер выл,
Они пришли в пещеру у вершины.
"Гермафродит!" - колдуньи возглас был,
И вдруг какой-то серый цвет мышиный
Подернул щеки спутника - и сплыл,
Так тени трав от ветерка долины
Перечеркнут темнеющий поток
И пропадут, лишь схлынет ветерок.
50. 44
И он раскинул голубые крылья,
И звездами покрылась быстрина,
И во владеньях солнца в изобилье
Распространилась слава - так весна
Мир кроет слоем изумрудной пыли,
Так перистого снега пелена
Под зимнею? луной блестит в долине
И на сосне лежит морозный иней.
51. 45
И мчался в райском воздухе пинас,
Том воздухе, что был над чаровницей,
Все убыстряя скорость и кренясь,
Как та звезда, что в небе ночи мчится,
Или орел, за жертвою гонясь, -
То проплывал по небу колесницей,
То снова крылья в весла обращал
И к устьям бурных рек пути держал.
52. 46
Как метеор в полуденном просторе,
Летел пинас. Стояла тишина.
Но взвихрилась, как будто в бурном море
Потока неглубокого волна,
И волосы колдуньи, с ветром споря,
Лицо ей застили. Возмущена
Вторженьем беззаконного начала,
Топорщилась волна и бушевала.
53. 47
Когда на небесах был месяц нов
Иль время в час полуночи вступало,
Колдунья не могла надеть оков
На вольный дух и плавала, бывало,
Под светом звезд. И, не боясь штормов,
Парил Гермафродит над пеной вала.
Пинас, ускорив взмахи весел-крыл,
В Австралию, в Тамандокану, плыл.
54. 48
Как будто луг, не тронутый косцами,
Ни ветром не помятый, ни дождем,
Разустланный прекрасными цветами,
Вдали виднелся чистый водоем..
Здесь форт, непобедимый облаками,
Хотела дева выстроить, чтоб гром
Гремел из башен неба в отдаленье
И не затрагивал ее владенье.
55. 49
Неверным светом дальние миры
Гладь фиолетовую окаймляли,
Вокруг густели плотные пары,
Все озеро утесы окружали,
Да кое-где ущелья в глубь горы
Извилистыми лентами бежали.
И чудный берег кружево являл
Из фьордов, бухточек, заливов, скал.
56. 50
Там бухту пришлецы облюбовали;
Тем часом, как повсюду ветер выл,
Как раненая тварь, и привставали
Большие волны, и о воду бил
Крылом баклан испуганный, и дали,
Окрашенные бурей в цвет чернил,
Метали копья молний - бухта эта
Казалась камнем голубого цвета.
57. 51
И там она гонялась за звездой,
Как на Гидаспе юная тигрица
За резвой антилопой молодой;
Ей было любо буйствовать, резвиться
И танцевать, покуда над водой
Луны не поднималась колесница -
Как странница, путем утомлена,
С востока шла белесая луна.
58. 52
И служащих ей духов легионы
Из белых облаков и золотых
Она звала - и мчались миллионы.
Над ними, отмечая доблесть их,
Кометы, обращенные в знамена,
Играли гордо; цепь шатров больших
Они на гладком море разбивали -
Из тканей атмосферы их сшивали.
59. 53
Для феи же поставлен был шатер,
Из белой пелены туманов тканный.
Как дивный храм, он украшал простор,
Огнями вышних молний осиянный,
Там из слоновой кости был узор,
И сквозь него пылал закат багряный,
А в лунном свете плавало шитье,
Как руна редкостные, - труд ее.
60. 54
На звездном троне фея восседала,
Залитом с гор скатившейся росой, -
На нем она министров принимала,
Ей доносили новости порой,
И обо всем колдунья узнавала,
Что делалось меж небом и землей.
Она встречала новости, то млея,
То плача, то от хохота хмелея.
61. 55
Она любила быстро вверх взбежать
По лестнице их облаков плывущих
И на высоком самом танцевать,
Потом, как Арион в волнах ревущих
Оседлывал дельфина, оседлать
То облако, и змейки молний жгучих
Ловить, и ветер чувствовать в груди,
И шорох метеоров позади.
62. 56
А то, достигнув высшего предела,
Тех воздухов, что вертят шар земной,
Колдунья в хоре горних духов пела -
И тихо было небо над землей
В часы такие: музыка владела
Душой людей, и слышен был порой
Надежды голос в глубине сердечной -
Прекрасной гостьи и недолговечной.
63. 57
Но странствовать в безмолвии ночном
Над Эфиопией, над руслом Нила,
Где волны дивным кажутся руном,
И над Египтом, где царей могилы
И храмы спят ненарушимым сном,
Волшебница особенно любила;
Ей был любезен градов гордый вид
И темные громады пирамид.
64. 58
У озера Мерида, где цветами
Все устлано, как новобрачной дом,
И где нагие мальчики уздами
Смиряют змей озерных, а потом
Спешат к пирам Озириса толпами
На дивных аллигаторах верхом
И дремлют за латунными столами,
Усталые, в обнимку со зверями;
65. 59
И там, где зеркало большой реки
Хранит массивных храмов отраженья,
Которым облака и ветерки
Готовят каждый миг уничтоженье,
Где дремлют белых лотосов цветки
И где невероятные строенья
Возносят шпили к темным небесам, -
Там странствовала дева по ночам.
66. 60
Как ласкового ветра дуновенья,
Казалась поступь странницы легка,
И прилетали сладкие виденья
За нею, как на крыльях ветерка.
И часто в сокровенные владенья,
Которые ветвились, как река,
На много русл, колдунья нисходила -
Есть царство сонных под теченьем Нила.
67. 61
Она бросала восхищенный взгляд
На толпы смертных, спавших непробудно:
Вот сестры-близнецы, обнявшись, спят;
Вот юноша - кричит, вздыхает трудно
В мятежном сне; а в стороне сидят
Любовники, и волосы их чудно
Сплелись, как стебли лоз; и старики
Застыли, сжав ладони в кулаки.
68. 62
А также то, чего и в песнопенье
Не выразить, увидела она -
Порывистые резкие движенья,
Улыбка ужасом искажена,
И на челе любого поколенья
Законов беззаконных письмена.
"И здесь борьба, как всюду, взволновала
Поверхность жизни", - дева прошептала.
69. 63
Но не было смятенья видно в ней.
Мы, неуверенные мореходы
Безбрежных и бушующих морей, -
Мы путь беззвездный сквозь ночные воды
Ведем без кормчего и без снастей.
Она ж на дне морском, дитя свободы,
Между жилищ бессмертных путь вела,
Над ней шумели волны без числа.
70. 64
Там принцы возлежали под волнами
В веселом свете солнцеликих гемм;
Священник старый, что служил во храме,
Лежал в опочивальне, глух и нем,
И бесподобно схожие, рядами
Жрецы дремали (различить совсем
Их невозможно); дале - мореходы
И все, чьи трупы поглотили воды.
71. 65
Но формы их и позы для нее
Не больше значили, чем в маскараде
Блестящее и яркое тряпье...
Лишь странную иронию во взгляде:
"Зачем же прятать существо мое?" -
Скрывали маски. Словно на параде,
Во всей их восхитительной красе
Они прошли перед колдуньей все.
72. 66
Она живые души созерцала,
А не окаменелые тела.
Душа пред нею голой представала
Во всей красе... Порой она могла
Найти черты живого идеала
Под грубой оболочкой. И была
Ей тайна ведома, как поселиться
В чужой душе и с ней соединиться.
73. 67
И знала заклинание она...
Аврора в горький час, когда Тифона
Нежданная коснулась седина,
Венера, чтоб отнять у Персефоны
Адониса (Аидова жена
Делилась с ней добычею законной) -
Всем заплатили бы за слово то,
Но в Аттике не знал его никто.
74. 68
Земной любви мучительная рана
Потом и ей нанесена была...
Но - до Эндимиона - и Диана
Бесстрастнее казаться не могла,
Чем наша дева: холодно и странно
Она склонялась к сонным, как пчела
Целует все цветы, не зная страсти, -
Любовь над нею не имела власти.
75. 69
Людей, чей облик совершенен был,
Она чудесным снадобьем поила:
Оно давало им избыток сил,
Как будто чья-то воля их водила
Могучая; когда же час их бил
И забирала умерших могила,
Входила их душа в зеленый дом,
И горы самоцветов были в нем.
76. 70
В ту ночь, когда свершалось погребенье,
Она бальзам кропила на тела,
Предотвращая этим разрушенье,
И, в душном мраке мертвого угла
Зежегши свет, в единое мгновенье
Срывала с трупов саваны и жгла,
Потом бросала в яму гроб с презреньем,
Оставя тело под своим призреньем.
77. 71
Они лежали так за веком век,
Храня дыханье, горячи, нетленны,
С улыбкой тонкой в нежных складках век -
Так в хижине отшельник спит смиренно, -
Видения волшебных, сладких нег
Являлись им: прекрасны, вдохновенны,
В нарядах вечно новых, мимо шли
Все поколенья жителей земли.
78. 72
На менее прекрасны насылала
Колдунья очистительные сны;
Чьи примитивны были идеалы,
Оказывались вдруг пробуждены
В обличье змей в пустыне среди шквала
Песчаного; обносков и мошны
Скупые удостоены бывали,
А лживые обман свой выдавали.
79. 73
Священники, на греческий язык
Древнейший текст переведя, писали,
Что Апис был не более как бык,
И, к двери храма прикрепив скрижали,
Непререкаемую мудрость книг
Без раболепства, смело толковали, -
И шли трактаты по державе всей
Про ястребов, про кошек, про гусей.
80. 74
Король мартышке надевал корону
И на высокий трон ее сажал,
А яркий пересмешник возле трона
Реченьям обезьяны подражал, -
Теперь она была здесь царь законный,
Что весь народ открыто признавал,
Весь божий день, с восхода до заката,
К деснице припадая волосатой.
81. 75
И кузнецами видели в ночи
Себя солдаты: как сновидцы странны,
Сходились к наковальне ковачи -
Так шли циклопов полчища к Вулкану -
На плуги перековывать мечи;
Начальники темниц, услав охрану,
Прощали узников, чем оскорблен,
Конечно, был Амасис-фараон.
82. 76
А юношам и девам, столь пугливым,
Что вряд ли знали, любят ли они,
Вдруг мир являлся сказочно красивым:
Мечты сбылись... Но проходили дни -
И, грешникам подобны боязливым,
Они скрывались, прятались в тени,
Чтобы не знать друг друга. Так и было,
Покуда девять лун не заходило.
83. 77
И все ж дурного не было у них:
Волшебница умело отметала
Десятки изощреннейших интриг
И лишь простое счастье оставляла.
Она умела помирить двоих,
Меж кем вражда десятки лет стояла,
И, вызвав в них смиренье и любовь,
Поссорившихся съединяла вновь.
84. 78
И вот еще волшебницы проказы:
Она внушала духам и богам...
Но мы отложим до другого раза
Об этом повесть - зимним вечерам
Скорей под стать подобные рассказы,
Чем этим лучезарным летним дням,
Когда от нас все темное далеко
И веришь только в то, что видит око.
85. КОММЕНТАРИИ
Поэма написана в 1820 году.
Шелли сам не раз признавался, что считает эту поэму любимым своим
творением. Задуманная во время одинокого восхождения на гору, она была
написана всего за три дня.
Прекрасная и счастливая фея-колдунья, шутя повелевающая громами и
молниями, а также дикими зверями, которых легко учит кротости, - возможно,
символ поэтической души Шелли.
Уильям Вордсворт (1770-1850) - поэт эпохи романтизма, слава которого с
годами и десятилетиями не только не тускнеет, но возрастает многократно. Его
и Колриджа книга "Баллады" (1798) положила начало эпохе романтизма в Англии,
основные эстетические положения которого он же и обосновал в статьях,
предварявших первое и второе издания "Баллад". Отошедший от революционной
тематики Вордсворт вызывал постоянные нарекания своих младших современников.
Поэма "Питер Белл" стала объектом многих пародий из-за своего утомительного
(почему бы и нет?) многословия. (См. прим. к стих. "Вордсворт".)
...атласских пещер... - Речь идет об Атласских горах в Африке.
Атлантида - дочь титана Атласа (греч. миф.).
Силен - воспитатель Диониса (Вакха), бога вина и веселья. Древние
представляли его в виде вечно пьяного и веселого лысого старика, толстого,
как винный мех, с которым он никогда не расстанется (греч. миф.).
Дриопа - нимфа, соблазненная Аполлоном и родившая ему сына (греч.
миф.).
Фавн - римский бог лесов и полей, покровитель стад и пастухов.
Пан - бог лесов и рощ, родившийся кривоносым, волосатым, рогатым, с
козлиными копытами, бородой и хвостом (греч. миф.).
Приап - сын Диониса и Афродиты, бог сладострастия и чувственных
наслаждений (греч. миф.).
Гелиос - бог солнца (греч. миф.).
Гамадриады - подруги нимфы Дриопы (греч. миф.).
Ореады - нимфы гор (греч. миф.).
Тифон - молодой пастух, которого любила Аврора. Юпитер, даровав ему
бессмертие, забыл даровать вечную молодость, и Тифон состарился и был
обращен в цикаду (рим. миф.).
Л. Володарская
Перси Биши Шелли. Эпипсихидион
1. ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
Автор нижеследующих строк умер во Флоренции, готовясь отправиться в
путешествие на один из самых диких островов Спорадского архипелага, который
он купил, где оборудовал руины старого здания, намереваясь осуществить план
жизни, приспособленный скорее для того лучшего и счастливейшего мира, где он
теперь обитает, но едва ли пригодный в здешней юдоли. Его жизнь была
необычна не столько благодаря романтическим превратностям, разнообразившим
ее, сколько благодаря оттенку идеального, проистекавшему от его собственного
характера и чувствований. Настоящая поэма, как Vita Nuova Данте, достаточно
вразумительна для читателей определенного рода и без фактической истории
обстоятельств, относящихся к ней, а для читателей другого рода она навеки
останется непостижимой за неимением соответствующего органа для восприятия
идей, трактуемых в ней. Так пусть же "великого позора сподобится тот, кто
прячется в облачении риторических фигур и красок, а, спрошенный, не способен
сбросить со своих слов такое одеяние ради истинного понимания".
Настоящая поэма, кажется, была задумана автором как посвящение к поэме
более длинной. Строфа на противоположной странице - почти дословный перевод
из знаменитой Дантовой канцоны:
Voi, ch'intendendo, il terzo ciel movete etc.
Дерзость заключительных строк, предпосланных его собственному
сочинению, вызовет улыбку по поводу моего несчастного друга, но пусть это
будет улыбка жалости, а не презрения:
О песнь моя, боюсь, что мало тех,
Кто воспринять бы мог твой тонкий дух,
Поскольку твой непроницаем строй,
И, если снизойдешь до тех, кто глух,
Ничтожеству вверяя, как на грех,
Непостижимый смысл и образ твой,
Утешься ты последнею игрой
Моей отрады, ввергнутой во тьму,
Где ты прекрасна вопреки всему.
Эпипсихидион
Сладчайший дух! Сестрица сироты,
Чье царство - имя, над которым ты
Рыдаешь в храме сердца моего,
Прими венок мой блеклый, божество!
Поешь ты, птица бедная, в плену,
И музыка, наполнив тишину,
Смягчить могла бы сторожа без слов,
Однако глух жестокий птицелов;
Пусть будет песня розою твоей;
Она мертва, мой бедный соловей,
Увядшая, однако, благовонна,
И твоего она не ранит лона.
Как бьешься ты о прутья клетки, сердце!
Летучее, мечтаешь ты о дверце,
А перья-мысли, яркие крыла,
Которыми ты мрак превозмогла,
Поломаны, и льется в неродном
Гнезде твоя небесная в земном
Кровь; был бы кровь пролить и я не прочь,
Когда бы кровь могла тебе помочь.
Ты серафим, чье женское обличье
Таит невыносимое величье,
Которому земных подобий нет;
Ты вся любовь, бессмертие и свет!
Благословенье нежное в аду!
Покров, таящий в сумраке звезду!
Над облаками взмывшая Луна!
Жизнь в бездне беспросветнейшего сна!
Ты Красота, Восторг и Ужас Вечный!
Ты Зеркало Вселенной Бесконечной,
Где, как в лучах космической весны,
Тобою формы преображены!
И молниями тусклые слова
Сверкают, потому что ты жива;
Молю тебя, смой с грустной песни тлен,
Которым нас пятнает бренный плен;
Заплачь святыми каплями росы,
Лучащимися в сумерках красы,
Покуда скорбь не перейдет в экстаз,
Дабы, сияя, светоч не угас.
Лишь после смерти я твои черты
Узреть мечтал, Эмилия, но ты
Вселенной, чьи покровы - имена,
От посрамленья не защищена.
О быть бы близнецами нам с тобою!
Сплотить бы, сестры, вас одной судьбою,
Чтоб звался тем же именем двойной
Луч, посланный мне вечностью одной!
Два имени, законное одно,
Правдивое другое, но дано
Тебе влюбленным властвовать, а власть
Сверх двух имен; ты целое, я часть.
Ты светоч! Муза-бабочка в огне
Твоем сожгла крыла и в вышине
Поет, как лебедь, веку преподав,
Кто ты такая. Кто же в мире прав
Без правоты твоей? Ты кто: родник,
В котором сокровенный луч возник
И музыкой блаженною вода
Целит разлад и сумрак? Ты звезда
Недвижная среди подвижных сфер?
Улыбка в хмуром сборище химер?
Мелодия средь грубых голосов?
Восторг, Уединенье, Свет и Кров,
Ты Лютня, на которой лишь Любовь
Играет, чтоб насупленная бровь
Разгладилась? Ты драгоценность клада?
Ты Колыбель, где греза и отрада?
Фиалковый гроб скорби - в сердце сада
Духовного тебе подобных нет;
Мне видится там только мой же бред.
Я встретился в дороге скорбной с ней,
Возжаждав смерти; как среди теней
Мрак движим светом, а надеждой грусть,
Я движим ею к новой жизни; пусть
Над бездной антилопа невесома,
Она еще воздушней; незнакома
Ей тяжесть, и трепещет божество
В небесных членах тела своего,
Как сквозь росу в июньских небесах
Безветренных сияет на часах
Луна; как с гиацинта, каплет с губ
Росой медовой лепет; слишком груб
Ум, над которым торжествует страсть,
Чтоб музыкой космическою всласть
Упиться духи звездные могли,
Танцуя с нею в трансе вне земли,
Лучи ручьев эфирных, чей исток -
Душа, где пляшут молнии; глубок
Он слишком и для мыслей и для глаз,
Но нимб ее сверхсущий не угас,
Холодную пятная белизну
Своею теплой тенью, чью весну
Творит любовь сиянием того,
Чем были порознь суть и существо,
Которым обрисованы ланиты
И гнезда для перстов летучих свиты,
Где непрерывно кровь течет и где
Трепещет (как руно в седой воде,
В белесой мгле пурпурный пульс рассвета)
Сия неиссякаемая Лета,
Стяженною кончаясь красотой,
Которою пронизан мир святой,
А красота чуть видима извне;
Благоуханье теплое ко мне
Нисходит, и, когда в голубизне
Ей расплетает волосы полет,
Бессмертных ветер сладостный влечет,
И чувствуется дикий аромат
В моей душе, как будто бы томят
Бутон замерзший огненной росой, -
Смотрите, вот она, со всей красой,
Которой смертный образ наделен,
Божественным сияньем обновлен
И потому бессмертный вне времен;
Тень золотой мечты, недостижимый,
Маяк для третьей сферы, недвижимый,
Двойник зеркальный любящей луны,
Которой волны жизни пленены;
Метафора весеннего рассвета,
Плоть облака апрельского, примета,
Сулящая с улыбкой не без слез:
Сойдет в могилу летнюю мороз.
Но горе мне! Как я посмел? Куда
Вознесся? Как вернусь? Моя звезда
Равна другим в любви, но у меня
В груди живет свидетельство огня:
Червь земляной порою восхищен,
Как будто бы он к Богу приобщен.
Сестра! Супруга! Ангел! Кормчий мой!
В беззвездном мире мне дана судьбой
Была ты слишком поздно! Мне твою
Божественность увидеть бы в краю
Бессмертных, где в согласии живом
Лишь божество едино с божеством;
Или твоею тенью быть с тех пор,
Как родилась ты; мне велит мой взор
Тебя любить, но у меня печать
На сердце, чтобы слез не источать
И сохранить источник чистоты,
Которой наслаждаешься лишь ты.
Мы - разве нам с тобою не дано
Быть нотами двумя, но заодно,
Различием своим озвучить глушь,
Чтобы затрепетали сонмы душ
В созвучии, как листья на ветру.
Я внял тебе, и факел я беру,
Чтобы предотвращать у мрачных скал
Крушение сердец, которым шквал
Грозит; я к секте той не примыкал,
Чья заповедь - с одним или с одной
Делить под рабским игом путь земной,
Как будто мудрость или красота
Всех остальных - забвенная тщета,
И учит современная мораль
Терпеть неизлечимую печаль,
Пока в цепях с тобой за шагом шаг
Плетется друг или ревнивый враг,
А скучный длинный путь ведет во мрак.
Любовь - не слиток золота. Она
Не убывает, хоть разделена.
Любовь - как мысль, которая растет
Во многих истинах; любовь - полет
Воображенья в глубине души,
Так что земля и небо хороши,
Когда из призм чеканных и зеркал
Лес молний отраженных засверкал,
Чтобы казнить солнцеподобным стрелам
Червя-ошибку; грех одним пределом
И сердце ограничивать, и мозг,
И жизнь свою, когда для духа воск -
Все сущее, и что-нибудь одно -
Лишь склеп, где творчество погребено.
Совпасть не могут в этом дух и прах,
Добро и зло, спасение и крах,
Величие и подлость - вот черта,
Где несовместны тлен и чистота.
Спасителен чарующий секрет:
Скорбь разделив, сведешь ее на нет,
Разделим счастье, и наверняка
Часть будет больше целого; пока
Боль и блаженство не разделены,
Не в силах мы постичь, как мы бедны;
Отсюда мудрый черпал испокон
Веков свет упования, закон,
Который нам наследовать велит
Запущенный сад мира, хоть сулит
Он в будущем рожденье только тем,
Кто девственный возделывал Эдем.
Среди видений было существо,
Которое для духа моего
Сияло на заре весенних дней
На дивных островах среди теней,
Среди волшебных гор, в пещерах сна,
Где воздухоподобная волна
Трепещет вровень с грезами чуть свет;
Где вымостил ее летучий след
Под сенью мыса берег обаянья,
Там виделась мне ткань ее сиянья,
А не она, но в шепоте лесов
Я временами слышал некий зов;
И ручеек, и аромат цветка,
Чьи лепестки дрожат еще слегка,
Как будто бы целуются во сне,
Влюбленные; о ней дышали мне
И ветерок, не громок и не тих,
И дождик, верный спутник туч своих,
И хоры птиц, и летняя листва,
И звуки, и молчанье, и слова
Баллад, романов, песен, - каждый лик,
Звук, запах, цвет, спасающие миг
От бури, рвущей нити прежних уз,
И тайны любомудрия, чей вкус
В том, чтоб воспламенился здешний ад
И в мученичестве растаял хлад.
В ней горняя гармония всех сфер.
Я в юности взлетел из грез-пещер,
Обут огнем крылатым, и к звезде
Моей мечты, сиявшей мне везде,
Вспорхнул, как лист или как мотылек,
Которого в совиной тьме завлек
Лучистый гроб, как будто бы земной
Светильник, а не Геспер предо мной
Сверкает, смертным явленный глазам, -
К молитвам равнодушна и к слезам,
Богиня пронеслась, чей трон - комета,
Иных миров сладчайшая примета,
В дурную нашу тень вовлечена,
И словно тот, чья жизнь омрачена
Утратою, я бросился за ней,
Хотя могила, полная теней,
Разверзлась, и сказал мне голос властный:
"Желанный призрак при тебе, несчастный!"
"Где?" - крикнул я. - "Где?!" - эхо мне в ответ.
В моей тоске, в молчании планет
Я даже ветер спрашивал немой,
Летавший над моею скорбной тьмой;
Как мне с душой моей души совпасть;
Моим словам приписывая власть,
Я тщетно заклинал безгласый рок;
Ни жалобный мой вопль, ни стих не мог
Во мраке, что по-прежнему глубок,
Врожденный хаос мой пересоздать,
Где божество мое, где благодать -
Она одна в благоговенье дум,
И где я шел с надеждой наобум,
Грозящей смертью страсть насторожив,
Одним лишь только ожиданьем жив,
Хоть наша жизнь - дремучий зимний лес,
А верный проводник давно исчез;
Я, спотыкаясь, падал, но алкал
Лишь встречи с ней, без устали искал
Средь неуклюжей нежити лесной
Какого-нибудь сходства с ней одной,
Чтоб распознать ее среди личин,
И голос мне послышался один,
Мелодией отравленной дразня,
А в мрачно-синей куще западня,
Как бы родник, а лживый рот - цветок,
Но прямо мне в нутро ударил ток
Ее лукавых взоров, и магнит
Ее цветущих, сладостных ланит
Убийствен был, и пала мне краса
На сердце, как медвяная роса,
Чтобы мою зеленую весну
До срока перекрасить в седину.
Исследуя земное естество,
Искал я тень кумира моего,
Но красотой маскировался тлен,
А в мудрости таился яд измен;
Верна была лишь верность. Ах! Зачем
Не мне? В дремучих дебрях был я нем,
Как раненый затравленный олень
Бежать не в силах, и холодный день
Усилиям бессильным сострадал.
Я в сумерках, однако, угадал
Спасение. Увидел я черты
Моей живой блистательной мечты,
Которая менялась, как луна,
Что солнцу уподобиться должна,
Блюдя небесный свой архипелаг,
Где, стоит ей подать улыбкой знак,
Все хорошеет перед ней одной,
Сияющей, но вечно ледяной
Душою сферы, где она взошла,
Храня меня; так, действенно светла,
Луна хранит от мрачной бездны ночь,
Чтоб темноту ночную превозмочь
В моей душе сиянием лучей;
Как облако летающее, чей
Возница - ветер, привела меня
В пещеру, где, свой пламенник склоня,
Безропотно мой освещала сон
Луною, словно я Эндимион,
И я во сне то вспыхивал, то гас,
Как будто бы луна в полночный час
То улыбнется в глубине морской,
То, бледная, нахмурится с тоской,
Холодную постель заворожив,
Где я лежал, не мертв, но и не жив:
И Жизнь, и Смерть, забыв привычный спор,
Ведущийся меж ними с давних пор,
Пришли, как близнецы, сестрица с братом,
Чья мать привыкла к тягостным утратам,
Без крыл кружась, кричали: "Что за блажь!
Прочь! Это же не твой, не мой! Не наш!"
И вновь я плачу, как тогда, во сне.
Как бурный сон грозил моей луне,
Чьи бледные ущербные уста
Снедала хворью тусклой темнота;
Как морем без огней была душа,
Где ураган свирепствовал, страша
Угрюмый час, когда погашен свет
Ее звезды, как будто больше нет
Спасения от стужи; как меня
Уже сковала льдистая броня
И треснула в напоре глубины
Под белою улыбкою луны,
Мне лучше скрыть, иначе бить ключу
Слез дружеских, а слез я не хочу.
И наконец виденье снизошло
В дремучий лес, где было тяжело
Мне в поисках, но вопреки шипам
И холоду заря сияла там,
Жизнь освещая в сумраке разлуки,
Где ветры, словно мертвые крыла,
А путь пред ней был вымощен, и кров
Был ей дарован трепетом цветов,
И музыка в дыхании была,
Как ясный свет, и остальные звуки
Пронизывал чуть слышный, нежный звук,
И ветры не решались дуть вокруг;
Власы благоуханною волной
Растапливали воздух ледяной,
И лучезарным солнцем во плоти
В пещеру соизволила войти
Сияющая, чтоб мой дух позвать
И грезящий мой прах очаровать,
Чтобы взлетел он дымом от огня,
И я в моей почувствовал ночи
Живительные, жаркие лучи;
Так через много лет в ночи земной
Эмилия возникла предо мной,
Покорная земля подчинена
Двум сферам света; движима весна
И осень магнетизмом бытия,
Как цвет и плод, как мир любви и я;
Две сферы света движут облака
И волны моря вдаль издалека,
Реке проворной указуя цель,
Где кажется могилой колыбель,
Заманивая дождь в цветной намет,
Где радужный кончается полет,
Пока на небесах еще блюдет
Чета светил земной летучий шар,
Явь чередуя с хмелем сонных чар,
И равные в различии своем
Влекутся к цели сладостной вдвоем;
Так над моею сферою царят
Два божества, черед которых свят!
Ты, для кого заемной мощи нет
И очевиден даже дальний свет,
Пока весна и осень будут зреть,
Чтобы воскреснуть, а не умереть,
Чтобы в могиле зимней прорасти
И в новой жизни ярче расцвести,
И ты, комета, чей опасный путь
Смог даже сердце мира притянуть,
Чтобы с твоим, заблудшее, сомкнулось,
Однако, раздвоившись, оттолкнулось
И потеряло свой ориентир,
Вернись ко мне в лазурный этот мир!
Стань путеводною звездой любви,
От Солнца пламень свой возобнови,
И скрыла бы луна свой бледный рог
В твоих улыбках; Запад и Восток
Тебе бы воскуряли фимиам
Дыханья своего, как будто храм -
Весь этот мир, и многие дары
Сложили бы две дикие сестры,
Надежда и Тревога, на алтарь
Рождения и смерти, как и встарь,
И ты не презирай моих цветов
Осмысленных, Владычица; готов
Я ждать, пока нальются, как в раю,
Плоды, весну признавшие твою.
Настал наш день, и мы с тобой бежим.
Пока я смертным гнетом одержим,
Молю тебя, сестрой-весталкой будь
Мне не моей, храня святую суть
Глубинную, которой нет границы
В служении невесты-чаровницы;
Настал наш час, взойдет звезда все та же,
Но будет некого держать под стражей
Среди враждебных неприступных стен
В тюрьме, куда любовь попала в плен,
Что невозможно: стоит ей вспорхнуть,
И перед ней молниеносный путь
В невидимом, и как небесный дух,
Нет, словно смерть, виновница разрух,
Которая не ведает преград,
Перед которой не закроешь врат.
Однако же любовь сильней стократ
И торжествует, плотский склеп круша,
Где хаосом измучена душа;
Эмилия! Ты видишь: хороша
Дорога наша в бурю, как и в штиль;
Ее голубизны не взрезал киль
Пока еще, но крепнут паруса,
Попутным ветром дышат небеса,
И зыбь морская девственно светла
У островов, где чайкам нет числа;
Свободны и отважны моряки.
Ты хочешь в море бурям вопреки?
У нас ладья - крылатый альбатрос,
Гнездящийся в раю пурпурных гроз;
И между крыл его мы поплывем;
Нас в море ночь настигнет вслед за днем,
Смениться штилем буря может вдруг,
Все это сонмы наших быстрых слуг.
Под небом ионийским остров есть -
Обломок рая, веянье и весть
О нем, но так опасна гавань там,
Что пребывать бы этим берегам
Пустынными, когда бы не народ
Пастушеский, чей истинный оплот -
Элизиум, где с гордой простотой
Век может продолжаться золотой;
Лазурная эгейская волна
Там всюду, белопенная, слышна,
Целует и песок, и седину
Пещер, и, соблюдая тишину,
Прибою вторит ветер на часах;
Рогатых фавнов множество в лесах;
Где речка, где ручей, где тихий пруд,
Чистейший, как природный изумруд
Или как воздух утра; там и тут
Оленьи тропы, на которых глух
Шаг (раз в году проходит здесь пастух),
Приводят на прогалины, где плющ
Навис в тени благоуханных кущ,
Где светится, сверкая, водопад,
Днем соловьям поющим вторить рад;
Со всех сторон сладчайшие лады,
Как будто в ясном воздухе сады
Лимонным цветом пахнут, и незрим
Благоуханный дождь, но только с ним
На веках сон - клубящийся покров;
Нарциссы и фиалки среди мхов
Стреляют в мозг, и кто бы не сомлел
От этих метких ароматных стрел?
Все проблески, все запахи, все сны
В гармонию Вселенной включены,
Душа души, сопутствующей снам,
Что до рожденья вечно снились нам.
Среди других прельстительных земель
Сей благодатный остров - колыбель
Всех четырех стихий, как Люцифер -
Эдемского сияния пример;
Война, землетрясение, чума -
Стервятники слепые; только тьма
Прельщает их, и здешних ясных гор
Их крылья не касались; до сих пор;
Со всей своей стихийною борьбой
Стихают бури в бездне голубой
Над островом, и светлая роса
Их слез питает нивы и леса
В бессмертии зелено-золотом.
Встают над морем синим, а потом
С небес на землю сеются пары,
Чтобы совлечь покровы до поры
С нее дерзнул блуждающий эфир,
Тем самым завершая брачный пир,
Когда, собою заворожена,
Невеста юная обнажена;
На острове прекрасном зажжена
Душа-лампада атомом огня
Неугасимого; улыбка дня
Предвечного таится, не видна
В лесах и там, где синяя волна,
И в скалах многочисленных окрест,
Но истинное чудо этих мест -
Один очаровательный чертог;
Никто назвать мне зодчего не мог;
Неукрепленный высится дворец
Над лесом; видно, некий царь-мудрец,
Властитель океана, прежде тех
Времен, когда пришел на землю грех,
Воздвиг обитель сладостных утех,
Святилище таинственной игры
Для дорогой супруги и сестры.
Руина, но руина не людских
Трудов, а титанических; для них
Являли только недра образец;
Подземный камень ожил, наконец,
И сводами пророс, хотя судьба
Решила так, что древняя резьба
Должна была стереться, но взамен
Плющ с диким виноградом этих стен
Не обошли, в тени перевиты,
И светятся росистые цветы,
Паразитируя на лоне тьмы,
И блекнут, образуя ткань зимы,
И вышивкой займутся небеса,
И лунная проляжет полоса
Вся в блестках звезд; напомнить ей не лень
Мозаикой паросской ясный день,
Когда с высоких башен океан
Виднеется, как ночью; стройный стан
Земли в его объятьях; день за днем
Их грезы мы реальностью зовем.
Тот остров и чертог мои навек;
Их госпожою я тебя нарек.
Я приготовил для тебя, как мог,
Ряд комнат, выходящих на восток,
И ветер вровень с ними в вышине
Подобен голубой морской волне.
Читать и музицировать мы там
С тобою будем, и предстанет нам
Грядущее, покинув колыбель,
И прошлое загробную постель
Свою покинет, ибо в свой черед
Все сущее заснет, а не умрет.
Там будет счастью нашему чужда
Завистливая роскошь, чья вражда
Смущает красоту, когда сама
Природа - гений нашего холма;
В густом плюще любовный слышен зов
Скорбящей горлицы, и крылья сов
Вкруг башен чертят воздух тем быстрей,
Чем звезднее полет нетопырей.
Олени будут спать у наших врат
В сиянье лунном, чтобы аромат
Их вздохов мерил время до утра.
Там жить мы будем, а когда пора
Придет часам поблекнуть, как листве,
Давай сольем навеки наши две
Души в одну и райский остров тот
Одушевим сияньем, но восход
На острове еще не раз мы встретим
Под ионийским синим небом этим;
Мы посетим долины и леса,
Высь мшистую, где жаждут небеса
Свою лазурь с лазурью слить морской,
И берег, обрисованный тоской
Влюбленных волн, целующих песок,
Чтобы сверкать камням у наших ног
Чертою чар, где не заворожить
Нельзя друг друга, где любить и жить -
Одно, и мы найдем в пещере путь,
Куда боится солнце заглянуть,
Не смея света лунного спугнуть,
И где таится в сумраке мечта
И где уединение - фата
Под кровом, где отважилась бы ночь
Твои зеницы дремой превозмочь,
И влага сна, которой не до свеч,
Погасит поцелуи, чтоб разжечь.
Мы будет говорить, пока слова
Не умертвят мелодий, но жива
Мелодия во взорах, так что взор
В безгласном сердце пробуждает хор
Безмолвия, смешав со вздохом вздох,
Так что тела сплетаются врасплох,
И пульс у нас один, когда уста
Без речи затмевают неспроста
Пылающую душу, и родник,
Который в нашем существе возник,
Кипучий ток, в котором бьется страсть,
Не может с чистотою не совпасть,
Как солнце в сердце горного ключа.
Друг другу в унисон уже звуча,
Единый дух мы в двух телах - зачем
В двух? - образуем. Неужели нем
Пыл в близнецах-сердцах, когда сведет
Два метеора сих один полет,
Когда различье преображено
И, значит, обе сферы заодно,
И в единенье бывшая чета
Питается друг другом и сыта,
Поскольку отвергает низший корм
Жизнь высшая в чередованье форм;
Две воли, век один, одна весна,
Два разума, но жизнь и смерть одна,
Едино небо, ад един в огне,
Единая погибель. Горе мне!
Мои слова крылаты, но они
Оковы, стоит мне в моей тени
Начать полет к высотам бытия,
Я никну, содрогаюсь, гасну я.
-----------------------------
Мои стихи, владычицу свою
Спросите: "Что нам делать? Повели!
Мы властелины твоего раба".
Окликните своих сестер вдали.
Пропев: "Страдалец любящий в раю,
И вас в раю вознаградит судьба,
На небесах, а не в земной пыли".
Останетесь вы здесь, я буду там.
Извольте возвестить в земном краю
Марине, Ванне и другим сердцам:
"Для вас любовь - неколебимый храм".
Пускай томится чернь в своих сетях,
Я гость Любви, вы у меня в гостях.
2. КОММЕНТАРИИ
Поэма написана в 1821 году.
Внешним толчком к написанию поэмы "Эпипсихидион" (то, что в душе), этой
"жертвы на алтарь Любви", послужило увлечение П. Б. Шелли юной красавицей,
графиней Эмилией Вивиани. Как писал один из английских исследователей жизни
и творчества П. Б. Шелли, "эта поэма является романом вне времени и
пространства - песнью стихийного духа, заключенного, как в тюрьме, в этой
хрупкой вселенной и известного среди людей под именем Шелли, - духа,
которого всякая смертная любовь должна была оставить неудовлетворенным". О
нежная душа, сестра другой... - Под "другой" (земной, чувственной) Шелли
имеет в виду свою жену Мэри.
...Но другая там ждала, // Отравной музыкой речей звала....- Отрава -
образ чувственной любви.
...Так некогда во сне был озарен // Ущербною Луной Эндимион... -
Здесь Шелли вспоминает греческий миф о юноше Эндимионе, которого влюбленная
богиня Луны навещала в пещере в течение тридцати лет. По одному из вариантов
этого мифа, Эндимион испросил себе у богов вечный сон, бессмертие и юность.
Марина - Мэри Шелли.
Ванна, Прим - по-видимому, друзья Шелли - Джейн и Эдвард Уильямсы.
Л. Володарская
Перси Биши Шелли. Защита поэзии
1. * ЧАСТЬ I *
Есть точка зрения на два вида умственной деятельности, называемые
рассуждением и воображением, согласно которой первое рассматривает отношение
одной мысли к другой, что бы их ни порождало; а второе освещает эти мысли
своим собственным светом и составляет из них, как из элементов, новые мысли,
из коих каждая является чем-то целостным. Одно это - , или синтез,
и имеет дело с предметами, общими для природы и жизни; другое - ,
или анализ, рассматривающий отношения вещей просто как отношения, а мысли -
не в их живой целостности, но в качестве алгебраических формул, из которых
можно вынести некий общий результат. Рассуждение - это перечисление уже
известных величин; воображение - это их оценка, по отдельности и в целом.
Рассуждение учитывает различия, а воображение - то, что есть у предметов
общего. Рассуждение относится к воображению как оружие к субъекту действия,
как тело к духу, как отражение к сущности.
Поэзию можно в общем определить как воплощение воображения; поэзия -
ровесница человеку. Человек - это инструмент, подверженный действию
различных внешних и внутренних сил, подобно тому как переменчивый ветер
играет на Эоловой арфе, извлекая из нее непрестанно меняющуюся мелодию.
Однако в человеке, а может быть, и во всех существах, способных чувствовать,
есть нечто отличное от арфы и рождающее не одну только мелодию, но и
гармонию, которая создается посредством внутреннего согласования вызываемых
звуков или движений с впечатлениями, которые их вызвали. Так было бы, если
бы арфа была способна соразмерять звучание своих струн с движениями того,
что по ним ударяет, как певец согласует свое пение со звуками арфы. Ребенок,
играющий в одиночестве, выражает свою радость голосом и движениями; и каждая
интонация, каждый жест находятся в прямом соответствии с теми приятными
впечатлениями, которые их вызвали, являются их отражениями. Как арфа еще
дрожит и звучит, когда ветер уже стих, так и дитя, продлевая отзвук своей
радости голосом и движениями, старается тем самым продлить и ощущение ее
причины. По отношению к предметам, восхитившим ребенка, эти выражения
радости являются тем же, чем является поэзия по отношению к предметам более
высоким.
Дикарь (ибо дикое состояние для человечества - то же, что детский
возраст для человека) подобным же образом выражает чувства, вызываемые у
него окружающим миром; его речь и жесты, а также скульптура или рисунки
отражают и самое воздействие на него этого мира, и осознание им этого. А в
цивилизованном обществе предметом радости и страсти для человека становится
сам общественный человек с его радостями и страстями; новая область чувств
обогащает и средства выражения; речь, жесты и изобразительные искусства
становятся одновременно и изображением, и его средством - кистью и картиной,
резцом и статуей, струною и гармоническим аккордом. Где существуют вместе
хотя бы два человеческих существа, там образуются общественные связи или те
законы, из которых, как из элементов, складывается общество. Будущее
заключено в настоящем, как растение - в семени; равенство, различие,
единство, противоположность и взаимозависимость становятся единственными
мотивами, побуждающими к действию волю человека как существа общественного;
именно им мы обязаны тем, что среди ощущений есть приятные, среди чувств -
добрые, в искусстве присутствует красота, в рассуждениях - истина, а в
человеческих отношениях - любовь. Вот почему даже там, где общество еще
находится в младенчестве, люди соблюдают в своей речи и действиях известный
порядок, иной, чем в предметах и впечатлениях, обозначением коих они служат,
ибо всякое выражение подчинено законам того, что дает ему начало. Но оставим
эти общие рассуждения, которые потребовали бы рассмотрения самых основ
общества, и ограничимся обзором того, как воображение осмысляет его формы.
На заре человеческой истории люди пляшут, поют и изображают предметы,
соблюдая в этих действиях, как и во всех других, известный ритм или порядок.
Хотя все люди соблюдают один и тот же порядок, он не тождествен для движений
танца, для мелодии песни, для сочетаний слов и для воспроизведения предметов
изобразительными искусствами. Ибо каждому из этих видов подражания жизни
присущ особый порядок или ритм, доставляющий слушателю и зрителю более
сильное и чистое удовольствие, чем любой иной; современные авторы называют
умение приблизиться к этому порядку - вкусом. В младенческом возрасте
искусства каждый соблюдает ритм, более или менее близкий к тому, который
доставляет наибольшее удовольствие; но различия выражены еще недостаточно
ясно, чтобы их осознавали, за исключением тех случаев, когда способность
приблизиться к прекрасному (ибо именно так мы позволим себе назвать
отношение наибольшего удовольствия к вызывающей его причине) - когда
способность приблизиться к прекрасному оказывается у кого-либо исключительно
велика. Те, кто наделен ею в избытке, и являются поэтами в наиболее общем
смысле слова; удовольствие, доставляемое их особым умением выражать
воздействие на их душу природы и общества, сообщается другим и от этого как
бы удваивается. Их язык состоит из живых метафор, т. е. отмечает
незамеченные прежде соотношения предметов и закрепляет эти наблюдения, так
что выражающие их слова становятся со временем обозначениями частей или
категорий понятия вместо того, чтобы быть образами цельных предметов; и если
бы не являлись новые поэты, которые заново создают разрушенные таким образом
ассоциации, язык оказался бы мертвым, непригодным для наиболее благородных
целей человеческого общения. Об этих подобиях или отношениях лорд Бэкон
отлично сказал, что это "те же отпечатки шагов природы, оставленные на
различных предметах" {De augment, scient., cap. I, lib. III. [Об умножении
наук] (лат.).}. Способность замечать их он считает источником истин, общих
для всякого знания. На заре человеческого общества каждый автор - поневоле
поэт, ибо язык сам по себе является поэзией; а быть поэтом - значит
воспринимать истинное и прекрасное, иными словами, то лучшее, что заключено,
во-первых, в отношении между существованием и восприятием, во-вторых, между
восприятием и выражением. Всякий самобытный язык, еще близкий к своему
источнику, представляет собой поэму, находящуюся в хаотическом беспорядке.
Обильные накопления лексики и правила грамматики есть дело позднейших
времен; это всего лишь каталогизация и оформление того, что создано поэзией.
Однако поэты, то есть те, кто создает и выражает этот нерушимый
порядок, являются не только творцами языка и музыки, танца и архитектуры,
скульптуры и живописи; они - создатели законов, основатели общества,
изобретатели ремесел и наставники, до некоторой степени сближающие с
прекрасным и истинным то частичное осознание невидимого мира, которое
называется религией. Все религии аллегоричны или тяготеют к аллегории и,
подобно Янусу, двулики; имеют ложную сторону и истинную. Поэты, в
зависимости от времени и страны, именовались некогда законодателями или
пророками; поэт по природе своей включает и соединяет в себе обе эти роли.
Ибо он не только ясно видит настоящее, как оно есть, и обнаруживает законы,
по которым оно должно управляться, но и прозревает в настоящем грядущее; его
мысли - это семена, в последующие эпохи становящиеся цветами и плодами. Я не
говорю, что поэты являются пророками в прямом смысле слова и могут
предсказывать формы будущего так же уверенно, как они предчувствуют его дух.
Только суеверие считает поэзию атрибутом пророчества, вместо того чтобы
считать пророчество атрибутом поэзии. Поэт причастен к вечному, бесконечному
и единому; для его замыслов не существует времени, места или
множественности. Грамматические формы, выражающие время, место и лицо, в
высокой поэзии могут быть безо всякого ущерба заменены другими; примерами
могли бы служить хоры из Эсхила, книга Иова и "Рай" Данте, если бы размеры
моего сочинения оставляли место для цитат. Творения скульпторов, живописцев
и композиторов являются еще более наглядными иллюстрациями.
Слова, краски, формы, религиозные и гражданские обряды - все они
являются средствами и материалом поэзии; их можно назвать поэзией с помощью
той фигуры речи, которая считает следствие синонимом причины. В более
ограниченном смысле слова, поэзия - это особым образом построенная, прежде
всего ритмическая, речь, порождаемая властной потребностью, которая Заложена
во внутренней природе человека. Она проистекает также и из самой природы
языка; он более непосредственно выражает наши внутренние движения и чувства,
способен к более разнообразным и тонким сочетаниям, чем краски, формы иди
движение, более гибок и лучше подчиняется той потребности, которая его
создала. Ибо язык возник по воле воображения и всецело относится к области
мысли, тогда как все другие материалы и средства искусства связаны друг с
другом, а это воздвигает преграды между замыслом и его выражением и
ограничивает его. Первый, т. е. язык, является зеркалом, которое отражает, а
другие - облаком, которое заслоняет тот свет, что все они призваны
распространять. Вот почему слава скульпторов, живописцев и музыкантов - даже
тогда, когда силою таланта великие мастера этих искусств ничуть не уступают
тем, кто для выражения своих мыслей избрал язык, - никогда не могла
сравниться со славою поэтов в собственном смысле слова; подобно тому как два
равно искусных исполнителя извлекают отнюдь не равноценные звучания из
гитары и из арфы. Одни лишь законодатели и основатели религий, покуда живут
их учения, по-видимому, снискивают более громкую славу, нежели поэты в узком
смысле слова; но если вычесть из их славы часть, достающуюся им за
потворство грубым вкусам толпы, а также то, что принадлежит им по высшему
праву, как поэтам, можно не сомневаться, что сверх этого ничего не
останется.
Таким образом, мы ограничили значение слова "поэзия" тем искусством,
которое является и наиболее привычным, и наиболее совершенным выражением
поэтического начала. Необходимо, однако, сузить его значение еще более, а
для этого определить разницу между речью ритмической и неритмической; ибо
принятое деление на прозу и стихи непригодно для серьезного рассмотрения
вопроса.
Подобно мыслям, звуки находятся в известных отношениях, как один к
другому, так и к тому, что они изображают, и восприятие иного порядка в этих
отношениях неизменно оказывается сопряжено с восприятием порядка в самих
выражаемых мыслях. Поэтому поэтическая речь всегда отличалась равномерным и
гармоническим чередованием звуков, без которого она не была бы поэзией и
которое почти столь же необходимо для ее восприятия, как и самые слова. Вот
почему переводить ее тщетно; пытаться перенести из одного языка в другой
творения поэтов - это все равно что бросать в тигель фиалки, чтобы найти
секрет их красок и аромата. Растение должно снова взрасти из семени, иначе
оно не зацветет - таково следствие вавилонского проклятия.
Наблюдения над правильным гармоническим чередованием звуков в языке
поэтов, а также связь его с музыкой привели к возникновению размеров, т. е.
некоей традиционной системы речевой гармонии. Однако для соблюдения
гармонии, являющейся душой поэзии, поэту вовсе не обязательно приспособлять
свой язык к этим традиционным формам. Они удобны и признаны, и их следует
предпочитать, особенно когда большую роль в произведении играют форма и
действие; но каждый великий поэт неизбежно вносит в свою версификацию нечто
новое по сравнению с предшественниками. Деление на поэтов и прозаиков
является грубым заблуждением. Деление на философов и поэтов чересчур
поспешно. Платон был, по существу, поэтом - правдивость и великолепие его
образов и благозвучие языка находятся на величайшей высоте, какую только
можно себе вообразить. Он отверг размеры, принятые для эпоса, драмы и
лирической поэзии, ибо стремился к гармонии мыслей, независимых от формы и
действия, и не стал изобретать какого-либо определенного нового ритма,
которому он мог бы подчинить разнообразные паузы своей речи. Цицерон пытался
подражать его каденциям, но без особого успеха. Поэтом был и лорд Бэкон. Его
слогу свойствен прекрасный и величавый ритм, радующий слух не менее, чем
почти сверхчеловеческая мудрость его рассуждений удовлетворяет разум; это -
мелодия, расширяющая восприятие слушателей, чтобы затем вырваться за его
пределы и вместе с ним влиться в мировую стихию, с которой она находится в
неизменном согласии. Каждый, кто совершает переворот в области мысли, столь
же обязательно является поэтом и не только потому, что творит новое, или
потому, что его слова вскрывают вечные соответствия сущего через образы,
причастные к жизни истины, но и потому, что он пишет гармоническими и
ритмическими периодами, заключающими в себе главные элементы стиха, - этого
отзвука вечной музыки бытия. Но и те великие поэты, которые пользовались
традиционными размерами ради формы и действия своих произведений, не менее
способны постигать и проповедовать истину, чем те, кто эти формы отбросил.
Шекспир, Данте и Мильтон (если называть одних только авторов нового времени)
являются величайшими философами.
Поэма - это картина жизни, изображающая то, что есть в ней вечно
истинного. Отличие повести от поэмы состоит в том, что повесть является
перечнем отдельных фактов, связанных только отношениями времени, места,
обстоятельств, причины и следствия; в поэме же действие подчинено неизменным
началам человеческой природы, как они существуют в сознании их творца,
отражающем все другие сознания. Первая представляет собою нечто частное,
относящееся лишь к определенному времени и к известным сочетаниям событий,
которые могут никогда более не повториться; вторая есть нечто всеобщее,
заключающее в себе зачатки родства с любыми мотивами или действиями,
возможными для человеческой природы. Время разрушает красоту и ценность
повести об отдельных событиях, если они не облечены поэтичностью, но
усиливает очарование Поэзии, раскрывая все новые и все более прекрасные
грани вечной истины, в ней заключенной. Недаром всякого рода конспективные
изложения называют молью истории - они истребляют в ней поэзию. Повесть об
отдельных фактах - это зеркало, которое затуманивает и искажает то, что
должно было быть прекрасно; Поэзия - это зеркало, которое дивно преображает
то, что искажено.
Бывает, что отдельные части произведения поэтичны, но целое, тем не
менее, не слагается в поэму. Иногда отдельная фраза может рассматриваться
как некое целое, даже если находится в окружении не связанных между собой
частей; и даже в отдельном слове может сверкнуть бессмертная мысль. Все
великие историки - Геродот, Плутарх, Тит Ливий - были поэтами, и, хотя план,
которому подчинено их повествование, особенно у Тита Ливия, мешал им развить
это качество в полной мере, они с лихвою искупают эту подчиненность,
перемежая повествование живыми образами.
Определив, что такое поэзия и кто такие поэты, рассмотрим воздействие
поэзии на общество.
Поэзии неизменно сопутствует наслаждение; все, на кого она снизошла,
становятся восприимчивы к мудрости, примешанной к этому наслаждению. В
младенческую пору человечества ни поэты, ни их слушатели не отдавали себе
вполне отчета в том, насколько прекрасна поэзия; ибо в ее действии есть
нечто непостижимое и божественное, выходящее за пределы сознания; и только
позднейшие поколения могут увидеть и измерить могучие причины и следствия во
всей мощи и всем великолепии их слияния. Даже в новое время ни один поэт не
достигал при жизни вершины своей славы; ибо присяжные, дерзающие его судить,
- его, принадлежащего всем временам, - должны быть ему равными; они должны
быть избраны Временем из числа мудрейших людей многих поколений. Поэт - это
соловей, который поет во тьме, услаждая свое одиночество дивными звуками;
его слушатели подобны людям, завороженным мелодией незримого музыканта; они
взволнованы и растроганы, сами не зная почему. Поэмы Гомера и его
современников восхищали юную Грецию; они были частью того общественного
порядка, который, подобно колонне, сделался опорою всей позднейшей
цивилизации. Гомер воплотил в своих образах идеалы своего времени; нет
сомнения, что его слушатели загорались желанием уподобиться Ахиллесу,
Гектору и Одиссею; в его бессмертных творениях во всем величии и красоте
представали дружба, любовь к родине и верность цели; столь возвышенные и
прекрасные образы, без сомнения, облагораживали и обогащали чувства
слушателей; от восхищения они шли к подражанию, а подражая, отождествляли
себя с предметами своего восхищения. И пусть не возражают нам, говоря, что
эти герои далеки от нравственного совершенства и отнюдь не могут считаться
назидательными примерами для подражания. Каждая эпоха обожествляет
свойственные ей заблуждения под более или менее благовидными названиями;
Месть - вот тот обнаженный Идол, которому поклонялись полуварварские века; а
Самообман - это одетый покровами Образ неведомого зла, перед которым падают
ниц роскошь и пресыщенность. Но поэт смотрит на пороки современников как на
временное облачение для своих созданий, прикрывающее, но не скрывающее их
извечную гармонию. Персонаж эпоса или драмы как бы носит их в душе, подобно
тому как он носит на теле древние доспехи или современный мундир, хотя
нетрудно вообразить для него более красивую одежду. Внутренняя красота не
может быть настолько скрыта под случайными облачениями, чтобы дух ее не
сообщался самому этому облачению и не указывал, даже в манере носить его,
что именно под ним сокрыто. Величавая фигура и грациозные движения видны
даже под самой варварской и безвкусной одеждой. Среди величайших поэтов мало
таких, которые выставляют свои замыслы в их неприкрытом великолепии; быть
может, костюмы, обычаи и прочее являются даже необходимым добавлением,
смягчающим для смертных ушей эту музыку сфер.
Все, что говорится о безнравственности поэзии, имеет своим источником
заблуждение относительно того особого способа, каким поэзия содействует
нравственному совершенствованию человека. Этика приводит в порядок ценности,
созданные поэзией, и предлагает образцы и примеры из гражданской и семейной
жизни; если люди ненавидят, презирают, чернят, обманывают и угнетают друг
друга, это происходит отнюдь не из-за недостатка отличных нравственных
доктрин. Поэзия идет иными, божественными путями. Она пробуждает и обогащает
самый ум человека, делая его вместилищем тысячи неведомых ему до этого
мыслей. Поэзия приподымает завесу над скрытой красотой мира и сообщает
знакомому черты незнаемого; все, о чем она говорит, она воспроизводит; и
образы, озаренные ее неземным светом, остаются в душе тех, кто их однажды
узрел, как воспоминание о блаженном упоении, объемлющем все мысли и все
поступки, которым она сопричастна. Любовь - вот суть всякой нравственности;
любовь, т. е. выход за пределы своего "я" и слияние с тем прекрасным, что
заключено в чьих-то, не наших, мыслях, деяниях или личности. Чтобы быть
истинно добрым, человек должен обладать живым воображением; он должен уметь
представить себя на месте другого и многих других; горе и радость ему
подобных должны стать его собственными. Воображение - лучшее орудие
нравственного совершенствования, и поэзия способствует результату,
воздействуя на причину. Поэзия расширяет сферу воображения, питая его все
новыми и новыми радостями, имеющими силу привлекать к себе все другие мысли
и образующими новые вместилища, которые жаждут, чтобы их наполняли все новой
и новой духовной пищей. Поэзия развивает эту способность, являющуюся
нравственным органом человека, подобно тому как упражнения развивают члены
его тела. А потому поэту не следует воплощать в своих созданиях,
принадлежащих всему миру и всем временам, собственные понятия о хорошем и
дурном, которые обычно принадлежат его времени и его стране. Принимая на
себя более низкую роль толкователя результатов, с которой он, к тому же,
едва ли хорошо справится, поэт лишает себя славы участника в причине. Гомер
и другие величайшие поэты не заблуждались относительно своего предназначения
и не отрекались от власти над обширнейшими из своих владений. Те, в ком
поэтическое начало хоть и велико, но не столь сильно, - а именно: Еврипид,
Лукан, Тассо, Спенсер, - часто ставили себе моральную задачу, и воздействие
их поэзии уменьшается ровно настолько, насколько они вынуждают нас помнить
об этой своей цели.
Вслед за Гомером и циклическими поэтами через некоторое время пришли
драматические и лирические поэты Афин, современники всего самого прекрасного
в других искусствах: в архитектуре, живописи, музыке, танце, скульптуре,
философии и, добавим, в общественной жизни. Ибо, хотя афинское общество
страдало многими несовершенствами, которые поэзия рыцарства и христианства
искоренила в обычаях и общественных установлениях Европы, ни в какое другое
время не существовало столько энергии, красоты и добродетели; никогда слепая
сила и косная материя так не подчинялись человеческой воле и никогда эта
воля так не гармонировала с велениями прекрасного и истинного, как в течение
столетия, предшествовавшего смерти Сократа. Ни одна историческая эпоха не
оставила нам памятников, столь явно запечатлевших божественное начало в
человеке. Именно Поэзия, воплощенная в формах, движениях или словах, сделала
эту эпоху памятной среди всех других, сокровищницей образцов на вечные
времена. Ибо письменная поэзия существовала в то время вместе с другими
искусствами, и тщетно было бы допытываться, какие из них были отражением, а
какие - источником света, которым все они, собрав в общий фокус, озарили
тьму последующих столетий. О причине и следствии мы можем судить лишь по
неизменному совпадению: Поэзия всегда оказывается современницей других
искусств, способствующих счастью и совершенствованию людей. Чтобы различить
тут причину и следствие, я призываю обратиться к тому, что уже установлено.
В описываемый период родилась Драма; и даже если какой-либо из
позднейших писателей сравнялся с немногими дошедшими до нас великими
образцами афинской драмы или превзошел их, несомненно, что само
драматическое искусство нигде не было так понято и не осуществлялось в духе
его истинной философии, как в Афинах. Ибо афиняне пользовались средствами
речи, действия, музыки, живописи, танца и религиозного обряда ради единой
цели: представления высочайших идеалов страсти и могущества. Каждое из
искусств достигало величайших вершин в руках художников, в совершенстве им
владевших, и сочеталось с другими, образуя гармоническое единство. На
нынешней сцене одновременно применяются лишь немногие из средств, способных
выразить замысел поэта. У нас есть трагедия без музыки и танца; а музыка и
танец не воплощают высоких идей, которые они призваны нести; и все это
отделено от религии, а религия вообще изгнана со сцены. В современном театре
мы сняли с лица актера маску, объединявшую все выражения, свойственные
изображаемому характеру, в одно постоянное и неизменное; это хорошо лишь для
частностей, годится лишь для монолога, когда все внимание устремлено на
мимику какого-нибудь великого мастера сцены. Современный принцип соединения
комедии с трагедией, хотя он и ведет на практике ко множеству
злоупотреблений, несомненно расширяет возможности драмы; но тогда комедия
должна быть, как в "Короле Лире", высокой, идеальной и всеобъемлющей. Быть
может, именно этот принцип дает "Королю Лиру" преимущество над "Царем
Эдипом" или "Агамемноном" или, если угодно, трилогиями, в которые они
входят; и разве только необычайная сила поэзии, заключенная в хорах, может
уравновесить чаши весов. "Короля Лира", если он выдерживает и это сравнение,
можно считать самым совершенным образцом драматического искусства, какой
существует, несмотря на тесные границы, в которые ставило его автора
незнание философии драмы, возобладавшей с тех пор в Европе нового времени.
Кальдерон в своих Autos {Религиозных драмах (исп.).} попытался выполнить
некоторые из высоких требований к драме, которыми пренебрег Шекспир: так,
например, он сближает драму с религией и объединяет их с музыкой и танцем.
Но он забывает об условиях, еще более важных, и больше теряет, чем
выигрывает, подменяя живые воплощения человеческих страстей всегда одними и
теми же жестко очерченными порождениями уродливых суеверий.
Однако мы отклонились от темы. Автор "Четырех Веков Поэзии"
осмотрительно избегает говорить о влиянии Драмы на жизнь и нравы. Раз я
узнал Рыцаря по эмблеме на его щите, мне достаточно начертать на своем
"Филоктет", или "Агамемнон", или "Отелло", чтобы обратить в бегство
околдовавшие его исполинские Софизмы, подобно тому как зеркало в руке
слабейшего из паладинов ослепляло нестерпимым светом и рассеивало целые
армии чернокнижников и язычников. Связь театральных зрелищ с улучшением или
падением нравов признана всеми; другими словами, отсутствие или наличие
Поэзии в ее наиболее совершенной и всеобщей форме оказалось связанным с
добродетелью или пороками в обычаях и поведении людей. Развращенность
нравов, которую приписывают влиянию театра, начинается там, где кончается в
театре Поэзия; обратимся к истории нравов, и мы увидим, что усиление первой
и упадок второй находятся в столь же тесной зависимости, как любая причина и
следствие.
В Афинах, как и повсюду, где она приблизилась к совершенству, драма
была современницей нравственного и интеллектуального величия эпохи. Трагедии
афинских поэтов подобны зеркалам, где зритель видит себя лишь слегка
замаскированным и освобожденным от всего, кроме высоких совершенств и
стремлений, являющихся для каждого прообразом того, что он любит, чем
восхищается и чем хотел бы стать. Воображение обогащается, сочувствуя мукам
и страстям столь сильным, что их восприятие расширяет самую способность
воспринимать; жалость, негодование, ужас и печаль укрепляют в зрителе добрые
чувства; а после напряжения этих высоких чувств наступает возвышенное
спокойствие, которое зритель уносит с собой, даже возвратясь в суету
повседневной жизни; самое преступление представляется вдвое менее ужасным и
утрачивает силу заразительного примера, когда его показывают как роковое
следствие неисповедимых путей природы; заблуждение уже не кажется
своеволием; человек не может цепляться за него как за результат своего
свободного выбора. В величайших из драм мало что можно осудить или
возненавидеть; они учат скорее самопознанию и самоуважению. Ни глаза, ни ум
человеческий не способны видеть себя иначе как отраженными в чем-то себе
подобном. Драма, когда она заключает в себе Поэзию, является призматическим
и многосторонним зеркалом, которое собирает наиболее яркие лучи, источаемые
человеческой природой, дробит их и вновь составляет из простейших элементов,
придает им красоту и величие и множит все, что оно отражает, наделяя его
способностью рождать себе подобное всюду, куда эти лучи упадут.
Но в эпохи общественного упадка Драма отражает этот упадок. Трагедия
становится холодным подражанием внешней форме великих творений древности,
лишенным гармонического сопровождения смежных искусств и зачастую неверным
даже и внешне; или же неловкой попыткой преподать некоторые догмы,
почитаемые автором за нравственные истины, причем обычно это - всего лишь
благовидно замаскированное стремление польстить какому-либо пороку или
слабости, которым заражен и автор, и зрители. Примером первого может служить
"Катон" Аддисона, называемый классической и домашней драмой; вторые, к
сожалению, столь многочисленны, что примеры были бы излишни. Поэзию нельзя
подчинять подобным целям. Поэзия - это огненный меч, всегда обнаженный; он
сжигает ножны, в которые его хотели бы вложить. Вот почему все указанные
драматические сочинения на редкость непоэтичны; они претендуют на
изображение чувств и страсти, но при отсутствии поэтического воображения все
это - лишь названия, под которыми скрываются каприз и похоть. В нашей стране
периодом наибольшего упадка драмы было царствование Карла II, когда все
обычные виды поэзии превратились в воспевание королевских побед над свободою
и добродетелью. Один лишь Мильтон озаряет это недостойное его время. В такие
времена драма проникается духом расчета, и поэзия исчезает из нее. Комедия
утрачивает свою идеальную всеобщность; юмор сменяется острословием; смех
вызывается не радостью, но самодовольным торжеством; место веселости
занимает ехидство, сарказм и презрение; мы уже не смеемся, мы только
улыбаемся. Непристойность, эта кощунственная насмешка над божественной
красотою жизни, прикрывшись вуалью, становится от этого пусть менее
отвратительной, но более дерзкой; это - чудовище, которому развращенность
нравов непрерывно доставляет свежую пищу, пожираемую ею втайне.
Поскольку драма является той формой, где способно сочетаться наибольшее
число различных средств поэтического выражения, в ней яснее всего можно
наблюдать связь поэзии с общественным благом. Несомненно, что наивысшему
расцвету драмы всегда соответствовал наилучший общественный порядок; а
упадок или исчезновение драмы там, где она некогда процветала, служит
признаком падения нравов и угасания тех сил, которые поддерживают живую душу
общества. Но, как говорит Макиавелли о политических установлениях, эту жизнь
можно сохранить и возродить, если явятся люди, способные вернуть драму на
прежний верный путь. То же относится и к Поэзии в наиболее широком смысле:
язык и все формы языкотворчества должны не только возникать, но и
поддерживаться; поэт остается верен своей божественной природе: он творец,
но он же и провидение.
Гражданская война, завоевания в Азии и победы сперва македонского, а
затем римского оружия были ступенями угасания творческих сил Греции.
Буколические поэты, нашедшие покровительство у просвещенных деспотов Сицилии
и Египта, были последними представителями славной эпохи. Их поэзия
необычайно мелодична: подобно запаху туберозы, она пресыщает чрезмерной
сладостью; тогда как поэзия их предшественников была июньским ветром,
который смешивает ароматы всех полевых цветов и добавляет к ним собственное
бодрящее дыхание, не дающее нашему восприятию утомиться восторгом.
Буколическая и эротическая изысканность поэзии соответствует изнеженности в
скульптуре, музыке и прочих искусствах, а также в нравах и общественных
порядках; именно это и отличает эпоху, о которой идет речь. В этом
недостатке гармонии неповинно ни само поэтическое начало, ни какое-либо
неверное его применение. Подобную же чувствительность к влиянию чувств и
страстей мы находим в творениях Гомера и Софокла: первый в особенности умел
придать неотразимую привлекательность чувственному и патетическому.
Превосходство этих авторов над позднейшими состоит в наличии у них мыслей,
относящихся к внутреннему миру человека, а не в отсутствии таких, которые
связаны с миром внешним; их совершенство заключается в гармоническом
сочетании тех и других. Слабость эротических поэтов не в том, что у них
есть, а в том, чего им недостает. Их можно считать причастными современной
им развращенности нравов не потому, что они были поэтами, но потому, что они
были ими недостаточно. Если б этот распад сумел погасить в них также и
восприимчивость к наслаждению, страсти и к красоте природы, которая ставится
им в вину как недостаток, - вот тогда торжество зла было бы окончательным.
Ибо конечной целью общественного распада является уничтожение всякой
способности к приятным ощущениям; в этом-то и заключается разложение. Оно
начинается с воображения и интеллекта, т. е. с сердцевины, а оттуда, подобно
парализующему яду, распространяется на чувства и, наконец, даже на
чувственные желания, пока все не превращается в омертвелую массу, в которой
едва теплится сознание. С приближением такого времени поэзия всегда
обращается к тем способностям человека, которые угасают последними и,
подобно шагам Астреи, уходящей из мира, голос ее слышится все отдаленнее.
Поэзия неизменно дает людям все наслаждение, какое они способны испытывать;
она всегда остается светочем жизни, источником всего прекрасного,
благородного и истинного, что еще может существовать в годины мрака.
Несомненно, те из изнеженных жителей Сиракуз и Александрии, которые
восхищались поэмами Феокрита, были менее бессердечны, жестоки и чувственны,
чем остальные. Прежде чем исчезнет Поэзия, должна распасться самая плоть
человеческого общества: никогда еще не распадались полностью священные
звенья той цепи, которая, проходя через множество сердец, восходит к великим
умам и оттуда посылает незримую эманацию, все соединяющую воедино и
поддерживающую жизнь повсюду. Это она содержит в себе одновременно зачатки и
своего собственного, и общественного возрождения. Кроме того, не следует
ограничивать влияние буколической и эротической поэзии теми, к кому она в
свое время обращалась. Те могли воспринять ее бессмертную красоту лишь как
отдельные фрагменты. Читатели, наделенные более тонкой восприимчивостью или
рожденные в более счастливую эпоху, могут увидеть в ней части той великой
поэмы, которую все поэты, подобно согласным думам единого великого ума,
слагают от начала времен.
Тот же цикл, хотя и в более узких пределах, прошел и Древний Рим; но
там общественная жизнь, по-видимому, никогда не была до такой степени
насыщена поэтическим началом. Римляне, как видно, считали, что греки
достигли совершенства как в своих нравах, так и в следовании природе; они не
пытались создавать, в стихах ли, в скульптуре, музыке или архитектуре,
ничего, имевшего прямое отношение к их собственному бытию, но лишь такое,
где отражалось нечто общее для всего мира. Впрочем, мы судим об этом по
неполным данным, а потому, быть может, с недостаточной полнотой. Энний,
Варрон, Пакувий и Акций - все четверо большие поэты - до нас не дошли.
Лукреций обладал творческим даром в высочайшей степени, Вергилий - в очень
высокой. У этого последнего изысканность выражений подобна светлой дымке,
прикрывающей от читателя ослепительную правдивость его изображений мира.
Ливии весь исполнен поэзии. Однако Гораций, Катулл, Овидий и все другие
большие поэты, современники Вергилия, видели человека и природу в зеркале
греческого искусства. Государственное устройство и религия также были в Риме
менее поэтичны, чем в Греции, как тень всегда бледнее живой плоти. Поэтому
римская поэзия скорее следовала за совершенствованием политического и
семейного быта, чем звучала с ним в лад. Подлинная поэзия Рима жила в его
гражданских установлениях; ибо все прекрасное, истинное и величественное,
что в них было, могло порождаться только тем началом, которое творило самый
этот порядок вещей. Жизнь Камилла; смерть Регула; сенаторы, торжественно
ожидающие прихода победоносных галлов; отказ Республики заключить мир с
Ганнибалом после битвы при Каннах - все это не было результатом расчета и
вычисления возможных личных выгод такого именно течения событий для тех, кто
были одновременно и сочинителями, и актерами этих бессмертных драм.
Воображение, созерцавшее красоту этого общества, создавало ее по
собственному образу и подобию; следствием было всемирное владычество, а
наградою - вечная слава. Все это - та же поэзия, хотя quia carent vate sacro
{Вещего не дал им рок поэта (лат.).}. Все это - эпизоды циклической поэмы,
которую Время пишет в памяти людей. Прошлое, подобно вдохновенному рапсоду,
поет ее вечно сменяющимся поколениям.
Но вот наконец античная религия и культура завершили цикл своего
развития. И мир всецело погрузился бы в хаос и тьму, если бы среди творцов
христианской и рыцарской культуры не оказалось своих поэтов, которые создали
дотоле неизвестные образцы для мысли и действия; отразившись в умах людей,
они, словно полководцы, приняли командование над смятенными полками их
мыслей и чувств. В мою задачу не входит рассмотрение зла, причиненного этими
идеями; я только еще раз заявляю, на основе высказанных выше положений, что
в этом ни в какой мере не повинна содержавшаяся в них поэзия.
Возможно, что удивительная поэзия Моисея, Иова, Давида, Соломона и
Исайи произвела впечатление на Иисуса и его учеников. Отдельные фрагменты,
сохраненные для нас биографами этого необыкновенного человека, исполнены
самой яркой Поэзии. Но его учение, по-видимому, скоро подверглось искажению.
Спустя некоторое время после победы идей, основанных на этом учении, три
категории, на которые Платон разделил духовные способности человека, были
как бы канонизированы и сделались в Европе предметом культа. И тут надо
признать, "тускнеет свет" и
...ворон в лес туманный
Летит. Благие силы дня уснули.
Выходят слуги ночи на добычу.
Но заметьте, какой великолепный порядок родился из грязи и крови этого
яростного хаоса! И как мир, словно воскреснув, взлетел на золотых крыльях
познания и надежды и еще длит свой полет в небеса времен. Вслушайтесь в
музыку, не слышную простым ухом и подобную вечному невидимому ветру, который
придает этому нескончаемому полету быстроту и силу.
Поэзия, содержавшаяся в учении Христа и в мифологии и укладе жизни
кельтских завоевателей Римской империи, пережила смуту, сопровождавшую их
появление и победу, и сложилась в новую систему нравов и идей. Было бы
ошибкой приписывать невежество средневековья христианскому учению или
господству кельтских племен. Все, что могло быть в них дурного, вызвано было
исчезновением поэтического начала по мере развития деспотизма и суеверий. По
причинам, слишком сложным, чтобы обсуждать их здесь, люди стали
бесчувственными и себялюбивыми; воля их ослабела, и все же они были ее
рабами, а тем самым и рабами чужой воли; похоть, страх, алчность, жестокость
и обман отличали поколения, где не оказалось никого, способного творить, -
будь то статуи, поэмы или общественные установления. Моральные аномалии
такого общества нельзя отнести за счет каких-либо современных ему событий; и
более всего заслуживают одобрения те события, которые всего успешнее могли
их уничтожить. К несчастью для тех, кто не умеет отличать слов от помыслов,
многие из этих аномалий вошли в нашу общепринятую религию.
Воздействие поэзии христианства и рыцарства начало сказываться лишь в
XI веке. Принцип равенства был открыт и применен Платоном в его "Республике"
в качестве теоретического правила, согласно которому все предметы
удовольствия и орудия могущества, созданные общим трудом и искусством людей,
должны между ними распределяться. Границы этого правила, утверждает он,
определяются только разумом каждого или соображениями общей пользы. Вслед за
Тимеем и Пифагором Платон построил также нравственную и интеллектуальную
систему, охватывающую прошлое, настоящее и будущее человека. Христос открыл
человечеству священные и вечные истины, заключенные в этой философии;
христианство, в своем чистом виде, стало экзотерическим выражением
эзотерических принципов древней поэзии и мудрости. Слившись с истощенными
народностями юга, кельты принесли им поэзию своей мифологии и своего
жизненного уклада. Результатом была некая сумма, составленная из действия и
противодействия всех факторов; ибо можно считать, что ни одна нация или
религия не может победить другую и при этом не вобрать в себя какую-то часть
того, что она вытесняет. В числе этих последствий было уничтожение личного и
домашнего рабства и освобождение женщин от большей части унизительных оков
античности.
Отмена личного рабства является основой величайших надежд в области
политики, какие может возыметь человек. Освобождение женщины создало поэзию
половой любви. Любовь стала религией; предметы ее культа были постоянно на
глазах. Казалось, статуи Аполлона и Муз ожили, задвигались и смешались с
толпою своих почитателей, так что на земле появились обитатели небес.
Обычные дела и привычные зрелища жизни сделались удивительными и чудесными;
из обломков Эдема был сотворен новый рай. Само создание его есть поэзия, а
потому и создатели были поэтами; их орудием был язык: "Galeotto ft il libro,
e chi lo scrisse" {И книга стала нашим Галеотом (итал.).}. Провансальские
труверы, что значит "изобретатели", были предшественниками Петрарки, чьи
стихи, подобно заговорам, открывают волшебные потайные источники счастья,
заключенного в любовных муках. Невозможно воспринимать их и не стать при
этом частицею созерцаемой нами красоты; едва ли нужно доказывать, что эти
священные чувства, пробуждающие нежность и возвышающие душу, способны
сделать людей лучше, великодушнее и мудрее и вознести их над тусклою мглою
маленького себялюбивого мирка. Данте еще лучше Петрарки понимал таинства
любви. Его "Vita Nuova" {Новая жизнь (итал.).} представляет собой
неисчерпаемый источник чистых чувств и чистого языка; это - опоэтизированная
повесть тех лет его жизни, которые посвящены были любви. Апофеоз Беатриче в
поэме "Рай", постепенное преображение его любви и ее красоты, которое,
словно по ступеням, приводит его к престолу Высшей Первопричины, - все это
является прекраснейшим созданием Поэзии нового времени. Наиболее
проницательные из критиков судят о частях поэмы иначе, чем толпа, и
справедливо располагают их по степени совершенства в ином порядке, а именно:
"Ад", "Чистилище", "Рай". Эта последняя представляет собою гимн вечной
Любви. Любовь, которая в античном мире нашла достойного певца в одном лишь
Платоне, в новое время воспевается целым хором величайших поэтов; эти песни
проникли во все подземелья общества, и отзвуки их доныне заглушают
нестройный лязг оружия и завывания суеверий. Ариосто, Тассо, Шекспир,
Спенсер, Кальдерон, Руссо и великие писатели нашего столетия, каждый в свой
черед, прославляли любовь, как бы доставляя человечеству трофеи великих
побед над чувственностью и грубой силой. Истинные отношения, в каких состоят
оба пола, ныне понимаются вернее; и если в общественном мнении современной
Европы отчасти рассеялось заблуждение, принимавшее различия в способностях
обоих полов за признак их неравенства, то этим отрадным явлением мы обязаны
культу, который узаконило рыцарство, а проповедовали поэты.
Поэзию Данте можно считать мостом, переброшенным через поток времени и
соединяющим современный мир с античным. Искаженные представления о невидимых
силах - предметах поклонения Данте и его соперника Мильтона - всего лишь
плащи и маски, под которыми эти великие поэты шествуют в вечность. Трудно
определить, насколько они сознавали различия между их собственными
верованиями и народными, Данте, во всяком случае, стремится показать эти
различия в полной мере, когда отводит Рифею, которого Вергилий называет
justissimus unus {Справедливости лучший блюститель (лат.).}, место в Раю, а
в распределении наград и наказаний следует самым еретическим капризам. А
поэма Мильтона содержит философское опровержение тех самых догматов, которым
она, по странному, но естественному контрасту, должна была служить главной
опорой. Ничто не может сравниться по мощи и великолепию с образом Сатаны в
"Потерянном Рае". Было бы ошибкой предположить, что он мог быть задуман как
олицетворение зла. Непримиримая ненависть, терпеливое коварство и утонченная
изобретательность в выдумывании мук для противника - вот что является злом;
оно еще простительно рабу, но непростительно владыке; искупается у
побежденного многим, что есть благородного в его поражении, но усугубляется
у победителя всем, что есть позорного в его победе. У Мильтона Сатана в
нравственном отношении настолько же выше Бога, насколько тот, кто верит в
правоту своего дела и борется за него, не страшась поражений и пытки, выше
того, кто из надежного укрытия верной победы обрушивает на врага самую
жестокую месть - и не потому, что хочет вынудить его раскаяться и не
упорствовать во вражде, но чтобы нарочно довести его до новых проступков,
которые навлекут на него новую кару. Мильтон настолько искажает общепринятые
верования (если это можно назвать искажением), что не приписывает своему
Богу никакого нравственного превосходства над Сатаной. Это дерзкое
пренебрежение задачей прямого морализирования служит лучшим доказательством
гения Мильтона. Он словно смешал черты человеческой природы, как смешивают
краски на палитре, и на своем великом полотне расположил их согласно
эпическим законам правды, т. е. согласно тем законам, по которым
взаимодействие между внешним миром и существами, наделенными разумом и
нравственностью, возбуждает сочувствие многих человеческих поколений.
"Божественная Комедия" и "Потерянный Рай" привели в систему мифологию нового
времени; и когда, с течением времени, ко множеству суеверий прибавится еще
одно, ученые толкователи станут изучать по ним религию Европы, которая лишь
потому не будет совершенно позабыта, что отмечена нетленной печатью гения.
Гомер был первым, а Данте - вторым из эпических поэтов, т. е. вторым из
тех, чьи создания определенно и ясно связаны со знаниями, чувствами,
верованиями и политическим устройством их эпохи и последующих эпох и
развивались в соответствии с их развитием. Ибо Лукреций смочил крыла своего
быстролетного духа в клейких осадках чувственного мира; Вергилий, со
скромностью, мало подобающей его гению, хотел прослыть всего лишь
подражателем, хотя он создавал заново все, что копировал; а из стаи
пересмешников ни один - ни Аполлоний Родосский, ни Квинт Калабер из Смирны,
ни Нонний, ни Лукан, ни Стаций, ни Клавдиан - хотя они и пели сладко - не
отвечает требованиям эпической правды. Третьим эпическим поэтом был Мильтон.
Ибо если отказывать в звании эпоса в самом высоком его смысле "Энеиде", то
тем менее заслуживают его "Неистовый Роланд", "Освобожденный Иерусалим",
"Лузиады" или "Королева Фей".
Данте и Мильтон были оба глубоко проникнуты верованиями античности; ее
дух присутствует в их поэзии в той же мере, в какой внешние ее формы
сохранились в религии новой Европы до Реформации. Один из них предшествовал,
второй - следовал за Реформацией почти через равные промежутки времени.
Именно Данте и был первым из религиозных реформаторов, и Лютер превосходит
его скорее язвительностью, нежели смелостью обличений папского произвола.
Данте первый пробудил восхищенную им Европу; из хаоса неблагозвучных
варваризмов он создал язык, который сам по себе был музыкой и красноречием.
Он был тем, кто сплотил великие умы, воскресившие ученость; Люцифером той
звездной стаи, которая в XIII веке, словно с небес, воссияла из
республиканской Италии над погруженным во тьму миром. Самое его слово
одухотворено; каждое подобно искре, огненной частице неугасимой мысли.
Многие из них подернуты золою и таят в себе огонь, для которого еще не
нашлось горючего. Высокая поэзия бесконечна; это как бы первый желудь,
зародыш всех будущих дубов. Можно подымать один покров за другим и никогда
не добраться до сокрытой под ними обнаженной красоты смысла. Великая поэма -
это источник, вечно плещущий через край водами мудрости и красоты; когда
отдельный человек и целая эпоха вычерпают из него всю божественную влагу,
какую они способны восприять, на смену им приходят другие и открывают в нем
все новое и новое, получая наслаждение, какого они не ждали и не могли себе
представить.
Век, наступивший после Данте, Петрарки и Боккаччо, был отмечен
возрождением живописи, скульптуры, музыки и архитектуры. Чосер зажегся этим
священным огнем, и таким образом английская литература поднялась на
итальянском фундаменте.
Не будем, однако, отвлекаться от нашей задачи защиты Поэзии и
заниматься ее критической историей и влиянием ее на общество. Достаточно
сказать, что поэты, в широком и истинном смысле этого слова, воздействовали
на свою эпоху и на все последующие, и сослаться на отдельные примеры, уже
приводившиеся в подтверждение мнения, противоположного тому, которое
высказывает автор "Четырех Веков Поэзии".
Но он выдвигает еще и иной довод, чтобы развенчать поэтов в пользу
мыслителей и ученых. Признавая, что игра воображения приносит больше всего
удовольствия, он считает работу разума более полезной. Чтобы принять такое
разделение, посмотрим, что именно разумеется здесь под пользою.
Удовольствием или благом зовется вообще то, к чему сознательно стремится
существо, наделенное чувствами и разумом, и чему оно предается, когда
находит. Есть две фазы или степени удовольствия, одно - длительное, всеобщее
и постоянное, другое - преходящее и частное. Пользою может быть то, что
является средством достигнуть первой или же второй. Если первой - тогда
полезно все, что укрепляет и очищает наши привязанности, открывает простор
воображению и одухотворяет область чувственного. Но автор "Четырех Веков
Поэзии", видимо, употребляет слово "польза" в более узком смысле: как то,
что утоляет потребность нашей животной природы, делает жизнь безопаснее,
рассеивает наиболее грубые из суеверий и внушает людям взаимную терпимость в
той степени, какая совместима с мотивами личной выгоды.
Нет сомнения, что ревнители пользы в этом ограниченном ее понимании
также имеют свое место в обществе. Они идут по следам поэтов и копируют их
стихи для повседневного употребления. Они творят пространство и созидают
время. Труд их весьма ценен, покуда они ограничиваются заботой о низших
потребностях, без ущерба для высших. Пусть скептик разрушает грубые
суеверия, но пусть не искажает, как это делали иные французские авторы,
вечных истин, запечатленных в душах людей. Пусть изобретатель машин
облегчает, а политический эконом упорядочивает человеческий труд, но пусть
остерегаются, как бы их деятельность, не связанная с основными принципами,
принадлежащими миру духовному, не углубила - как это случилось в современной
Англии - пропасти между роскошью и нищетою. Они воплотили в жизнь
евангельское изречение: "Имущему дастся, а у неимущего отнимется". Богачи
стали богаче, а бедняки - беднее; и наш государственный корабль плывет между
Сциллой анархии и Харибдой деспотизма. Таковы неизбежные следствия
безраздельного господства расчета.
Трудно определить удовольствие в его высшем смысле, ибо это определение
заключает в себе ряд кажущихся парадоксов. Так, вследствие какого-то
необъяснимого недостатка гармонии в человеческой природе, страдания нашего
физического существа нередко приносят радость нашему духовному "я". Печаль,
страх, тревога и даже отчаяние часто знаменуют приближение к высшему благу.
На этом основано наше восприятие трагедии; трагедия восхищает нас тем, что
дает почувствовать долю наслаждения, заключенную в страдании. В этом же -
источник той грусти, которая неотделима от прекраснейшей мелодии.
Удовольствие, содержащееся в печали, слаще удовольствия как такового.
Отсюда и изречение: "Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели в дом
пира". Это не означает, что высшая ступень удовольствия обязательно связана
со страданием. Радости любви и дружбы, восхищение природой, наслаждение
поэзией, а еще более - поэтическим творчеством зачастую не содержат такой
примеси.
Доставлять удовольствие в этом высшем его смысле - это и есть истинная
польза. А доставляют и продлевают это удовольствие поэты или же
поэты-философы.
Деятельность Локка, Юма, Гиббона, Вольтера, Руссо {Я следую
классификации, принятой автором "Четырех Веков Поэзии", однако Руссо был
прежде всего поэтом. Остальные, даже Вольтер, всего лишь резонеры.} и их
учеников в защиту угнетенного и обманутого человечества заслуживает
признательности. Однако нетрудно подсчитать, на какой ступени морального и
интеллектуального прогресса оказался бы мир, если бы они вовсе не жили на
свете. В течение столетия или двух говорилось бы немного больше глупостей, и
еще сколько-то мужчин, женщин и детей было бы сожжено за ересь. Нам,
вероятно, не пришлось бы сейчас радоваться уничтожению испанской инквизиции.
Но невозможно себе представить нравственное состояние мира, если бы не было
Данте, Петрарки, Боккаччо, Чосера, Шекспира, Кальдерона, лорда Бэкона и
Мильтона; если бы никогда не жили Рафаэль и Микеланджело, если бы не была
переведена древнееврейская поэзия; если бы не возродилось изучение греческой
литературы; если бы поэзия античных богов исчезла вместе с их культом. Без
этих стимулов человеческий ум никогда не пробудился бы ни для создания
естественных наук, ни для применения к общественным заблуждениям
рассудочного анализа, который ныне пытаются поставить выше непосредственного
проявления творческого начала.
Мы накопили больше нравственных, политических и исторических истин, чем
умеем приложить на практике; у нас более чем достаточно научных и
экономических сведений, но мы не применяем их для справедливого
распределения продуктов, которые благодаря этим сведениям производятся в
возрастающем количестве. В этих науках поэзия погребена под нагромождением
фактов и расчетов. У нас нет недостатка в знании того, что является самым
лучшим и наиболее мудрым в нравственности, в науке управления и в
политической экономии или, по крайней мере, того, что было бы мудрее и лучше
нынешнего их состояния, с которым мы миримся. Но, как у бедной кошки в
поговорке, наше "хочу" слабее, чем "не смею". Нам недостает творческой
способности, чтобы воссоздать в воображении то, что мы знаем; нам недостает
великодушия, чтобы осуществить то, что мы себе представляем; нам не хватает
поэзии жизни; наши расчеты обогнали наши представления; мы съели больше, чем
способны переварить. Развитие тех наук, которые расширили власть человека
над внешним миром, из-за отсутствия поэтического начала соответственно
сузили его внутренний мир; поработив стихии, человек сам при этом остается
рабом. Чем, как не развитием механических наук в ущерб творческому началу,
являющемуся основою всякого познания, можно объяснить тот факт, что все
изобретения, которые облегчают и упорядочивают труд, лишь увеличивают
неравенство среди людей? По какой, если не по этой, причине изобретения,
вместо того чтобы облегчить, усилили проклятие, тяготеющее над Адамом? Место
Бога и Маммоны занимают в нашем обществе Поэзия и воплощенный в Богатстве
Эгоизм.
Поэтическое начало действует двояко: во-первых, создает новые предметы,
служащие познанию, могуществу и радости, с другой стороны, рождает в умах
стремление воспроизвести их и подчинить известному ритму и порядку, которые
можно назвать красотою и добром. Никогда так не нужна поэзия, как в те
времена, когда вследствие господства себялюбия и расчета количество
материальных благ растет быстрее, чем способность освоить их согласно
внутренним законам человеческой природы. В такие времена тело становится
чересчур громоздким для оживляющего его духа.
Поэзия есть действительно нечто божественное. Это одновременно центр и
вся сфера познания; то, что объемлет все науки, и то, чем всякая наука
должна поверяться. Это одновременно корень и цветок всех иных видов
мышления; то, откуда все проистекает, и то, что все собою украшает; когда
Поэзию губят, она не дает ни плодов, ни семян; и пораженный бесплодием мир
лишается и пищи, и новых побегов на древе жизни. Поэзия - это прекрасное
лицо мира, его лучший цвет. Она для нас то же, что аромат и краски для
веществ, составляющих розу; то же, что нетленная красота для тела,
обреченного разложению. Чем были бы Добродетель, Любовь, Патриотизм, Дружба,
чем были бы красоты нашего прекрасного мира, что служило бы нам утешением
при жизни и на что могли бы мы надеяться после смерти, если бы Поэзия не
приносила нам огонь с тех вечных высот, куда расчет не дерзает подняться на
своих совиных крыльях? В отличие от рассудка, Поэзия не принадлежит к
способностям, которыми можно пользоваться произвольно. Человек не может
сказать: "Вот сейчас я возьму и сочиню поэму". Этого не может сказать даже
величайший из поэтов; ибо созидающий дух подобен тлеющему углю, на мгновение
раздуваемому неким невидимым дыханием, изменчивым, точно ветер; поэтическая
сила рождается где-то внутри, подобно краскам цветка, которые меняются, пока
он расцветает, а потом блекнет; и наше сознание неспособно предугадать ее
появления или исчезновения. Если бы действие ее могло быть длительным и при
этом сохранять первоначальную чистоту и силу, результаты были бы грандиозны;
но, когда Поэт начинает сочинять, вдохновение находится уже на ущербе, и
величайшие создания поэзии, известные миру, являются, вероятно, лишь слабой
тенью первоначального замысла Поэта. Я хотел бы спросить лучших поэтов
нашего времени: неужели можно утверждать, будто лучшие поэтические строки
являются плодом труда и учености? Неспешный труд, рекомендуемый критиками, в
действительности является не более чем прилежным ожиданием вдохновенных
минут и искусственным заполнением промежутков между тем, что подсказано
этими минутами, с помощью различных общих мест - необходимость, которая
вызвана только ограниченностью поэтической силы. Ибо Мильтон задумал
"Потерянный рай" целиком прежде, чем начал осуществлять свой замысел по
частям. Он сам говорит нам, что Муза влагала ему в уста "стихи
несочиненные"; и пусть это будет ответом тому, кто приводит в пример
пятьдесят шесть вариантов первой строки "Неистового Роланда". Сочиненные
таким образом поэмы имеют такое же отношение к поэзии, как мозаика к
живописи. Инстинктивный и интуитивный характер поэтического творчества еще
заметнее в скульптуре и живописи; великая статуя или картина растет под
руками художника, как дитя в материнской утробе; и даже ум, направляющий
творящую руку, не способен понять, где возникает, как развивается и какими
путями осуществляется процесс творчества.
Поэзия - это летопись лучших и счастливейших мгновений, пережитых
счастливейшими и лучшими умами. Мы улавливаем в ней мимолетные отблески
мыслей и чувств, порою связанных с известным местом или лицом, иногда
относящихся только к нашей внутренней жизни; эти отблески возникают всегда
непредвиденно и исчезают помимо нашей воли, но они возвышают душу и
несказанно нас восхищают: так что к желанию и сожалениям, которые они по
себе оставляют, примешивается радость, - ибо такова их природа. В нас
проникает словно некое высшее начало; но движения его подобны полету ветра
над морем - следы его изглаживаются наступающей затем тишью, оставаясь
запечатленными лишь в волнистой ряби прибрежного песка. Эти и подобные
состояния души являются преимущественно уделом людей, одаренных тонкой
восприимчивостью и живым воображением; душа настраивается при этом на
высокий лад, враждебный всякому низменному желанию. С этим состоянием духа
неразрывно связаны добродетель, любовь, патриотизм и дружба: пока оно
длится, интересы личности представляются тем, что они есть на самом деле, т.
е. атомом по сравнению с космосом. Поэты, как натуры наиболее тонкие, не
только подвержены таким состояниям души, но могут окрашивать все свои
создания в неуловимые цвета этих неземных сфер; одно слово, одна черта в
изображении какой-либо сцены или страсти способны затронуть волшебную струну
и воскресить в тех, кто однажды уже испытал подобные чувства, уснувший,
остывший и давно похороненный образ прошлого. Поэзия, таким образом, дает
бессмертие всему, что есть в мире лучшего и наиболее прекрасного; она
запечатлевает мимолетные видения, реющие в поднебесье, и, облекая их в слова
или очертания, посылает в мир, как благую и радостную весть, тем, в чьей
душе живут подобные же видения, но не находят оттуда выхода во вселенную.
Поэзия не дает погибнуть минутам, когда на человека нисходит божество.
Поэзия дивно преображает все сущее: красоту она делает еще прекраснее,
а уродство наделяет красотой. Она сочетает воедино восторг и ужас, печаль и
радость, вечность и перемену; под своим легким ярмом она соединяет все, что
несоединимо. Она преображает все, к чему прикасается, и каждый предмет,
оказавшийся в ее сияющей сфере, подвергается волшебному превращению, чтобы
воплотить живущий в ней дух; таинственная алхимия Поэзии обращает в
расплавленное золото даже те ядовитые воды, которыми смерть отравляет
живущих; она срывает с действительности давно знакомые, приглядевшиеся
покровы, и мы созерцаем ее обнаженную спящую красоту, иначе говоря - ее
душу.
Все существует постольку, поскольку воспринимается; во всяком случае,
для воспринимающего. "Дух сам себе отчизна и в себе из Неба Ад творит, из
Ада - Небо". Но Поэзия побеждает проклятие, подчиняющее нас случайным
впечатлениям бытия. Разворачивает ли она собственную узорную ткань или
срывает темную завесу повседневности с окружающих нас предметов, она всегда
творит для нас жизнь внутри нашей жизни. Она переносит нас в мир, по
сравнению с которым обыденный мир представляется беспорядочным хаосом. Она
воссоздает Вселенную, частицу коей мы составляем, одновременно ее
воспринимая; она очищает наш внутренний взор от налета привычности,
затемняющего для нас чудо нашего бытия. Она заставляет нас прочувствовать
то, что мы воспринимаем, и вообразить то, что мы знаем. Она заново создает
мир, уничтоженный в нашем сознании впечатлениями, притупившимися от
повторений. Она оправдывает смелые и верные слова Тассо: "Non merita nome di
Creatore se non Iddio ed il Poeta" {Никто не заслуживает называться Творцом,
кроме Бога и Поэта (итал.).}.
Даруя другим величайшие сокровища мудрости, радости, добродетели и
славы, поэт и сам должен быть счастливейшим, лучшим, мудрейшим и наиболее
прославленным из людей. Что касается его славы, пусть Время решит, сравнится
ли со славой поэта слава какого-либо другого устроителя человеческой жизни.
Что он - мудрейший, счастливейший и лучший уже тем одним, что он поэт, в
этом также нет сомнения; величайшие поэты были людьми самой незапятнанной
добродетели и самой высокой мудрости, и - если заглянуть в тайники их жизни
- также и самыми счастливыми из людей; исключения - касающиеся тех, кто
обладал поэтической способностью в высокой, но не в высочайшей степени, -
скорее подтверждают это правило, нежели опровергают его. Снизойдем на миг до
общераспространенных суждений и, присвоив себе и сочетав в своем лице
несовместимые обязанности обвинителя, свидетеля, судьи и исполнителя
приговора, решим - без доказательств и судебной процедуры, - что тем, кто
"превыше прочих смертных вознесен", случалось вести себя предосудительно.
Допустим, что Гомер был пьяницей, Вергилий - льстецом, Гораций - трусом,
Тассо - сумасшедшим, Бэкон - лихоимцем, Рафаэль - распутником, а Спенсер -
поэтом-лауреатом. В этой части нашего трактата было бы неуместно перечислять
ныне живущих поэтов, но те великие имена, которые мы только что упомянули,
уже получили полное оправдание у потомства. Проступки их были взвешены и
оказались на весах легче праха; пусть их грехи были краснее пурпура - сейчас
они белы, как снег, ибо были омыты кровью всепримиряющего и всеискупающего
Времени. Заметьте, в каком нелепом беспорядке смешались правда и ложь в
современном злословии о Поэзии и поэтах; подумайте, сколь часто вещи
являются не тем, чем кажутся, или кажутся не тем, что они есть; оглянитесь
также и на себя и не судите, да не судимы будете.
Как уже было сказано, Поэзия отличается от логики тем, что не подчинена
непосредственно умственному усилию, и ее проявление необязательно связано с
сознанием или волей. Было бы чересчур смелым утверждать, что таковы
непременные условия всякой причинной связи в области мысли, когда имеют
место следствия, которые нельзя к ней возвести. Нетрудно предположить, что
частые приливы поэтической силы могут создать в сознании поэта привычный
гармонический порядок, согласны с собственной его природой и с воздействием
его на другие умы. Но в промежутках между порывами вдохновения, обычно
частыми, но не длительными, Поэт становится обычным человеком и внезапно
подвергается всем влияниям, на прочих людей действующим постоянно. Отличаясь
более тонким душевным складом и несравненно большей чувствительностью к
страданию и к радости, своей и чужой, он избегает первого и стремится ко
второй также с несравненно большей страстью, чем другие люди. А когда он
упускает при этом из виду, что радость, к которой стремятся все, и
страдание, которого все избегают, подчас маскируются и выступают одно вместо
другого, он делает себя мишенью для клеветы.
Однако эти заблуждения вовсе не всегда преступны, и никогда еще среди
предъявленных поэтам обвинений не значились жестокость, зависть,
мстительность, алчность и наиболее злые из страстей.
Ради торжества истины я счел за лучшее расположить эти заметки в том
порядке, в каком они мне явились при обдумывании самого предмета, вместо
того чтобы следовать за трактатом, побудившим меня опубликовать их. Не
будучи полемическим ответом на него по всей форме, эти заметки - если
читатель признает их справедливыми - содержат опровержение взглядов,
высказанных в "Четырех Веках Поэзии"; во всяком случае, в первой своей
части. Нетрудно догадаться, чтб именно разгневало ученого и мыслящего автора
этого сочинения. Как и он, я тоже не склонен восхищаться "Тезеидами"
современных сиплых Кедров. Бавий и Мевий были и остаются невыносимыми
созданиями. Однако, если критик одновременно является и философом, он обязан
скорее различать, чем смешивать.
Первая часть моих замечаний касается основных принципов и сущности
Поэзии; насколько позволил мне ограниченный размер этого сочинения, я
показал, что поэзия в собственном смысле слова имеет общий источник со всеми
другими формами красоты и гармонии, в которых можно выразить содержание
человеческой жизни, - они и составляют Поэзию в высшем ее смысле.
Во второй части моих заметок я намереваюсь приложить эти общие принципы
к современному состоянию Поэзии, а также обосновать попытку претворения в
поэзию современной жизни и взглядов и подчинения их творческому,
поэтическому началу. Ибо английская литература, которая неизменно испытывала
могучий подъем при каждом большом и свободном проявлении народной воли,
сейчас возрождается к новой жизни. Несмотря на низкую зависть, стремящуюся
умалить достоинства современных авторов, наше время будет памятно как век
высоких духовных свершений; мы живем среди мыслителей и поэтов, которые
стоят несравненно выше всех, какие появлялись со времен последней
всенародной борьбы за гражданские и религиозные свободы. Поэзия - самая
верная вестница, соратница и спутница великого народа, когда он пробуждается
к борьбе за благодетельные перемены во мнениях или общественном устройстве.
В такие времена возрастает наша способность воспринимать и произносить
высокое и пламенное слово о человеке и природе. Те, кто наделен этой силой,
нередко могут во многом быть, на первый взгляд, далеки от того духа добра,
провозвестниками которого они являются. Но, даже отрекаясь от него, они
вынуждены служить тому Властелину, который царит в их душе.
Нельзя читать произведения наиболее славных писателей нашего времени и
не поражаться напряженной жизни, которою наэлектризованы их слова. С
необыкновенной проницательностью охватывают они все многообразие и измеряют
все глубины человеческой природы и, быть может, более других удивляются
проявлениям этой силы, ибо это не столько их собственный дух, сколько дух
эпохи. Поэты - это жрецы непостижимого вдохновения; зеркала, отражающие
исполинские тени, которые грядущее отбрасывает в сегодняшний день; слова,
выражающие то, что им самим непонятно; трубы, которые зовут в бой и не
слышат своего зова; сила, которая движет другими, сама оставаясь недвижной.
Поэты - это непризнанные законодатели мира.
2. КОММЕНТАРИИ
Трактат написан в марте 1821 года.
...Геродот, Плутарх, Тит Ливий - были поэтами... - Подобное отношение к
поэзии в традиции английской поэтики, начало которой положил Ф. Сидни в
трактате "Защита поэзии".
"Царь Эдип" - первая часть трилогии Софокла об Эдипе.
"Агамемнон" - первая часть трилогии Эсхила "Орестея".
Кальдерон, в своих Autos... - Имеются в виду аллегорические драмы на
религиозные темы - аутос сакраменталис - Кальдерона.
"Филоктет" - трагедия Софокла.
Трагедии афинских поэтов... - Эсхил, Софокл, Еврипид.
Астрея - прозвище богини справедливости Дике, управлявшей в золотом
веке.
Энний, Квинт (239-169 до н.э.) - римский поэт, драматург.
Варрон, Публий Теренций - римский поэт I в. до н.э.
Пакувий (220-130? до н.э.) - римский поэт, ученик Энния.
Акций (170-85 до н.э.) - римский трагик, тираноборец.
Лукреций (947-55 до н.э.) - римский поэт-философ.
Публий Вергилий Марон (70-19 до н.э.) - римский поэт, автор
"Буколик", "Георгию" и "Энеиды".
Квинт Гораций Флакк (65-8 до н.э.) - римский поэт.
Катулл, Гай Валерий (877-54 до н.э.) - римский лирик.
Публий Овидий Назон (43 до н.э.-18 н.э.) - римский поэт.
Камилл, Марк Фурий (конец V-начало IV в. до н.э.) - римский
полководец, спасший Рим от нашествия галлов.
Регул, Марк Атилий (III в. до н.э.) - римский полководец, участник I
Пунической войны. Попал в плен под Карфагеном и был убит.
...битвы при Каннах... - В 216 г. до н. э. карфагенский полководец
Ганнибал в битве при Каннах разбил римскую армию.
...поэзия Моисея, Иова, Давида, Соломона и Исайи... - Имеются в виду
"Книги Пророков".
...три категории... - мудрость, храбрость и умеренность (Платон.
"Тимей").
Тимей (IV в. до н.э.) - древнегреческий философ.
..."тускней свет" и "ворон в лес туманный..." и далее - В. Шекспир.
Макбет (III, 2). Перевод Ю. Корнеева.
"И книга стала нашим Галеотом". - Данте. "Божественная комедия". Ад
(V,137). Во французском рыцарском романе о Ланселоте, влюбленном в королеву
Женьевру, рыцарь Галеот способствует сближению героя и героини.
"Неистовый Роланд" - написан Ариосто, "Освобожденный Иерусалим" -
написан Тассо, "Лузиады" - Камоэнсом, "Королева фей" - Эдмундом Спенсером.
...Люцифером той звездной стаи... - Здесь: Люцифер - название
утренней звезды Венеры.
Чосер, Джеффри (1340-1400) - английский поэт, которого высоко ценил еще
Ф. Сидни.
...автор "Четырех веков поэзии"... - английский писатель Т. Л. Пикок.
"Имущему дастся, а у неимущего отнимется". - Евангелие от Матфея
(XXV.29).
"Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели в дом пира" - Екклезиаст
(VII, 2).
...как у бедной кошки в поговорке... и далее. - В. Шекспир. "Макбет"
(1,7).
Маммон - в древнесирийской мифологии бог стяжательства.
"Дух сама себе отчизна, и в себе // Из Неба Ад творит, из Ада -
Небо". - Мильтон Дж. "Потерянный рай" (I, 254-5).
..."Тезеидами" современных сиплых Кодров. - Ювенал выдумал поэта и его
сочинение ради уничижительной оценки.
Бавий и Мевий - поэты, высмеянные Вергилием и Горацием, сделавшими их
имена нарицательными для бездарных рифмоплетов.
Л. Володарская
Эдуард Дауден. Очерк жизни Шелли
{* Имена людей и названия произведений, а также географические названия
даны в транскрипции переводчика. - Л.В.}
Хотя Шелли писал повествовательные поэмы и написал большую трагедию, -
в основе своей его гений был чисто лирический. И его поэзия больше говорит
читателю, знакомому с его личностью и событиями его жизни, чем тому, кто
знает только его поэмы так, как если бы они ниспали с неба, от какого-нибудь
незримого певца. Ни один поэт не воспевал так непосредственно свои чувства -
свои радости, свои печали, свои желания, свою тоску. И то, что он написал,
приобретает более глубокое значение, когда мы знаем источник творчества и
сопровождавшие его обстоятельства. Притом же, поэзия Шелли принадлежит к
особенной эпохе в истории мира - к революционной эпохе, - и то, что можно
назвать оплотом учения, составляющим духовную основу его фантастических
грез, можно понять, только если рассматривать его произведения в связи с
эпохой, порождением которой они являются. "Прекрасный и нереальный ангел,
тщетно бьющийся своими лучезарными крыльями в пустоте" - так выражает свой
взгляд на Шелли Мэттью Арнольд, несколько изменяя слова Жубера о Платоне
{"Платон теряется в пустоте; но видно, как играют его крылья, слышен их
шорох", - слова, приводимые Мэттью Арнольдом в его статье о Жубере.}.
Красота этой фразы не должна заставлять нас забывать об ее удаленности от
истины. Шелли не был ангелом небесной или дьявольской расы; он был глубоко
человечен в своих страстях, своих ошибках, своих недостатках и своих
достоинствах. И не в пустоте он жил и вращался; он принадлежал в высокой
степени к революционному движению своих дней и, если рассматривать его
отдельно от учения этого геометра революции, которого он признавал своим
учителем - Вильяма Годвина, - произведения Шелли становятся понятны лишь
наполовину.
Перси Биши Шелли родился 4 августа 1792 года, в Фильд-Плэсе, близ
Хоршама, в Суссексе. Его семья была старинная и уважаемая; но ни один из
предков поэта не проявлял никогда признаков литературного гения. Его дед,
Биши Шелли, получивший баронетство в 1806 году, скопил большое состояние,
был женат на двух богатых наследницах, поссорился со своими детьми и жил в
то время довольно скряжнически, в коттедже, в Хоршаме, тревожимый подагрой и
недугами своего возраста. Тимоти Шелли, отец поэта, был деревенский
джентльмен - тупой, напыщенный, раздражительный, но не злой в душе. В Палате
общин он неизменно подавал голос за партию вигов и был вполне обеспечен от
всякой возможности отклонения от общественных условностей, благодаря своей
счастливой недоступности для идей. Его жена Элизабет, дочь Чарлза Пилфолда
из Эффингэма, Серри, была красива и умна, когда разум ее не бывал затемнен
вспыльчивостью. К литературе она была равнодушна, но хорошо писала письма.
Перси, старший ребенок, унаследовал от матери красоту. У него была
тонкая фигура, нежное лицо с легким румянцем, лучистые голубые глаза и
вьющиеся от природы волосы, переходившие из золотистого в роскошный
каштановый цвет. Нравом он был кроток, хотя легко возбуждался, отличался
редкой чувствительностью, был склонен предаваться воображением какой-нибудь
фантастической сказке или видению; он был не лишен, однако, известной
причудливой веселости и приходил в восторг от странностей и необычайностей.
От соседнего деревенского священника он приобрел некоторые познания в
латинском языке, а когда ему минуло десять лет, его отправили в Айльворсз, в
Sion House Academy, где д-р Гринлоу обучал пятьдесят-шестьдесят мальчиков,
большею частью из среднего класса; там учился, между прочим, двоюродный брат
Шелли, Томас Медвин. Грубая тирания старших мальчиков, смотревших на новичка
как на чудака и нелюдима, потому что он был впечатлителен и робок, иногда
доводила его до настоящих взрывов ярости. Но, по словам его школьного
товарища Ренни, "когда с ним обращались ласково, он был чрезвычайно
приветлив, благороден, великодушен и щедр". Здесь Шелли сделал некоторые
успехи в классических знаниях. Его чувство чудесного, в умственной области,
было сильно возбуждено научными чтениями. А сердце его пробудилось к новой
изысканной радости, - он проникся романтической привязанностью к
мальчику-сверстнику, которого он описывает как существо отменно-благородное,
кроткое и прекрасное.
В 1804 году он перешел из Sion House Academy в Итон, где заведующим
лицом являлся в то время д-р Гудолль, хороший ученый и добрый человек, но,
быть может, слишком слабо державший бразды правления. Наставник Шелли, у
которого он жил, Джорж Бесзелль, к несчастью, был самый тупой человек в
Итоне; у него были все же некоторые достоинства: он был добродушен и
доброжелателен. В Итоне, так же как и в Сион-Хауз, Шелли стоял в стороне от
толпы своих товарищей. Дух его возмущался против системы подчиненности
младших учеников старшим; он не принимал участия в школьных играх; он
занимался изучениями, в которых его юные сверстники не желали нисколько
следовать за ним. Все, по-видимому, указывало на "сумасшедшего Шелли", как
на необходимую и достойную жертву, над которой остальные школьники могли
упражнять свои животные свойства.
"Я видел его, - писал один из его товарищей по школе, - окруженным со
всех сторон, с гиканьем и свистом его дразнили как бешенного быка". Если его
мучители желали довести свою жертву до припадков бешенства, им часто
удавалось достигнуть этой желанной цели. Но и здесь, так же как и в первой
школе, он приобрел расположение нескольких товарищей, которые описывают его
как благородное и чистосердечное существо, с удивительно-нежной душой,
обладавшее большим нравственным мужеством и не боявшееся ничего, кроме
низости и лжи. Никого из друзей не любил он так, как старого д-ра Линда из
Виндзора; это был человек оригинального характера и образа мыслей,
необычайно ласковый в обхождении. Шелли дал идеализированные портреты этого
друга своего детства в Зонорасе, в _Царевиче Атаназе_, и в старом
отшельнике, в _Возмущении Ислама_.
Интерес Шелли к тому, что можно назвать романтической стороной
современной науки, возрос в течение лет, проведенных в Итоне. Он читал
классиков, восхищался красотой их поэзии и с глубоким интересом относился к
философским воззрениям некоторых писателей - между ними были Лукреций и
Плиний, - но он не выказывал большой склонности к кропотливой точности
изучения. Главными властителями его ума были те мыслители XVIII века,
которые, казалось, соединили в известной гармонии разрушительный или
скептический критицизм века и те беспредельные надежды на будущее, что
поднимаются, как призраки, из развалин прошлого. Он был слишком юн, чтобы
извлекать уроки из опыта, которые давались событиями Французской революции,
по мере того как они развивались изо дня в день. С благоговением и восторгом
он воспринял доктрину _просвещения из политической справедливости_ Годвина.
Вместе с Кондорсэ он предвидел мечтой бесконечное развитие человеческого
рода. Его грезы были светлые, благородные юношеские грезы; и в самом деле,
они были не совсем безосновательны. Многое из того, что стало
действительностью в XIX столетии, выросло из видений и мечтаний
революционного времени; многое, быть может, еще осуществится.
Два момента из отрочества Шелли, памятные в истории развития его духа,
нашли отголосок в его стихах: во-первых, когда он поборол в себе чувства
злобы и мести, возбужденные преследованиями и тиранией школы, и поклялся,
что сам он будет справедливым, добрым, мудрым и свободным; во-вторых, когда
его воображение, освобожденное от порывов грубого фантастического ужаса,
обратило все свои силы на стремление к духовной красоте. Воспоминание о
первом моменте можно найти в посвящении к _Возмущению Ислама_; память о
втором - в _Гимне Духовной Красоте_. Оба эти высокие вдохновенные решения
возникли в весеннее время, когда пробуждающаяся жизнь природы как бы
поднимает жизненные силы духа.
Раньше, чем Шелли оставил Итон, он был уже писателем. Роман
_Застроцци_, напечатанный в апреле 1810 года, был написан им - по крайней
мере, большая часть его - годом раньше. Этот и следующий его роман, _Св.
Ирвайн, или Розенкрейцер_, появившийся до окончания того же года,
неописуемо, хотя отчасти постижимо, нелепы в своих беспорядочных стремлениях
к возвышенному, в своих вымученных ужасах, в своих ложных страстях, в своих
сентиментальных не-приемлемостях. Автор, еще мальчик, отдался своим
необузданным воображением современному романтическому движению,
представленному в худших своих образцах. Точно таким же образом он отдал
свой разум в рабство, вообразившее себя свободой, революционным теоретикам и
мечтателям. Детские романы Шелли перестают быть невыносимо плохими, если мы
ознакомимся с некоторыми романами того времени, издававшимися фирмой Minerva
Press; мы увидим тогда, что он был не создатель, а ученик того фантастически
нелепого, что ввели в моду мистрис Радклифф и Дж. Льюис и что как раз в это
время осмеивалось в _Northanger Abbey_, самой ранней повести наиболее
изящного из наших юмористов, бытописателя семейной жизни. В 1810 году
Медвином и Шелли сообща была написана поэма в семи песнях на сюжет _Вечного
Жида_. Четыре песни появились после смерти Шелли, но неизвестно, содержат ли
они более чем несколько строк самого Шелли. Небольшая книжка стихов, под
заглавием _Оригинальные стихотворения Виктора и Казиры_, произведение Шелли
и еще кого-то, появилась в свете в сентябре 1810 года; но она была поспешно
изъята из обращения издателем, когда он открыл, что одно из стихотворений
было просто выпиской из страниц Льюиса. Неизвестно, существует ли еще хоть
один экземпляр _Оригинальных стихотворений_, и вряд ли приходится сожалеть
об исчезновении этих стихов.
Существует предположение, что сотрудником Шелли, взявшим на себя
женское имя "Казиры", была его двоюродная сестра Гарриэт Гров, красивая
девушка одних лет с ним. Он любил ее со всем пылом первой страсти и охотно
сделал бы ее товарищем своих общественных, политических и религиозных
верований и безверии. Но тон их переписки испугал родных Гарриэт, и вскоре у
них оказалась в виду другая партия для нее. Шелли страдал очень или
воображал, что очень страдает, он горячо ораторствовал против ханжества и
решил отныне объявить войну против этого губителя человеческого счастья.
Шелли был внесен в списки студентов в University College в Оксфорде, в
апреле 1810 года, и переехал туда на жительство. В своем товарище-студенте,
Томасе Джефферсоне Хогге, сыне джентльмена из северных провинций и тори по
политическим убеждениям, он нашел себе самого близкого союзника. Хогг
обладал выдающимися умственными способностями и искренней любовью к
литературе. Направление его ума и характера отличалось от ума и характера
Шелли настолько, как только возможно себе представить: проницательный,
резкий, саркастический ум, не лишенный, впрочем, юного благородства, он был
глубоко заинтересован наблюдениями над этим странным и очаровательным
явлением, каким был идеалист Шелли среди оксфордской молодежи того времени.
Каждый, кто знает хоть что-нибудь о жизни Шелли, знаком с замечательными
изображениями Шелли в Оксфорде, в живописаниях Хогга. Каждый побывал
запросто, вместе с Хоггом, в комнатах колледжа, странно смущаемый видом
электрических и химических аппаратов; слушал пылкие речи молодого энтузиаста
о тайнах природы и еще более глубоких тайнах духа; видел его за любимым
занятием бросания камешков в воду и пускания бумажных корабликов по реке или
по пруду; ходил по окрестностям с обоими друзьями, совершавшими веселые
зимние прогулки, и разделял с ними их скромный ужин, по их возвращении
домой; бывал свидетелем нежной доброты "божественного поэта" к тем, кто
нуждался в поддержке сердца или руки его, а также и его внезапных взрывов
негодования против притеснителя и дурно поступающего; смеялся вместе с
повествователем над странными прихотями и фантазиями бессмертного ребенка,
"Преданность, почитание, благоговение, которыми он пламенел по
отношению ко всем учителям мысли", - говорит Хогг, - невозможно описать".
Биограф говорит о чистоте и "святости" жизни Шелли, о "кроткой вдумчивости"
его сердца и о "чудесной мягкости и благородстве" его характера. Но наряду с
поклонением этим самостоятельно избранным учителям своего ума, наряду с этой
чудесной мягкостью характера Шелли испытывал презрение к тому, что
унаследовано, к тому, в чем предание; его духовное дерзновение не было
обуздано надлежащим сознанием трудностей, облекающих великие задачи
человеческой мысли. Его путеводителями были светочи, освещавшие XVIII
столетие. Если бы он овладел Кантом так же, как Гольбахом, если бы он
подчинил свой разум Борку, как он подчинил его Годвину, он, быть может, не
возрос бы и не расцвел бы так скоро, но корни его проникли бы глубже и
крепче охватили бы землю. Трудно, однако, вообразить себе Шелли иным, чем он
был на самом деле. И очень возможно, что логическая гимнастика его изучения
мыслителей XVIII века, в особенности французских, до некоторой степени
спасла его от опасностей, которыми угрожала его чрезмерная склонность к
призрачному. "Не будь этого резкого сметания прочь духовной паутины, - пишет
Солт, - его гений, всегда склонявшийся к мистицизму и метафизическим
утонченностям, заблудился бы в лабиринте грез и фантазий и, таким образом,
растратил бы свой запас морального энтузиазма".
Пребыванию Шелли в Университетском колледже скоро пришел конец. В
феврале 1811 года, из провинциальной типографии в Ворсзинге, в Суссексе,
вышел маленький памфлет, озаглавленный - _Необходимость Атеизма_. Имени
автора не было, но в Оксфорде, где был выставлен на продажу этот памфлет,
было известно, что это - произведение Шелли. При допросе его наставником
колледжа Шелли отказался отвечать на вопросы, которые ему предлагались. Те
же самые вопросы были поставлены Хоггу, который добровольно выступил на
сцену, чтобы объясниться с властями. Он также отказался отвечать. И 25 марта
и тот и другой юноши были изгнаны из Университетского колледжа за упорство в
отказу отвечать на вопросы и за нежелание отречься от этого сочинения.
"Я был _когда-то_ пламенным деистом, - писал Шелли несколько недель
спустя. - Но никогда я не был христианином!" Его атеизм был скорее
отрицанием Творца, чем отрицанием живого духа вселенной. Христианином, в
теологическом смысле этого слова, он никогда не сделался; но, несомненно,
позднее, он глубоко чтил личность Иисуса. И его воинствующий пыл против
исторического развития христианства несколько померк, когда он ближе
познакомился с литературой и искусством средневековой Италии. Вера его
последних лет имела в себе нечто из идеализма Платона и Беркли и нечто также
из философской системы Спинозы.
Нужно сказать несколько слов о _Посмертных отрывках из сочинений
Маргарет Никольсон_, которые появились во время пребывания Шелли на первом
курсе в Университетском колледже. Эти поэмы, написанные с серьезным
намерением, но носившие на себе печать незрелости, были изданы под
прикрытием шутки. Быть может, они были переделаны, при содействии Хогга, с
целью комического эффекта. Маргарет Никольсон, сумасшедшая прачка,
покушалась на жизнь короля и попала в Бэдлам. Было решено, что она будет
автором стихов и что это издание будет посмертным, под редакцией
воображаемого племянника, Джона Фиц Виктора. Памфлет был издан в формате
in-quarto. Мистификация эта, быть может, веселила автора, но мы легко можем
поверить словам издателя, что это было мертворожденное произведение.
Покинув Оксфорд, два друга оставались некоторое время вместе, в
меблированных комнатах в Лондоне. М-р Тимоти Шелли отказался принять своего
сына в Филъд-Плэсе, пока он не порвет всякие сношения с Хоггом и не
подчинится назначенным для него воспитателям и гувернерам. Шелли отказался
принять подобные условия и остался изгнанником, лишенным своего дома, с
горьким чувством, что он был несправедливо караем за духовные убеждения, за
которые он морально не мог быть ответствен. После отъезда Хогга к друзьям
Шелли остался один в своей лондонской квартире. Младшие сестры его учились в
школе в Клэфэме, и через них он уже был знаком с их подругой, Гарриэт
Вестбрук. Это была хорошенькая шестнадцатилетняя школьница, свежая и
румяная, с приятным характером, ясной улыбкой и хорошими манерами, дочь
удалившегося от дел содержателя кофейной в Лондоне. Ее руководительница и
наставница, старшая мисс Вестбрук, девица тридцатилетнего возраста,
выказывала самый нежный интерес к молодому безбожнику, который вместе с тем
был и баронет, в будущем, с большим состоянием, закрепленным за этим
титулом. Она писала ему, приходила к нему с Гарриэт, водила его в церковь,
читала под его руководством еретические книги. Когда летом Шелли поехал
гостить к своему кузену м-ру Грову, в Квам-Илан в Рэдноршире, Вестбруки были
также в Уэльсе, и встречи продолжались непрерывно между Шелли и сестрами. По
возвращении Вестбруков в Лондон начали приходить тревожные письма от
Гарриэт. Ее преследовали дома; ее хотели принудить вернуться в школу, где
она чувствовала себя несчастной. Сопротивляться ли ей воле отца? И будет ли
дурно с ее стороны покончить свою жизнь? Пришло еще письмо, где она умоляла
Шелли о защите. Она готова бежать с ним, если он только захочет. Шелли
поспешил в Лондон, но перед отъездом из Уэльса он успел написать своему
кузену Чарльзу. Он говорил ему, что, если он отдает себя Гарриэт, это совсем
не из любви к ней, а из рыцарского чувства самоотвержения. При виде Гарриэт
он был поражен ее изменившимся лицом. Он приписал это ее страданиям из-за
семейных огорчений. Но она призналась, что это было не так, что она любит
его и боится, что он не ответит на ее любовь взаимностью. Они расстались, и
Шелли обещал, что, если она призовет его из деревни, он немедленно явится и
соединит ее судьбу со своей. Через неделю она позвала его. Тотчас были
сделаны приготовления к бегству, в почтовой карете, отправлявшейся на Север.
И 28 августа 1811 года Шелли и Гарриэт Вестбрук, имея девятнадцать и
шестнадцать лет от роду, соединили свои руки, как муж и жена, в Эдинбурге,
по обряду, требуемому шотландским законом. Потребовалось некоторое насилие
над принципами ученика Вильяма Годвина, чтобы подчиниться законной форме
брака. Но, ради положения Гарриэт перед лицом света, он согласился на то,
что он считал дурным. Он объяснил ей, что он, со своей стороны, не считает
этот договор связующим, если когда-нибудь в будущем их брак окажется для них
источником горя, а не счастья {См. последнее письмо Соути к Шелли, в
Southey's Correspondence with Caroline Bowles.}. И в этом он следовал
заветам своего учителя-философа.
На самом же деле в это время Шелли неизмеримо больше, чем Гарриэт, был
увлечен одной школьной учительницей в Суссексе, мисс Хитченер, которую он
идеализировал, как Эгерию или Цитну. Эта очень заурядная особа превратилась
в его юном воображении в прообраз всего, что есть наиболее возвышенного в
женственности. Но это было чувство поклонения и восторга, а не чувство
любви, могущее снизойти до обыденности брака. "Осуждай меня, если хочешь,
самый дорогой друг мой, - писал он ей, оправдываясь в своем браке, - ибо ты
все же самая дорогая для меня; но имей сострадание даже и к этой ошибке,
если ты осудишь меня". Ближайшее знакомство с мисс Хитченер, годом позже,
привело - как это часто бывало у Шелли - к идеализации в противоположную
сторону. Эта почтенная особа принимает образ демона себялюбия и гнусной
страсти; она все еще ангел, но ангел дьявольской породы.
Отец Шелли, до его свадьбы, назначил ему двести фунтов в год. Но теперь
он счел нужным проучить безрассудного мальчишку и прекратил высылку денег. В
конце концов, деньги были снова возвращены ему, и вместе с двумя стами
фунтов, что давал также м-р Вестбрук, юная чета могла не опасаться нужды.
Из Эдинбурга они поехали в Йорк, где попали поя надзор злого гения их
супружеской жизни, старшей сестры, Элизы Вестбрук, и где дурное поведение
Хогга вызвало временный разрыв между ним и Шелли. Из Йорка они переехали в
Кесвик. Отчасти их влекло туда потому, что там жил Соути, к поэзии которого
Шелли относился в то время восторженно. Соути принял молодую чету с
особенной приветливостью. Но нам Шелли он произвел впечатление угасшей силы,
увядшей ветви, потому что он мало интересовался метафизическими
утонченностями и утратил свою прежнюю веру в революционные отвлеченности.
Более родственное влияние имел на него Вильям Годвин, с которым Шелли
вступил в переписку, в Кесвике; он обнажал свою душу перед Годвином, как
перед философом-исповедником, внимал благоговейно его советам и надеялся на
счастье более тесного сближения с этим последним и величайшим из мудрецов.
Шелли желал сейчас же перевести свои идеи в действия, он искал кругом
поле битвы, где он мог бы сразиться за свободу, и ему показалось, что он
нашел его в Ирландии. Он приготовил _Обращение к ирландскому народу_,
состоявшее, как он говорит, "из благих и веротерпимых выводов философии,
изложенных самым простым языком". Он хотел говорить за освобождение
католицизма, за возобновление унии. Он хотел ввести в Ирландии систему
собраний для обсуждения социальных, политических и моральных вопросов. Он
хотел внедрять правила добродетели и милосердия. С этими целями он поехал в
Дублин, роздал там пару памфлетов, говорил на публичном митинге, где
произносил речь О'Коннель, обедал с Керрэном, - но не почувствовал ни
малейшей любви к своему хозяину. Он убедился в том, что положение ирландской
политики и партий было далеко не так просто, как он это представлял себе. И,
уступая советам Годвина и своему собственному сознанию неудачи, он покинул
Ирландию, сделав очень мало для той цели, к которой он стремился.
Из Дублина Шелли, с Гарриэт и неизбежной Элизой Вестбрук, уехал в Уэльс
и, после краткого пребывания среди лесов, ручьев и гор в Нантвилльте, отбыл
на берега Северного Девона и поселился, в июне 1812 года, в коттедже в
Линмаусзе, бывшем тогда уединенной рыбачьей деревушкой.
Эти июльские и августовские дни были счастливым временем в жизни Шелли.
Его привязанность к молодой жене перешла в искреннюю любовь; он имел
сношения с бессмертным Годвином; его лучезарное божество, мисс Хитченер,
навещала их коттедж и не успела еще превратиться в нестерпимое огорчение; ум
его был деятельно занят прозаическим сочинением, ратовавшим за свободу слова
- _Письмо к Лорду Элленборо_, - и несколькими обширными стихотворными
замыслами. Главное из этих произведений, _Царица Маб_, достаточно ясно
отражает дух автора в тот период, его убеждения, его надежды, его грезы, его
взгляды на прошедшее, его стремления к будущему.
Я уже говорил в другом месте, что это есть "род синтеза, гармонирующего
с политическим и социальным пылом, владевшим Шелли во время его путешествия
по Ирландии, со всей его мудростью, и безумием, и восторгом воображения,
пробудившегося среди величия и прелести Уэльсских холмов, и скал, и волн
Девона". Это памфлет в стихах, но в основе, под декламаторскими
пророчествами, лежит красота поэзии. Художественные эффекты здесь более
театральны, чем фантастичны, в высоком значении этого слова. Мысль часто
незрела. Произведение это страдает моральной узостью, отчасти исходящей из
учения Годвина, - из предположения, что зло существует более в человеческих
учреждениях, чем в человеческом характере. Его обзор прошлого истории
общества поверхностен и односторонен; его надежды на будущее большею частью
фантастичны. Но все же эта поэма, занимающая середину между юношескими
произведениями Шелли и творениями его зрелых лет, имеет значение, благодаря
глубокой любви к человечеству и мощи воображения, развивающего идею
вселенной: единство природы, всеобщность закона, громадный и непрестанный
поток Бытия, вечно подверженный процессу совершенствования и развития. В
некоторых местах автор перестает быть доктринером и риториком, и встает
поэт, могущий равно изъяснять явления внешней природы и томления
человеческого сердца. "Дрянной вздор, - говорит сам Шелли о _Царице Маб_,
когда в 1821 году вышло издание ее, без его разрешения. Но время, третейский
судья, решило, что эта поэма составляет важную часть его вклада в нашу
литературу. _Царица Маб_ была закончена в феврале 1813 года и напечатана в
том же году, для частного распространения.
Пребыванию Шелли в Линмаусзе наступил безвременный конец. Он забавлялся
- с серьезным видом - бросанием в Бристольский канал ящиков и бутылок, куда
он вкладывал по экземпляру написанного им летучего листка _Декларация прав_
или своей поэмы _Прогулка дьявола_. Он поручал ветрам и волнам пустить их в
обращение. 19 августа было обнаружено, что его слуга, ирландец, разбрасывает
около Барнстепля экземпляры _Декларации_, статьи против правительства и
общества, изданной по образцу документов Французской революции. Ирландец был
арестован, уличен и приговорен к шести месяцам тюремного заключения. Его
хозяин, сделав все возможное, чтобы облегчить Дэну его пребывание в тюрьме,
поспешно оставил линмаусзский коттедж и нашел себе пристанище в маленьком
городке Тремадоке, в графстве Карнарвонском. Здесь одно время Шелли очень
увлекался судьбой большого сооружения - насыпи, возводимой с целью отвоевать
у моря полосу земли. Он пытался собрать капиталы для продолжения этого
предприятия, принял в нем участие сам, в размерах больших, чем позволяли его
средства, ездил в Лондон хлопотать о дальнейшей подписке. В Лондоне, в
октябре 1812 года, он впервые встретился лицом к лицу с Годвином, и
впечатление, с обеих сторон, было благоприятное. Он возобновил свою дружбу с
Хоггом; порвал окончательно с обожаемой некогда, а ныне ненавистной мисс
Хитченер и присоединил к кругу своих знакомых привлекательное семейство м-ра
Ньютона, ревностное вегетарианство которого располагало к нему Шелли. В
течение зимы, проведенной им в Уэльсе, он щедро заботился о бедных. Он
изучал французских просветительных философов; по совету Годвина он старался
приобрести действительные познания в истории; он увеличил количество своих
рукописных поэм и изготовил к печати целый ряд избранных мест из Библии,
выбранных с целью установить чистую нравственность, не загроможденную тем,
что Шелли именовал библейской мифологией. В ночь на 26 февраля 1813 года в
уединенный дом Тэнирольта, где жил Шелли, забрался какой-то злоумышленник, с
целью грабежа. Встревоженный шумом, Шелли вышел, с пистолетами в руках из
своей спальни. Раздались выстрелы, и произошла схватка, окончившаяся
бегством грабителя. Были попытки подорвать веру в это приключение. Хотя нет
достаточных оснований, чтобы не верить ему, но, быть может, следует
признать, что переутомленные нервы Шелли разыгрались после этого нападения и
что покушение убить его в ту же ночь, о котором он говорил потом, было
обманом его воображения.
Во второе свое путешествие в Ирландию Шелли проехал на юг до Килларнэ и
Корка. В апреле он уже был опять в Лондоне, где, в июне 1813 года, у него
родился первый его ребенок, дочь, которой дали имя Ианте. "Он чрезвычайно
любил своего ребенка, - говорит Пикок, - и подолгу мог расхаживать взад и
вперед по комнате с ребенком на руках, напевая ему монотонную мелодию своего
собственного изобретения".
Как только Гарриэт поправилась, она и муж ее поехали в Брэкнель, в
Беркшире. Их притягивало туда присутствие мистрис Бойнвилль, свояченицы
вегетарианца Ньютона, и ее замужней дочери, Корнелии Тернер. Эти новые
друзья их были образованные, утонченные, восторженные люди, быть может,
немного сентиментальные. Вместе с Корнелией, бывшей ему товарищем по учению,
Шелли подвинулся вперед в изучении Ариосто, Тассо и Петрарки. Это время
могло бы быть очень счастливым, если бы денежные дела не тревожили Шелли. Но
долги накоплялись, и он принужден был занимать деньги за громадные проценты,
под будущее свое наследство. В октябре он оставил Брэкнель и проехал к
Северу, на английские озера, а оттуда в Эдинбург. Но он недолго пробыл в
Шотландии. Раньше, чем кончился год, он поселился в меблированной квартире в
Виндзоре, среди тех мест, которые он посещал школьником, и неподалеку от
Брекнеля, где еще жили Бойнвилли. Некоторое время он был занят диалогом,
изданным в 1814 году под заглавием _Опровержение деизма_, где он доказывает,
что не может быть середины между христианством и атеизмом.
Для того чтобы доставать деньги, необходимо было поставить вне всяких
сомнений законность сына и наследника, могущего родиться у Шелли. Вероятно,
поднимались уже вопросы о законной силе шотландского брака. И поэтому 24
марта 1814 года Шелли повторил обряд венчания с Гарриэт, согласно правилам
англиканской церкви. Но еще до этого события семейное счастье их было
жестоко омрачено. Если когда-нибудь существовала между Шелли и его молодой
женой какая-нибудь духовная или умственная связь, она порвалась теперь. Жена
его стремилась к более светской жизни, которую он не переносил. Ее траты на
наряды, серебро и обстановку все глубже погружали его в долги, они
становились уже бедствием и унижением. Присутствие Элизы Вестбрук в семье
сделалось невыносимым; а между тем Элиза Вестбрук была всегда налицо. Шелли
желал, чтобы Гарриэт кормила сама своего ребенка; а Гарриэт настаивала на
том, чтобы взять кормилицу. Наконец старшая сестра удалилась; но Гарриэт,
после ее отъезда, усвоила себе холодное и резкое обращение, как человек
несправедливо пострадавший. Шелли искал себе некоторое подобие утешения в
дружбе с мистрис Бойнвиль и мистрис Тернер. В мае он умолял о примирении, но
тщетно. Гарриэт оставила его дом и переехала на житье в Басз, а муж ее
переселился в Лондон.
Со свойственной ему щедростью он помогал в то время Годвину, которому
до крайности нужна была в то время большая сумма денег. В мае или июне Шелли
впервые остановил свой взгляд на Мэри, дочери Годвина и Мэри Вульстонкрафт.
Она только что возвратилась из поездки в Шотландию. Это была девушка лет
семнадцати, с золотистыми волосами, с бледным чистым лицом, высоким лбом и
серьезными карими глазами. У нее был сильный ум, большое нравственное
мужество и твердая воля в соединении с чуткостью и жаром души. Вторая
мистрис Годвин сделала несчастной домашнюю обстановку для Мэри. Ее и Шелли
влекло друг к другу чувство, сначала казавшееся им дружбой, но вскоре они
увидели, что это была любовь. В то же самое время - если только можно верить
словам дочери мистрис Годвин, Клэр Клэрмонт, - Шелли не только убедился в
том, что Гарриэт перестала любить его, но, как он утверждал, он знал
наверное, что она изменила ему и вступила в связь с одним ирландским
офицером, Райэном. Не доказано, чтобы у Шелли были улики, достаточные для
такого обвинения; сама же Гарриэт уверяла в своей верности. Ее уверения
поддерживают Торнтон Гент, Хукхэм, Хогг и другие. Но в 1817 году Годвин
говорил, что од знает из достоверного источника, не имеющего никакого
отношения к Шелли, что Гарриэт была неверна своему мужу еще до того, как они
разошлись.
Мы можем вполне допустить, что Шелли мог уварить себя самого в том,
чего на самом деле не было. Он написал Гарриэт, прося ее приехать в Лондон.
По прибытии ее (14 июля) он сказал ей, что не считает ее больше своей женой,
что сердце его отдано Мэри Годвин, но что он будет продолжать, по мере
возможности, заботиться о ней. Потрясение и волнение, причиненные этим
заявлением Шелли, вызвали болезнь Гарриэт, во все время которой Элиза
Вестбрук находилась безотлучно при ней. Шелли умолял больную вернуться к
жизни и здоровью. Но его решение расстаться с ней осталось непоколебимым.
Сделав некоторые распоряжения касательно материального благосостояния
Гарриэт, он приготовился, без ведома Годвина и его жены, бежать с Мэри. И
утром 28 июля 1814 года беглецы были на пути к Франции. Они убедили Клэр
Клэрмонт, дочь жены Годвина от ее первого брака, сопутствовать им.
Опоэтизированный рассказ о днях страдания Шелли с Гарриэт находится,
вероятно, в исповеди заключенного в сумасшедшем доме - в Юлиане и Маддало.
Более ясное изложение причин их разрыва, с изменением имен, есть в повести
мистрис Шелли Лодор.
Переправившись из Дувра в Кале в открытой лодке, беглецы направились в
Париж. Там они достали денег и пустились в путь, в Швейцарию, Шелли пешком,
а Мэри и Клэр на муле. Из Труа Шелли написал Гарриэт письмо, которое было бы
прямо непостижимо, если бы оно исходило от кого-нибудь иного, кроме Шелли.
Он выражал в нем надежду, что она последует за ними и поселится в
непосредственной близости от них, и он будет заботиться о ней. По прибытии в
Бруннен, на Люцернском озере, они наняли себе комнаты; но, предвидя
затруднения для получения денег на таком далеком расстоянии от Англии, они
быстро повернули обратно, спустились по Рейну до Кельна и после
шестинедельного отсутствия появились в Лондоне, в половине октября.
Месяцы, проведенные в Лондоне от половины сентября до января 1815 года,
были временем испытаний и горя. Годвин чуждался их. Сношения с Гарриэт, у
которой в ноябре родился второй ребенок Шелли, сын, были тягостного
свойства. Была крайняя нужда в деньгах, и, в течение нескольких дней, Шелли
пришлось разлучиться с Мэри и скрываться от кредиторов. Но начавшийся 1815
год изменил его положение. 6 января умер его дед, и Шелли оказался ближайшим
наследником большого состояния. Уступив отцу свои права на часть имения, он
обеспечил себе ежегодный доход в тысячу фунтов, а также получил значительную
сумму на уплату своих долгов. Но, к несчастью, в то самое время, как
улучшились его материальные средства, его здоровье стало ухудшаться. Летом
он путешествовал по Девону, а в начале августа нашел себе счастливое место
отдохновения в Бишопсгэте на окраине Виндзорского парка. В сопровождении
Мэри и своего друга Пикока он провел несколько восхитительных дней в речном
путешествии вверх по Темзе до Лечлэда. Он оставил нам воспоминание об этом в
одном из своих ранних лирических произведений. По возвращении домой, в
аллеях большого Виндзорского парка, он написал первую поэму, показавшую, что
гений его возмужал, - Аластора. Это есть, в самом глубоком смысле,
оправдание любви человеческой - той любви, которой сам он искал и нашел. Это
- порицание гения - ищущего красоты, ищущего истины, - который живет один, в
стороне от человеческих привязанностей. Но все же участь этого одинокого
идеалиста, говорит Шелли, менее печальна, чем судьба того, кто тучнеет в
бездействии, "не мучаясь священной жаждой неверного знания, не обольщаясь
чудесным суеверием". Эта поэма есть чудно-вдохновенное воспоминание
пережитого им за прошедший год - в ней его думы о любви и смерти, его
впечатления от природы, навеянные швейцарскими горами и озерами, излучистой
Рейсой, скалистыми ущельями Рейна и осенним великолепием Виндзорского леса.
В январе 1816 года у Мэри родился сын, названный Вильямом, в честь ее
отца. Годвин все еще держался в отдалении от Шелли, хотя удостаивал
принимать от него щедрые денежные дары. В конце концов Шелли начало это
возмущать, но, тем не менее, он продолжал помогать Годвину, насколько он
мог. Ему казалось, что Мэри и он будут счастливее в чужой стране, чем в
Англии, где родные и прежние друзья отворачивались от них с гневом и стыдом.
Было решено сделать эту попытку и пожить на чужбине. Отсутствие английских
полей и небес могло быть отчасти вознаграждено уменьшением дороговизны
жизни. В первые дни мая 1816 года Шелли, Мэри, маленький Вильям и Клэр
Клэрмонт ехали в Женеву, через Париж.
Ни Шелли, ни Мэри не имели ни малейшего понятия об отношениях Байрона к
мисс Клэрмонт, когда они уезжали из Англии. Но Клэр упросила Шелли взять ее
с собой в путешествие именно потому, что она надеялась встретиться там с
Байроном. В Сешероне, маленьком предместье Женевы, встретились два великих
поэта. Когда Шелли занял виллу по ту сторону озера, а Байрон скрылся от
надоедавшей ему публики в вилле Диодати, между ними были постоянные
сношения. Они гребли и катались на лодке вместе и в конце июня объехали
кругом озера. Во время этой поездки был написан _Шильонский Узник_.
Сопутствуемый Мэри, Шелли посетил Шамуни. Впечатление, произведенное на него
швейцарской природой, можно видеть в поэме _Монблан_ и в благородном _Гимне
Духовной Красоте_. Мэри также обратилась к творчеству и составила план своей
повести _Франкенштейн_, написанный по уговору, что каждый из друзей - она,
Байрон, Шелли и молодой врач Полидори - должны сочинить страшную историю с
привидениями. Но, несмотря на; все прелести Швейцарии, сердца Шелли и Мэри
томились по Англии. Перед отъездом из Женевы они имели удовольствие
познакомиться с Дж. Льюисом, знаменитым автором _Монаха_ - книги, которую
Шелли, еще мальчиком, читал с упоением. В начале октября они еще раз
вступили на английскую землю.
Но, казалось, они вернулись лишь для того, чтобы встретить несчастья. 9
октября, Фанни, дочь Мэри Вульстонкрафт и единокровная сестра Мэри, уже
несколько времени находившаяся в угнетенном душевном состоянии, покончила с
собою ядом, в гостинице, в Свансее. Испуганный ее отчаянным письмом, Шелли
поспешил к ней из Басза, где он жил в то время; но он приехал слишком
поздно. Это волнение и огорчение пагубно отразились на здоровье Шелли, и
хорошо еще, что в то время он нашел себе друга с веселым и бодрым характером
в Лей Генте. Но несчастье шло за несчастьем. В ноябре Шелли начал
разыскивать Гарриэт, которая исчезла с его горизонта и от своего отца. 10
декабря ее труп был найден в Serpentine river. Первое время после разрыва с
Шелли она надеялась, что он вернется к ней; когда эта надежда исчезла, она
была глубоко несчастна. Она жаловалась на стеснения, которые она испытывала
в доме отца, и уже говорила о самоубийстве. За несколько времени до смерти
она вырвалась из этой стеснительной обстановки. Ее трехлетняя дочь и ее
двухлетний сын были отправлены к одному пастору, в Ворвик. По словам
Годвина, одно время она жила открыто с одним полковником; Годвин называет
его имя. Потом, по-видимому, она опустилась еще ниже и была покинута.
Извещая Шелли об этом ужасном происшествии, книгопродавец Хукхэм говорит,
что, если бы она прожила еще немного, у нее родился бы ребенок. Судебное
следствие подтвердило это. Шелли был глубоко потрясен, но не так, как если
бы он считал себя виновным в этом несчастии. "Я призываю в свидетели Бога,
если только это Существо смотрит теперь на вас и на меня, - писал он
впоследствии Соути, - и я обязуюсь, если, как вы, быть может, надеетесь,
после смерти мы с вами встретимся перед Его лицом, - я обязуюсь повторить
это в Его присутствии: вы обвиняете меня несправедливо. Я неповинен в зле -
ни делом, ни помышлением". Теперь он мог дать Мэри принадлежавшее ей по
праву имя своей жены и, не теряя времени, он обвенчался с ней (30 декабря
1816 года). Он потребовал своих детей от Вестбруков, но ему в этом было
отказано. После томительных канцелярских проволочек, лордом Эльдоном был
поставлен приговор по делу, гласивший, что, принимая в соображение, что
убеждения, проповедуемые Шелли, ведут к образу жизни, который закон считает
безнравственным, дети не могут быть доверены его непосредственному
попечению; но, так как он указывает подходящих людей для воспитания их - д-р
и м-сс Юм, - дети будут вверены этим попечителям на все время их
малолетства, и отцу будет дозволено, в определенное время, видеться с ними.
Решение канцлера не хотело быть резче, чем это казалось необходимым. Но
отнятие детей было гораздо более тяжелым ударом для Шелли, чем смерть их
матери. Одно время он боялся даже, что и малютку Вильяма возьмут у него.
Пока дело тянулось у канцлера, Шелли жил в Марло, на Темзе. Бывая в
Лондоне, он иногда навещал Гента и в его доме встретился с Китсом и
Хэзлиттом. Он был теперь в дружеских отношениях с Годвином и приобрел себе
нового и ценного друга в лице Хорэса Смита. В Марло, несмотря на все
судебные волнения, у него было много счастливых минут. Он много читал по
классической и современной литературе; он задумал и написал некоторые части
_Царевича Атаназа_ и _Розалинды и Елены_. А когда он оставался один в лодке
на Темзе или среди бршэмских лесов, он неуклонно шел вперед в развитии
своего обширного эпоса революции и контрреволюции - _Лаона и Цитны_. "Он
видел, или думал, что видит, - я привожу слова, раньше написанные мною, -
что самым великим событием века было огромное движение к перестройке
общества, движение, в котором Французская революция была ошеломляющим
фактом, породившим много дурного и много хорошего. Его желанием было
воспламенить в людях вновь стремление к более счастливому состоянию
нравственного и политического общества; и в то же время он желал
предостеречь людей от опасностей, возникающих в момент революции, вследствие
эгоизма людей, их вожделений и низких страстей. Он хотел изобразить истинный
идеал революции - национальное движение, основанное на нравственном
принципе, вдохновляемое справедливостью и милосердием, не запятнанное
кровью, не омраченное буйством и употребляющее материальную силу только для
спокойного применения к действию духовных сил. К несчастью, наряду со всем,
что было замечательного в революционном движении того времени - с
энтузиазмом человеколюбия, с признанием значения нравственности в политике,
с чувством братства всех людей, - наряду со всем этим в поэме Шелли
находятся также и все узкие софизмы этого движения. Иллюзии Шелли теперь не
могли бы увлечь ни одного мыслящего ума. Но его благородный пыл, трепетная
музыка его стиха, яркая огненная красота образов все еще чаруют души людей".
Уже вышло несколько экземпляров _Лаона и Цитны_, когда раздались
негодующие голоса, смутившие издателя Олльера. Он потребовал, чтобы были
сделаны некоторые изменения. Он уверял, что резкие нападки на теизм и
христианскую веру были, дурно истолкованы и неуместны. Взаимные отношения
героя и героини, брата и сестры, давали повод к сильному негодованию. И это
правда, что в данном случае поэма Шелли являлась ярким примером спутанности
революционного образа мыслей, который, с помощью отвлеченных и ошибочных
понятий, старается разрушить общественные чувства и отношения, являющиеся
прекраснейшим результатом эволюции нашей расы. Немногими взмахами пера и
урезкой нескольких страниц поэма _Лаон и Цитна была превращена в _Возмущение
Ислама_. Было потеряно при этом несколько замечательных строк. Но, уступив
давлению общественного мнения, высказавшегося через его издателя, Шелли
удалил известное этическое пятно, которое могло бы исказить художественное
впечатление от его поэмы для многих из его читателей.
В течение первых месяцев 1817 года последствия неурожая тяжело
отразились на бедном населении Марло, главным заработком которого служило
плетение кружев. Шелли, говорит Пикок, постоянно был среди них и, по мере
возможности, помогал в самых крайних случаях нужды. Он составил себе свою
особую систему помощи: между нуждающимися он отдавал предпочтение вдовам и
детям. Горе и страдания рабочих масс тяжелым гнетом ложились на его душу. Но
в своем _Предложении ввести изменения в способ подачи голосов_ Шелли,
"отшельник из Марло", гораздо умереннее в своих требованиях немедленной
реформы, чем многие из его политических современников. На самом деле это
было одним из свойств Шелли. Он был врагом насилия и бывал доволен даже
малым успехом для начала, хотя его грезы об отдаленном будущем никогда не
позволяли ему успокоиться на какой-нибудь временной удаче. Поэзия Шелли
отражает его видения как пророка далекого золотого века. А его прозаические
произведения выражают его мысли как практического деятеля. В своем Обращении
к народу по поводу смерти принцессы Шарлотты он оплакивает смерть молодой
матери и жены, но он видит горшее бедствие, и заслуживающее более глубокой
скорби, в положении народа в Англии. Заботы Шелли о бедных, его волнения
из-за его судебного дела и возбуждение, связанное с поэтическим творчеством,
сильно расшатали его здоровье. Опасались даже, что в его организме появились
зародыши чахотки. Он решил оставить Марло - этот город, очевидно, не был для
него подходящим местожительством - и задумал попробовать пожить в Италии.
Еще одно обстоятельство привлекало его туда: Байрон был в Венеции, и Шелли
желал, чтобы дочь Байрона, Аллегра, ребенок мисс Клэрмонт, была отдана на
попечение своему отцу. Не без колебаний мать согласилась на это. 12 марта
Шелли в последний раз взглянул на английские поля и небеса. В сопровождении
Мэри, маленького Вильяма, крошечной дочери Клары (родившейся 2 сентября 1817
года) и мисс Клэрмонт с ее ребенком Шелли приехал в Дувр, потом отправился
на Юг и, переехав Мон-Сени, прибыл в Милан 4 апреля 1818 года.
Шелли надеялся поселиться на берегах Комо, но там не нашлось
подходящего для них помещения. Они побывали в Пизе, потом в Ливорно. В этом
последнем городе жили м-р и мистрис Джисборн с сыном мистрис Джисборн от ее
первого брака, молодым инженером Генри Ревели. Мистрис Джисборн была старый,
испытанный друг Годвина. Это была женщина с прекрасным характером -
отзывчивая, скромная, образованная, с большой духовной любознательностью.
Конечно, встретить таких знакомых в чужой стране являлось истинным счастьем.
Лето было проведено восхитительно на луккских купаньях, под сенью зеленых
каштановых деревьев, под шум Лимы, разбивающейся о свои скалы. В течение
этих летних недель Шелли воспроизвел по-английски _Пир_ Платона - перевод,
сохранивший в себе многое из сверкающей красоты подлинника. В угоду Мэри он
вернулся к неоконченной _Розалинде и Елене_, начатой в Марло, и быстро довел
ее до конца. Эта поэма, отчасти навеянная некоторыми обстоятельствами из
жизни подруги Мэри, Изабэль Бусз (урожденной Бакстер), была напечатана
весной 1819 года вместе со _Строками, написанными среди Евганейских холмов,
Гимном Духовной Красоте_ и сонетом _Озимандия_.
Желая видеть свою дочь Аллегру, мисс Клэрмонт в августе поехала в
Венецию, и Шелли с ней. Байрон дружески предложил Шелли, чтобы он и вся его
семья поселились в его вилле в Эсте, среди Евганейских холмов; мисс Клермонт
могла бы тогда некоторое время наслаждаться обществом Аллегры. Предложение
это было принято с радостью. Мэри с детьми приехала в Эсте, но маленькая
Клара опасно заболела. Необходимо было посоветоваться с врачом в Венеции.
Как на беду, был позабыт паспорт, но стремительная горячность Шелли сломила
сопротивление солдат. Испуганные родители прибыли в Венецию (24 сентября)
только для того, чтобы услышать, что надежды нет. Через час Клара лежала
мертвая на руках у матери.
Впечатления Шелли от Венеции и Байрона, в этот период, можно найти в
его письмах и в его удивительной поэме _Юлиан и Маддало_. В письмах
обнажается грубая сторона жизни Байрона в Венеции. В поэме изображен портрет
Байрона, нарисованный без его дурных черт и без темных красок. События,
которые там упоминаются - прогулка по Лидс, великолепие заката, наблюдаемого
с гондолы, посещение угрюмого острова, с башней и колокольней, вид Аллегры,
в ее ясном младенчестве, - все это, вероятно, есть идеализация того, что
было в действительности. В рассказ сумасшедшего Шелли вплетает воспоминания
о своем собственном несчастном прошлом.
Но мысли его были заняты более обширными планами - трагедией _Тассо_
(из которой мы имеем несколько отрывков), лирической драмой на сюжет,
почерпнутый из _Книги Иова_, и _Освобожденным Прометеем_. В вилле Эсте было
почти закончено первое действие _Прометея_, в первых числах октября 1818
года. Мужество героя, спасителя рода< человеческого, и его конечная победа -
эта тема затрагивала самые глубокие чувства Шелли и будила в нем
благороднейшие силы его воображения.
На зимнее время был желателен более теплый климат, чем климат северной
Италии, и в ноябре Шелли с семьей поехал на юг. Величие Древнего Рима,
сохранившееся в его памятниках, произвело на него глубокое впечатление, и он
начал рассказ о Колизее, который, однако, никогда не был окончен. Но Шелли
избрал Неаполь своим местопребыванием на зиму, и поэтому в конце ноября он
направил туда свой путь. Нет прозы на нашем языке, более залитой сиянием и
красотой, чем письма Шелли, повествующие о его посещениях Помпеи, Везувия,
Пестума. Воспоминания о дне, проведенном в Помпее, появляются в его _Песне к
Неаполю_, написанной два года спустя. Но несомненно, что дух Шелли часто
изнемогал в Неаполе; и эта тоска его нашла поэтическое выражение в одном из
самых трогательных его лирических стихотворений. Весной 1819 года он
вернулся в Рим, видел все процессии и обряды Святой Недели и изучал
классическую скульптуру и живопись Возрождения. Второе и третье действия
_Освобожденного Прометея_ были написаны среди развалин Терм Каракаллы,
заросших в ту пору года цветами и цветущими кустарниками. "Яркое голубое
небо Рима, - пишет он, - влияние пробуждающейся весны, такой могучей в этом
божественном климате, и новая жизнь, которой она опьяняет душу, были
вдохновением этой драмы". Ее четвертое действие - дивное послесловие - было
прибавлено в декабре 1819 года во Флоренции.
Пребывание в Риме было омрачено в июне самым тяжким горем последних лет
жизни Шелли. 7 июня умер его любимый сын, Вильям. Отец не отходил от него в
течение шестидесяти часов агонии. Маленькое тело было погребено на
английском кладбище, около Porta San Paolo. Тоска Мэри не знала границ. Ей
казалось, что все счастье ее погибло навсегда. Для того чтобы она могла
пользоваться обществом мистрис Джисборн, они наняли на три месяца виллу
Вальсовано, неподалеку от Ливорно. Здесь, на стеклянной террасе на верху
дома, Шелли занимался, размышлял и купался в лучах летнего солнца. Трагедия
_Ченчи_, начатая в Риме и прерванная смертью сына, теперь быстро подвигалась
вперед. Описание тиранической власти, в лице графа, и мученической силы, в
Беатриче, рожденной для ласки и любви, удивительно согласовались с гением
Шелли. По существу человечная и реальная, драма развивается между идеальными
страстями. Ужас облагораживается здесь красотой, как Шелли сам говорил это в
своих стансах, внушенных _Медузой_ Леонардо да Винчи. Небольшое издание этой
трагедии было напечатано в Ливорно и послано в Англию на продажу, к Олльеру.
Но творчество шеллиевского чудесного года (annus mirabllis), 1819-го,
еще не закончилось. Во Флоренции, куда он переехал в октябре, после летнего
пребывания в Ливорно, он писал заметки о скульптурных произведениях и
картинных галереях. И в то же время он не забывал Англии и ее общественных и
политических нужд. В своем неоконченном _Философском взгляде на реформу_ он
пытается исследовать причины бедствий английского народа и предлагает
принять надлежащие меры. Весть о так называемой "манчестерской резне"
глубоко взволновала Шелли и побудила его написать его замечательный
_Маскарад Анархии_, в котором он увещевает своих соотечественников
обратиться на путь мира и здравомыслия - единственный путь, ведущий к
свободе. В своей фантастической сатире _Питер Белл Третий_ он рисует
Вордсворта, сделавшегося тори, как пример гения, поддавшегося притупляющему
влиянию "света". Эта поэма представляет из себя образец, не совсем удачный,
обращения Шелли к элементу гротескного и юмористики. Его великая _Песнь к
Западному Ветру_, в которой лирическая ширь сливается воедино с силой
лиризма, непревзойденной еще в английской поэзии, была задумана и частью
даже написана в лесу, обрамляющем Арно, в один из дней, когда осенний ветер
собирал туманы и дождевые тучи. Но в воображении Шелли этот дикий осенний
ветер становится предвестником весны. И наконец, в часы, когда он чувствовал
себя неспособным творить, он излагал изящными английскими стихами драму
Еврипида _Циклопы_. Конечно, ни один поэт не одарил английскую поэзию столь
богатыми дарами, в течение одного только года, как это сделал Шелли в 1819
году.
12 ноября, во Флоренции, у него родился сын, Перси Флоренс, которому
суждено было пережить своего отца и быть утешением своей матери в ее горе.
Когда стала надвигаться зима, Шелли, страдавший от суровости климата,
решил переехать в Пизу, где воздух был мягок, вода удивительно чиста и
имелся замечательный врач, Вакка Берлингиери, к которому можно было
обращаться за советами. Большая часть его жизни, с января 1820 года до его
кончины, была проведена им в Пизе. Присутствие м-ра Тайга и леди
Маунткэшелль (бывшей ученицы Мэри Вульстонкрафт) делало это место еще более
привлекательным. Летом 1820 года Шелли переехал с семьей в дом Джисборнов в
Ливорно, бывший тогда незанятым. Здесь было написано самое восхитительное из
поэтических посланий, _Письмо к Марии Джисборн_. Мэри немного воспрянула
духом, и малютка Перси был "самым веселым ребенком в мире". Но мать его не
была всецело поглощена домашними заботами, потому что она с большим
увлечением предалась изучению греческого языка, в то время как Шелли был
занят праздничной работой, так блестяще удавшейся ему, - переложением в
октавы гомеровского _Гимна к Меркурию_.
Когда жара стала усиливаться, они нашли себе убежище на водах
Сан-Джулиано, в четырех милях от Пизы. Во время прогулки на Монте Сан
Пеллегрино - сборное место богомольцев в известное время года - у Шелли
возникла мысль его _Волшебницы Атласа_, и поэма была написана в три дня,
непосредственно следовавшие за его возвращением на купанья. Мэри
предпочитала бы, чтобы он избрал сюжет менее далекий от человеческих
симпатий. Она шутливо укоряла его, и ее порицание вызвало пленительное
возражение во вступительных стансах. Когда же, немного позднее, он обратился
к гротескной обработке происшествий из современной истории, результаты были
далеко не так удачны. _Эдип Тиран, или Тиран Толстоног_, драматизирующий, с
сатирической целью, дело королевы Каролины, принадлежит к наименее
счастливым попыткам автора, хотя имеет известное значение как одна из
любопытных граней его ума. _Тиран Толстоног_ был издан в Лондоне в 1820
году, но почти тотчас же был изъят из обращения издателем.
Осенью 1820 года Шелли с женой и малюткой-сыном возвратился в Пизу. С
ними более не было мисс Клэрмонт, взявшей себе место гувернантки во
Флоренции. Но Шелли переписывался с ней и принимал живейшее участие во всем,
что ее касалось. Вокруг него собрались в Пизе друзья и знакомые: его
двоюродный брат и старый школьный товарищ, Томас Медвин, теперь драгунский
капитан, недавно вернувшийся из Индии; ирландский граф Таафе, считавший себя
лауреатом города и ученым критиком итальянской литературы; знаменитый
импровизатор Сгриччи и князь Маврокордато, сын бывшего господаря Валахии,
ставший впоследствии выдающимся деятелем Греческой революции. Через бывшего
профессора физики в Пизанском университете, Франческо Паккиани, Шелли
познакомился с Эмилией, дочерью графа Вивиани, которая провела два года в
заключении, в монастыре святой Анны. Мэри и Шелли - оба очень
заинтересовались этой красивой итальянской девушкой. Ее молодость, ее
очарование, ее печали пробудили в Шелли всю идеализирующую силу его
воображения. Она представлялась ему олицетворением всего, что есть
лучезарного и божественного - к чему можно стремиться, но чего достичь
невозможно, - совершенством красоты, истины и любви. Для него, как для
человека, это была живая, земная, обаятельная женщина и предмет нежной
заботливости. Для него, как для поэта, она возвышалась до воплощения идеала.
С этим чувством к Эмилии он написал свой _Эпипсихидион_. "Это, - говорит он,
обращаясь к мистрис Джисборн, - мистерия; что же касается действительной
плоти и крови, вы знаете, я с этим ничего не имею общего... Я желал бы,
чтобы Олльер не распространял этой вещи, кроме как среди разумеющих
(;;;;;;;); но даже и они, кажется, склонны приобщить меня к кругу горничных
и их ухаживателей". Как это часто бывало раньше, Шелли, в свое время, вышел
из этого идеализирующего настроения. "_Эпипсихидион_, - писал он потом, - я
видеть не могу; особа, которая там воспевалась, была облаком, а не Юноной; и
бедный Иксион спрыгивает с центавра, бывшего порождением его собственных
объятий". Тот же восторженный пыл, нашедший себе поэтическое выражение в
_Эпипсихидионе_, придал возвышенность тона критическому очерку Шелли Защита
поэзии, написанному в феврале и марте 1821 года в ответ на _Четыре возраста
поэзии_ Пикока. Быть может, это самое замечательное из произведений Шелли в
прозе, и статья является как бы непреднамеренным описанием приемов его
собственного творчества.
Лето 1821 года, как и предыдущее лето, было проведено на водах
Сан-Джулиано. В Пизе Шелли подружился с молодым драгунским лейтенантом,
Эдуардом Уильямсом, который вместе со своей женой стремился в Италию,
отчасти благодаря обещанию Медвина познакомить их с Шелли. Уильямсы наняли
прелестную виллу в четырех милях от дома Шелли, на купаньях; и между ними
было легкое и приятное сообщение, на лодке, по каналу, снабжаемому водой из
Серкио. Эдуард Уильямс был прямой, простой, сердечный человеку живо
интересовавшийся литературой; Джейн обладала нежной вкрадчивой грацией и
услаждала слух Шелли мелодиями своей гитары. Дни проходили счастливо и
промелькнули бы без всякого достопамятного происшествия, если бы не одно
событие, не связанное непосредственно с обитателями вод. В феврале 1821 года
умер Китс в Риме; но известие об этом достигло Шелли не раньше апреля. Он
был знаком с Китсом и никогда не питал глубокого личного чувства к нему. Но,
тем не менее, Шелли чтил гений молодого поэта и, узнав о его болезни, в 1820
году, летом, пригласил его к себе в Пизу. Глубоко потрясенный, - более
благодаря своему воображению, чем личным чувствам, - рассказом о смерти
Китса, Шелли почтил его память элегией _Адонаис_, которой должно быть
отведено в литературе место наряду с плачем Мосха о Бионе и плачем Мильтона
о Лисидасе. Дойдя до конца, поэма переходит в страстный гимн, но гимн не
смерти, а бессмертной жизни.
Удовольствие поездки к Байрону в Равенну, в августе, было более чем
омрачено внезапным открытием, которое сделал Байрон, об отвратительном
обвинении, возведенном на Шелли и касавшемся его семейной жизни.
Мэри написала пламенное защитительное письмо, которое Байрон должен был
доставить английскому консулу в Венеции. Но оно не попало к м-ру Хоппнеру,
для которого оно предназначалось, и было найдено в бумагах Байрона после его
смерти. "Что мой нежно любимый Шелли мог быть так оклеветан перед вами, -
писала Мэри, - он, самый кроткий и человечный из людей, это тяжело для меня,
более тяжело, чем я могу выразить словами!" О, если бы они могли бежать в
какое-нибудь уединенное место, подальше от мира с его клеветой! Или, раз это
было невозможно, если бы они могли собрать вокруг себя, в своем доме в Пизе,
хоть маленький кружок верных и честных друзей! В числе их - как они
надеялись - мог быть Байрон, потому что он собирался покинуть Равенну и
желал, чтобы они приискали ему и графине Гвиччиоли дом в Пизе. Лей Гент у
себя дома, в Англии, несколько времени тому назад был опасно болен; он также
мог бы присоединиться к их обществу, и в пользу его мог бы начать
издаваться, при содействии этого литературного союза, новый журнал The
Liberal, о котором раньше шла речь.
"Я полон мыслей и планов", - писал Шелли Генту в 1821 году. Ни один из
его обширных планов не был выполнен; но летом или ранней осенью этого года
он быстро написал свою _Элладу_, замечательную в смысле идеализированного
отношения к современным событиям. В _Персах_ Эсхила он нашел предшествующий
пример пользования текущими событиями. Призрак Магомета II навеян образом
Дария в _Персах_, но вместо песни печали, заключающей собой греческую
трагедию, Эллада оканчивается лирическим пророчеством, которое есть песнь
ликования и любви ко всему миру.
"Лорд Байрон поселился здесь, - писал Шелли из Пизы в январе 1822 года,
- и мы с ним постоянно вместе". Они ездили вдвоем, упражнялись в стрельбе из
пистолета или играли на бильярде и обменивались мыслями относительно
литературных и общественных вопросов. Шелли чувствовал в Байроне великую
творческую силу и восхищался ею. Но временами его отталкивали проявления
более грубой стороны нравственной природы Байрона. Наступивший год привел
еще нового знакомого в Пизу - Эдуарде Джона Трэлауни, молодого
корнваллийского джентльмена, который вел жизнь, полную приключений на море и
на суше. Трэлауни - "с своим обликом странствующего рыцаря, смуглый,
красивый, длинноусый" - заинтересовал Шелли и Мэри больше чем кто-либо из
тех, с кем они знакомились после отъезда Маврокордато. Насколько Шелли
очаровал Трэлауни, можно видеть из _Воспоминаний_ последнего, дающих нам
самый живой образ поэта в последние месяцы его жизни. Трэлауни, Уильямс и
Шелли любили море. Было решено соорудить лодку и нанять на лето дом на
берегу моря, в Спецции. Между тем Шелли работал опять, над своей
исторической драмой _Карл I_, и написал несколько упоительных лирических
стихотворений, вдохновленных грацией и утонченной обаятельностью Джейн
Уильямс, жены его молодого и веселого товарища.
Casa Magni, дом, взятый ими на лето, стоял на краю моря, близ рыбачьей
деревни Сан-Теренцо, на восточной стороне залива Спецции. Первые дни их
пребывания были омрачены горем, поразившим всех - но в особенности то было
горем для мисс Клэрмонт, - смертью маленькой Аллегры в монастыре
Баньякавалло. Мэри была нездорова и находила, что этот одинокий дом у моря
угнетающе действует на ее душу. Измученные нервы Шелли были тревожимы
призрачными видениями; однажды образ Аллегры поднялся с улыбкой перед ним,
над залитым луной морем, всплескивая руками от радости. Но, когда наконец
давно ожидаемая лодка обогнула мыс Порто-Венерэ, поднялось общее ликование и
суматоха ожидания. "У нас теперь есть великолепная игрушка на лето", - писал
Уильямс, который с женой своей занимал часть Casa Magni. Во время жарких
июньских дней, когда Шелли отдыхал в лодке, смотрел с берега на великолепие
моря или в лунные ночи сидел между скал, он писал благородные отрывки своей
последней большой неоконченной поэмы _Торжество Жизни_. Она содержит в себе,
быть может, самые глубокие мысли его жизни; она проникнута трогательным
отречением; в ней есть глубина взгляда, которая достигается путем ошибок, и
тишина, прошедшая через страсть. Своим общим планом и формой стиха эта поэма
напоминает _Торжество Любви_ Петрарки, а в образах своих она временами
приближается к Данте.
За возвращением Клэр в Casa Magni, после двухнедельного ее отсутствия,
почти немедленно последовало несчастье, грозившее серьезной опасностью жизни
Мэри: тяжелые преждевременные роды. Благодаря энергии и находчивости Шелли
ее жизнь была спасена. Но этот подъем нервов опять вызвал у него частые
видения. 19 июня получено было известие, обрадовавшее его сердце - Лей Гент
и его семья прибыли в Италию. Стояла чудная летняя погода. Лодка, на которую
сели Шелли и Уильямс, была спущена на море, и, после благополучного
переезда, они бросили якорь в гавани Ливорно. На следующее утро встретились,
бывшие столь долго разлученными, друзья - Шелли и Гент. "Я в неописуемом
восторге! - восклицает Шелли. - Вы себе представить не можете, как
невыразимо я счастлив". "Вид его был лучше, - писал Гент, - чем когда-либо.
Мы говорили о тысяче вещей - мы предвкушали тысячи радостей". В понедельник,
8 июля, вид неба, казалось, предвещал перемену погоды; но ветер был
благоприятный для возвращения в Леричи.
Между часом и двумя пополудни лодка оставила гавань. Ее видели за
десять миль, в открытом море, по направлению к Реджио; потом темнота летней
грозы скрыла ее из виду.
Между тем Мэри, которой очень не хотелось отпускать Шелли, и Джейн
Уильяме бодрствовали и ждали. Проходили дни страдания и страшных недоумений.
Наконец осиротевшие женщины не в силах были больше ждать и поехали в Пизу,
чтобы расспросить Байрона и Гента. Даже тогда еще не вся надежда была
утрачена; лодку могло отнести к Корсике или на Эльбу. Мэри и Джейн поспешили
назад в Леричи, так как Трэлауни решил возобновить поиски по направлению к
Ливорно. Вечером 19 июля он вернулся. "Все кончено, - пишет Мэри, - все
спокойно теперь; их тела выброшены на берег".
Два тела были выброшены на морской берег, одно по дороге к Реджио,
другое на тосканском берегу. По высокой стройной фигуре, по тому Софокла и
поэме Китса, находившихся в карманах, был узнан Шелли. Согласно со строгим
законом итальянского карантина, тела должны были бы остаться в песке,
засыпанные негашеной известью. Но, благодаря особому разрешению, позволено
было их сжечь. При этом присутствовали Трэлауни, Байрон и Гент. Сердце Шелли
было выхвачено из пламени Трэлауни; пепел был благоговейно собран. На старом
протестантском кладбище в Риме, там, где лежит тело малютки Вильяма, вблизи
от могилы Кайя Цестия, был предан земле ларец, содержавший в себе прах
Шелли.
Перси Биши Шелли (англ. Percy Bysshe Shelley; 4 августа 1792, графство Сассекс — 8 июля 1822, утонул в Средиземном море между Специей и Ливорно) — один из величайших английских поэтов XIX в, муж Мэри Уолстонкрафт Шелли.
Своей пламенной верой в полновластный и всеразрешающий разум, своим полным пренебрежением к унаследованным от прошлого человеческим воззрениям, верованиям и привычкам Шелли принадлежит ещё к последователям идей века Просвещения. «Политическая справедливость» Годвина, проникнутая целиком революционным национализмом девяностых годов XVIII в., стала очень рано его евангелием; но идеи Годвина претворились у Шелли в красивые поэтические видения, смело задуманные и своеобразные. Эти образы, воздушные и туманные, убаюкивают сознание своей дивной художественностью. Как поэт, Шелли принадлежит уже целиком к началу истекшего столетия, к тому блестящему возрождению поэзии, которое мы называем романтизмом. Поэтическое дарование Шелли, таким образом, не вполне соответствует его миросозерцанию. Двойственность Шелли, как рационалиста и романтика, мыслителя и художника, проповедника и поэта, составляет самую характерную черту его гения.
«Шелли научил нас, — пишет профессор Доуден — признавать благодетельность высшего закона, тяготеющего над избранными душами, живущими ради идеи, ради надежды, и готовых претерпеть за них и попреки, и посрамление, и даже принять смерть мученичества. Но этот высший закон, как его представил себе Шелли, — вовсе не добровольное подвижничество или жалкий аскетизм; Шелли и в стихах, и в прозе отдаёт должное музыке, живописи, скульптуре и поэзии и обогащает наше сознание их могуществом. Его только никогда не удовлетворяет эпикурейское наслаждение красотой или удовольствием. Его поэзия вливает в нас божественную тревогу, которую не могут рассеять ни музыка, ни живопись, ни скульптура, ни песня; через их посредство мы поднимаемся к какой-то высшей красоте, к какому-то вожделенному добру, которых мы, может быть, никогда не достигнем, но к которым мы постоянно и неминуемо должны стремиться» («Transcripts & Studies», стр. 100). Женственно-красивый и нежный облик Шелли, с его открытым и вдумчивым взором, заканчивает обаятельность его, как поэта и как человека.
Созерцательная, склонная к мечтательности и к сильным душевным возбуждениям натура Шелли сказалась очень рано, когда ещё ребёнком, в поместье своего деда, он рассказывал маленьким сестрам страшные сказки и забавлялся химическими и электрическими опытами, производившими впечатление алхимии.
Те же интересы преобладают и позже в Итонской школе, куда отец поэта, сэр Тимоти Шелли, деревенский сквайр, отдал своего сына, в надежде ввести его в круг избранной молодежи. В первые годы мы и здесь видим Шелли за чтением страшных романов г-жи Редклиф и Люиса и за химическими опытами. Здесь впервые жизнь показалась Шелли и своей неприглядной стороной.
Суровое воспитание тогдашнего английского юношества жестоко отразилось на чувствительной душе поэта. Он долго помнил издевательства, кулачную расправу, приставанья своих товарищей и наставников. В «Лаоне и Цитне» он вспоминает о них, как о своих «тиранах и врагах». В последние годы пребывания в Итоне занятия Шелли становятся более серьёзными. В нём просыпается потребность творчества.
В 1810, когда Шелли перешёл в Оксфордский университет, он уже был автором двух романов: «Цастроцци» и «Св. Ирвайн». Оба они отражают самый фантастический и грубый романтизм тогдашнего ходячего романа, но несомненно нашли себе читателей. В Итоне Шелли впервые увлёкся и идеями «Политической справедливости» Годвина; его кузина Гарриэт Гров, на любовь к которой благосклонно смотрели его родители, была уже по первым письмам, пришедшим из Оксфорда, встревожена вольномыслием своего молодого друга. На первых порах в Оксфорде Шелли испытал мало новых впечатлений. Он издаёт шутовские стихи, под заглавием: «Посмертные записки Маргариты Никольсон», зачитывается Платоном, Еврипидом, Лукрецием, знакомится с Франклином и Кондорсе, с философией Локка и Юма. Сам университет не произвёл на Шелли, по-видимому, никакого впечатления. Характерная для Шелли жажда прозелитизма и потребность высказываться быстро привели его, вместе с его товарищем и другом Гоггом, оставившим интересные воспоминания (Hogg, «Life of Р. В. S.», Лондон, 1858), к крайне опасному шагу: изданию брошюры о «Необходимости атеизма». Шелли собственноручно распространял эту брошюру среди студентов, рассылал её множеству лиц и быстро распространил её по всему Оксфорду.
Несмотря на то, что его имя не значилось на титульном листе, университетское начальство вызвало Шелли на суд и, после его отказа отвечать на предложенные вопросы, постановлением 25 марта 1811 исключило обоих друзей из числа студентов. О женитьбе Шелли на Гарриэт Гров не могло быть более речи. Отец Шелли на некоторое время запретил ему даже являться домой, назначив ему 200 фунтов (=2000 руб.) ежегодной пенсии, — и 19-летний Шелли раз навсегда был предоставлен самому себе.
Следующие три года жизни Шелли можно назвать эпохой общественно-политических скитаний. Уже как бы приобретя венец гонимого за идею, Шелли в эти годы чувствует себя защитником угнетенных и смелым поборником правды и свободы. В таком свете представлялась ему дружба с Гарриэт Уэстбрук, пансионной подругой его сестер, дочерью богатого трактирщика, подозревавшегося и в ростовщичестве. Увезя эту шестнадцатилетнюю девочку в Эдинбург к Гоггу и женившись на ней в августе того же года, Шелли считал, что спасает её от тирании старого Уэстбрука. Родители Шелли, возмущенные таким неподходящим для наследника баронетского достоинства браком, предложили ему отказаться от наследства в пользу будущего сына или младшего брата. Это ещё более укрепило Шелли в той мысли, что он служит дорогим ему идеям свободы, равенства и справедливости. В таком настроении совершил Шелли свою поездку в Ирландию, где распространял почти собственноручно свою брошюру о даровании равноправности католикам.
Биографы обыкновенно подсмеиваются над этим вмешательством Шелли в политику. Хотя эта пропаганда и кажется наивной, но, читая брошюру Шелли теперь, при свете современных политических отношений Англии, нельзя не признать, что он вовсе не витал в заоблачных мечтаниях, а лишь высказывал взгляды, к которым его соотечественникам предстояло прийти через три четверти века. Все в том же настроении Шелли знакомится вскоре сначала письменно, а затем и лично с Годвином, отдаётся со всем пылом молодости делам благотворительности (преимущественно в Тримедоке, в Карнарвоншире), издаёт ещё целый ряд политических памфлетов и, наконец, пишет свою «Королеву Маб», с длинными примечаниями. Это первый поэтический опыт, ещё слишком полный юношеского риторизма и бледнеющий перед вдохновенной лирикой его последующих поэм. Насколько молодой Шелли ещё мало чувствовал себя в то время поэтом, видно из того, что во время его пребывания в «стране озёр», где жили «поэты-лэкисты» — Саути, Вордсворт и Кольридж, — их поэзия мало заинтересовала Шелли, хотя он и был близко знаком с Саути, и впоследствии влияние «лэкистов» сильно сказалось на его творчестве. Увлечение политическими, социальными и философскими вопросами в то время ещё, по-видимому, сдерживало поэтическое дарование Шелли в слишком узких для него рамках рассудочности. Вскоре для Шелли наступили новые треволнения, и они могут считаться последним толчком к поэтическому творчеству.
Через год после выхода «Королевы Маб» и рождения дочери, названной в честь героини этой поэмы тоже Ианти, Шелли расходится с Гарриэт, и сердце его воспламеняется уже настоящей любовью к дочери Годвина, Мэри. Разрыв с женой и вторичный увоз семнадцатилетней девушки много обсуждались биографами Шелли и обыкновенно толковались не в пользу поэта; в них видели прямолинейное и бездушное приложение теорий свободной любви (жена его была в то время беременна вторым ребёнком и спустя два года утопилась). Разобраться в этих событиях жизни Шелли трудно. По-видимому, Шелли имел какие-то основания подозревать Гарриэт в неверности и даже не считать её будущего ребёнка своим. Гарриэт вскоре сошлась с другим человеком, причём её самоубийство было следствием, с одной стороны, давнишней склонности её к такому концу, с другой — неудовлетворенности в её новой привязанности. Бегство с Мэри Годвин (28 июля 1814) сопряжено с первой поездкой Шелли в Швейцарию, где годом позже он близко сошёлся со знаменитым уже в то время Байроном. Четыре года жизни Ш. с его новой подругой проходят то в Швейцарии, то в Англии. За это время в окрестностях Виндзора возник «Аластор» (1816) (см. также Аластор), первое истинно поэтическое произведение Шелли. Через два года вышла в свет и вторая большая поэма, «Лаон и Цитна», более известная под заглавием «Возмущение Ислама» (1818). Ещё не признанный и известный лишь как автор зажигательной «Королевы Маб», Шелли стоит уже на высоте своего поэтического гения. К этому времени относится и знакомство Ш. с Ли Хантом и с юным, вдохновенным Китсом. Это вступление в литературную среду сказалось как обогащением, так и более всесторонним развитием художественных вкусов Шелли.
Вместе с расцветом его таланта наступает и время полной политической зрелости. Памфлет Шелли «Предложение о реформе избирательных законов во всем королевстве» (1817) указывает на серьёзные знания и трезвые взгляды. Об этом свидетельствует и очерк, озаглавленный: «Философский взгляд на реформы», до сих пор не изданный, но пересказанный Доуденом в одной из его последних статей о Шелли. Для взглядов Шелли этого времени в высшей степени характерны слова его в одном письме к Ли Генту. «Я принадлежу к тем, — пишет Шелли, — кого ничто не может удовлетворить, но кто готов покамест довольствоваться всем, что действительно достижимо». Можно с уверенностью сказать, что юношеские увлечения Шелли разрешились бы серьёзным вступлением его на политическую арену, и здесь Шелли оказался бы, вероятно, более полезным и деятельным, чем член палаты лордов Байрон. В 1815 г. баронетство перешло к отцу Шелли и поэт начал получать ежегодный доход в 1000 фунтов (=10000 руб.), обеспечивавший ему и известное положение в обществе. Но уже в 1816 г., когда утонула его первая жена, жизнь Шелли начинает принимать такой оборот, что о его личном вмешательстве в политику не может быть более речи. Против него вооружается его тесть, Уэстбрук, по ходатайству которого лорд Эльдон, как лорд-канцлер, 17 марта 1817 года постановил лишить Шелли права воспитывать своих детей от первого брака. Основанием этому послужили его связь с Мэри Годвин (несмотря на то что в это время Шелли, овдовев, уже был женат на ней) и главным образом атеистические взгляды, высказанные в «Королеве Маб». Шелли был таким образом как бы объявлен вне закона. Против него восстало и общественное мнение, преследовавшее его до самой смерти. Его поэмы также все ещё не вызывали сочувствия. В горестном настроении Шелли решил покинуть родину. 11 марта 1818 г., вместе с семьей и со сводной сестрой Мэри Годвин, Марией Клермон, матерью маленькой Аллегры, прижитой ею от Байрона, Шелли уехал в Италию.
Четыре года, которые Шелли прожил в Италии, были самыми продуктивными и полными годами его жизни. В первые два года уже возникли его «Освобожденный Прометей» и трагедия «Ченчи», заставляющие думать, что останься Шелли в живых, Англия обладала бы сильным, глубоким и вдумчивым драматургом. В это время расширяются артистические запросы Шелли, характерные для него, как для английского романтика, родоначальника того особого эстетизма, который тянется через Рёскина до Росетти и В. Морриса. Давнишний восторг перед поэзией древней Эллады, перед Гомером, гимны которого переводил Шелли, перед Софоклом, с которым он никогда не расставался, и, наконец, перед Феокритом, чье влияние слышится в одной из наиболее проникновенных поэм Шелли, «Адонанс», написанной за год до его смерти в память рано умершего Китса, весь этот чисто артистический восторг перед Грецией ещё обновляется вестями о греческом восстании и знакомством с одним из его видных деятелей, Маврокордато. Шелли искренно говорит ему: «мы все греки» и задумывает свою «Элладу» (1821).
Под небом Италии — Италии начала века, где вспыхнуло национально-освободительное движение, — Шелли увлекается Данте, с его «Божественной Комедией» и с более близкой лирическому гению самого Шелли. «Vita Nuova». С Италией, «раем изгнанников», как назвал её Ш., связаны, кроме «Ченчи», «Строки, написанные среди Евганейских холмов» и «Юлиан и Маддало». Через посредство итальянского Возрождения Ш. понял и поэтов «старой веселой Англии» времён королевы Бетси, к изысканной прелести которых так внимательно прислушивались поэты-лэкисты и ещё больше Китс. Подобно лэкистам, поэта приковывает к себе и красота природы. Время пребывания в Италии может быть названо самым счастливым периодом в жизни Ш. Первый год, проведённый частью в Ливорно, частью в Неаполе, был омрачен посещением Байрона в Венеции. Ш. был удручен не только распутством Байрона, но и его странным отношением к маленькой дочери Аллегре и к её матери. Несколько позже супругам Ш. пришлось оплакивать потерю своего сына Уильяма, похороненного на том же кладбище в Риме, где покоится теперь и прах Ш. Но уже второй и третий год итальянской жизни, прошедшие частью в Пизе, частью в Ливорно, были полны надежд и разнообразия впечатлений. Кроме Байрона, которого, несмотря на разочарование в нём, как в человеке, Ш. продолжал от времени до времени посещать, к образовавшемуся около него кружку присоединились теперь Медвин и Трелоне, поддерживавшие бодрость духа Ш. Медвин, двоюродный брат Ш., был и товарищем его по пансиону, где он воспитывался до поступления в Итон. От него мы знаем о Шелли-мальчике (см. Th. Medwin, «The life of P. B. S.», Лондон, 1847). Блестящие и остроумные рассказы Трелоне касаются именно последних годов жизни Ш.; он же сообщил всего более подробностей и о несчастной поездке под парусами, во время которой погиб Ш. (см. E. Trelawny, «Recollections of the last days of S. & of Byron», 2 изд., Лондон, 1859; см. также «Records of S., Byron & the author», Л., 1878). Известность Ш. возрастала туго (издание «Ченчи» и «Освобожденного Прометея», вышедшее в Лондоне в 1821 г., пошло в ход лишь после смерти поэта). Написанный в год смерти блестящий очерк: «В защиту поэзии», который справедливо характеризует один из биографов поэта, Шарп, говоря, что «каждый интересующийся поэзией должен не только прочесть, но изучить его», — вовсе не нашёл издателя. В конце мая 1822 г. Ш. с женой и супругами Уильямс жили на берегу моря около Специи, в вилле Casa Nova. Ш., не умевший плавать и не имевший понятия о морском спорте, страстно любил море и вместе с Байроном приобрёл шхуну, названную «Ариэль». Когда прибыла шхуна, у Ш. было несколько видений: то маленькая Аллегра выходила из моря, то какая-то фигура позвала его за собой в гостиную и там, сняв покрывало, оказалась его двойником, исчезнувшим со словами: «Siete soddisfatto». Кто-то видел также Ш. в лесу, когда он в это время был дома. 1-го июля Ш. и Уильямс отправились в Ливорно и оттуда в Пизу, где происходило совещание между Байроном и Ли Гентом по поводу затеянной первым газеты. На возвратном пути Ш. вновь шёл на шхуне «Ариэль» с Уильямсом и лишь одним мальчиком в виде матроса, а Трелоне следовал на яхте Байрона, «Боливар». Скоро из-за густого тумана «Ариэль» не был более виден, а после быстро налетевшего непродолжительного, но сильного шквала от «Ариэля» не оставалось уже и следа. Через несколько дней море выкинуло два трупа, оказавшихся Ш. и Уильямсом. Труп Ш. был сожжен на месте, и урна с его прахом отослана в Рим, где она покоится на протестантском кладбище рядом с останками поэта Китса и маленького сына Ш. В карманах Ш. были найдены томики Софокла и Китса.
http://lib.ru/POEZIQ/SHELLY/
Свидетельство о публикации №104042800337